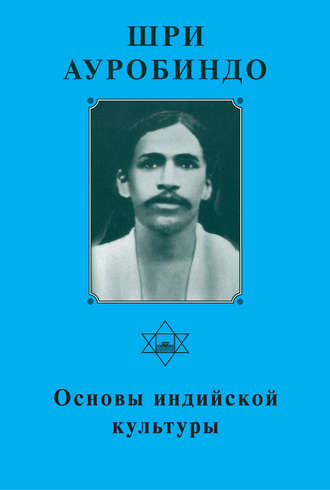
Шри Ауробиндо
Шри Ауробиндо. Основы индийской культуры
2
Лучше начать с точного определения типа критики, на которой мы намереваемся строить наши оценки противоположностей. Мы имеем перед собой представления об индийской культуре среднего и типичного человека Запада, человека достаточно образованного и широко начитанного, отнюдь не гения с редкостными данными, а скорее человека с талантом, способствующим умеренному преуспеянию, не слишком гибкого, не обладающего достаточной широтой ума, напротив, человека четких и определенных воззрений, которые поддерживаются и обретают видимость весомости благодаря навыку к правильному использованию разнообразной, хотя и не всегда достоверной информации. На самом деле, это ум и позиция среднего англичанина, не лишенного способностей, но сформировавшегося под влиянием журналистики. Именно то, что нам нужно для понимания природы антагонизма, побудившего Редьярда Киплинга – который и сам супержурналист и «укрупненный неестественный» средний человек, посредственность, приподнявшаяся, но не переставшая быть собой от блеска своеобразного грубого и варварского дарования, – утверждать вечную несовместимость Востока и Запада. Давайте посмотрим, что именно такой ум воспринимает как ни на что не похожее и отвратительное в менталитете и культуре Индии; если мы в состоянии подавить в себе чувство личной оскорбленности и бесстрастно рассмотреть это явление, мы найдем такое исследование интересным и поучительным.
Можно возразить, что не стоит придавать столь широкие представительские качества критику-рационалисту с определенной политической предубежденностью, образ мышления которого принадлежит в лучшем случае сегодняшнему дню, впрочем уже становящемуся днем вчерашним. Взаимонепонимание континентов есть результат долго складывавшихся исторических различий, а рассматриваемая нами книга касается только одной фазы – современной нам. Но как раз в нынешнее время, в эпоху научного и рационалистического просвещения различия сделались особенно заметными, непонимание приобрело особенно агрессивный характер, а ощущение несовместимости культур стало осознанным и самоочевидным. Античный грек, полный непредвзятой интеллектуальной любознательности и готовый к свободным эстетическим оценкам, вопреки своей убежденности в расовом и культурном превосходстве над варварами, был несомненно ближе к индийскому уму, нежели типичный современный европеец. Не только Пифагор или какой-либо философ-неоплатоник, не только Александр или Менандр,[34] были способны с большей готовностью понять корни азиатской культуры, но и человек умеренных талантов, скажем Мегасфен, обладал пусть и не глубоким и совершенным, но достаточно широким видением и пониманием. Средневековый европеец при всем его воинствующем христианстве и предубежденности против неверных и язычников все же напоминал своего оппонента многими характерными особенностями видения и восприятия до такой степени, каковая более не является достижимой для современного европейца – если только ум последнего не проникся новыми идеями, которые вновь сокращают разрыв между континентами. Эта рационализация западного ума, рационализация даже религиозных идей и чувств так увеличила разрыв, что он начал казаться непреодолимым. Наш критик представляет эту подчеркнутую враждебность в экстремальной форме, в облике, который проистекает из необдуманного вольномыслия, свойственного для тех, кто не переосмыслил для себя эти серьезные проблемы, но впитал свои воззрения из культурной среды, из интеллектуальной атмосферы эпохи. Такой человек всячески преувеличивает точки расхождения, однако именно от преувеличения они становятся особенно ясными и понятными. Такой человек компенсирует недостаточность верной информации и серьезных знаний инстинктивной безошибочностью нападок на то, что чуждо его менталитету.
Безошибочность инстинкта направила подлинное острие его нападок на индийскую философию и религию. Культуру народа можно грубо описать как выражение осознания жизни, формулируемое в трех аспектах. Есть аспект мысли, идеала, возвышающей воли и устремлений души; есть аспект творческого самовыражения и оценочного эстетического чувства, разума и воображения; и есть аспект практический и внешний. Философия народа и возвышенное мышление представляют нам наиболее чистую, широкую и общую формулировку его осознания жизни и динамический взгляд на существование. Религия народа формулирует в наиболее интенсивном выражении его возвышающую волю и устремления души к осуществлению наивысшего идеала и импульса. Искусство, поэзия, литература народа есть его творческое выражение, отпечаток его интуиции, воображения, жизненного устремления и творческого разума. Формы его общественной и политической организации являются основой для посильных внешних проявлений того вдохновляющего идеала, особого национального характера и природы, которые сформировались в трудных условиях окружающей среды. Видно, сколько вошло сюда грубого материала повседневной жизни, как он был переработан – насколько возможно – в концепции национального сознания и глубинного духа. Ни одним из этих компонентов полностью не выражается дух, скрытый за ними, однако именно дух диктует основные концепции и культурные формы. Взятые вместе, они представляют собой душу, ум и тело народа. В индийской цивилизации ведущую роль играют философия и религия: философия, которой религия придает динамичность, религия, которой философия придает просвещенность; все прочее следует за ними в меру возможности. Это и есть отличительная черта Индии, которую она разделяет с цивилизациями других развитых народов Азии, с той лишь разницей, что в Индии она была доведена до чрезвычайной степени всеохватности. Когда ее называют брахманической, то имеется в виду именно это обстоятельство. Дело тут не в жреческом доминировании, хотя роль жречества поистине бросается в глаза в некоторых, более примитивных аспектах культуры, однако священнослужитель, как таковой, никогда не имел отношения к формированию великих основ культуры. Несомненно, основные мотивации культуры были заданы философами и религиозными мыслителями, но далеко не все они были брахманами. Тот факт, что возник класс людей, чьей заботой стало сохранение духовной традиции знания и священных законов, которыми жил народ, – именно это, а не жреческое ремесло было подлинной обязанностью брахманов, – что этот класс сумел на протяжении тысячелетий сохранить огромное, хотя и не монопольное влияние на ум и совесть народа, на формирование социальных принципов, форм и манер, этот факт характерен сам по себе. Суть же в том, что индийская культура с самого начала была и остается поныне культурой духовной, обращенной внутрь человека, культурой религиозно-философской. Все прочее в ней проистекает из этой главной изначальной особенности или же зависит от нее и подчиняется ей; даже внешние проявления жизни подчинены духу, обращенному внутрь.
Наш критик ощутил важность этой главной особенности и направил против нее острие самых беспощадных нападок; в других вещах он готов идти на уступки, допускать возможность вариантов – но не здесь. Здесь все должно быть плохо и вредоносно, если не пагубно, то бесполезно в силу самой природы главных идей и мотиваций. Весьма знаменательный подход. Естественно, в нем присутствует элемент полемичности. То, что заявляется индийским умом и цивилизацией как высокая духовность, вершина мысли и веры, пронизывает собой индийское искусство и литературу, религиозную практику и социальные идеи, затрагивает даже отношение простого человека к жизни. Если согласиться с заявленным, как это делают все симпатизирующие или беспристрастные исследователи, даже когда они не разделяют индийских взглядов на жизнь, то в этом случае индийская культура существует, цивилизация Индии имеет право на жизнь. Более того, она имеет право бросать вызов рационалистическому модернизму и утверждать: «Достигни сначала моего уровня духовности, прежде чем претендовать на то, что ты способен меня разрушить или заменить, прежде чем призывать меня к модернизации сугубо на твой лад. Не имеет значения, что я в последнее время утратила прежние высоты, что в нынешней своей форме я не в состоянии отвечать всем требованиям грядущего разума человечества, – я могу подняться на ноги, во мне есть сила. Возможно, я даже сумею выработать духовный модернизм, который и тебе поможет выйти за нынешние пределы и создать гармонию более всеобъемлющую, чем все, что тебе удавалось в прошлом и о чем ты только можешь мечтать в настоящем».
Враждебно настроенный критик чувствует, что должен на корню уничтожить подобные претензии. Он старается доказать бездуховность индийской философии, представить индийскую религию в виде иррационального анимистического культа чудовищного. В этой попытке, которая есть не что иное, как попытка поставить Истину с ног на голову и принудить ее воспринимать факты вверх ногами, наш критик приходит к парадоксальному абсурду, к несостоятельности, опровергающей силой грубейшего преувеличения его же собственные концепции. Тем не менее, здесь возникают два по-настоящему серьезных вопроса. Во-первых, позволительно спросить, что лучше для человечества: религиозно-философский подход к жизни и цивилизация, пронизанная его идеями и мотивами, или же рационалистический и внешний подход и удовлетворение, получаемое витальным человеком от его интеллектуальных и практических ценностей. Признавая ценность и силу духовной концепции жизни, позволительно спросить, является ли ее выражение в индийской культуре наилучшим из возможных и самым полезным для продвижения человечества к его наивысшему уровню? Вот о чем может вестись спор между азиатским или древним умом и европейским или современным интеллектом.
Типичный западный ум, все еще остающийся продолжением менталитета XVIII и XIX веков, почти целиком сформирован вторым подходом, он сжился с виталистической, рациональной идеей. Его отношение к жизни не направлялось философской концепцией существования, исключая только недолгий период греко-римской культуры, затронувший ограниченное число мыслящих, высокообразованных людей; постоянно же им управляли жизненные потребности и практический здравый смысл. Этот ум оставил позади эпохи, в которые духовные и религиозные концепции, заносимые с Востока, как бы налагались на виталистическую и рациональную тенденцию – Запад в целом отбросил их или задвинул в дальний угол. Религия Запада – это религия жизни, религия земли и земного человечества с идеалом интеллектуального роста, жизненной целесообразности, физического здоровья и удовлетворения, рационального общественного устройства. Этот ум отшатывается от соприкосновения с индийской культурой, пугаясь вначале ее непривычности и странности, затем ощущая ее как нечто иррационально-ненормальное, совершенно иное, а часто диаметрально противоположное привычным понятиям, и наконец, захлебываясь в многообразии ее невнятных для него форм. Ему представляется, что ее формы насыщены сверхъестественным, следовательно, как он думает, ложным. В них наличествует и противоестественность, настойчивый уход от принятых норм, от правильных методов и разумных систем – это система, в которой «все не так», выражаясь словами Честертона. Со старой ортодоксальной христианской точки зрения, эта культура должна быть чистой бесовщиной, противоестественным порождением демонов; с точки зрения современной, ортодоксальной и рационалистической, она должна выглядеть мракобесием, не просто иррациональным, но даже антирациональным, чем-то чудовищным, аномальным реликтом иных времен и в самом лучшем случае – пестрой фантазией из восточного прошлого. Несомненно, это экстремальная позиция – именно ее и занимает мистер Арчер, – но непонимание и отвращение следует признать характерными. Они обнаруживают себя даже у тех, кто старается понять индийскую культуру и отнестись к ней с симпатией; тем не менее, средний человек Запада готов отдаться первому импульсивному чувству – ощущению отталкивающего сумбура. Индийская философия недоступна пониманию, это замысловато-несущественное витание в облаках; индийская религия выглядит смешением абсурдного аскетизма и еще более абсурдного, грубого, аморального и суеверного политеизма. Индийское искусство представляется хаотичным нагромождением грубо искаженных или условных форм, нацеленных на иррациональный поиск бесконечного – в то время как искусство подлинное должно быть прекрасным и рациональным воспроизведением тонкого и изобретательного представления о естественном и конечном. Средний европеец осуждает сохранение в индийском обществе анахронистических и полуварварских идей и институтов древности и средневековья. Этот подход, в последнее время несколько изменившийся и отчасти утративший безаппеляционность, но продолжающий существовать, и составляет основу арчеровских филиппик.
Об этом свидетельствует сам характер его возражений против индийской цивилизации. Если очистить их от журналистской риторики, то остается только естественное неприятие рациональным, витальным и практичным человеком такой культуры, которая стремится подчинить разум – надрациональной духовности, а жизнь и деятельность – чему-то более значительному, чем жизнь и деятельность. Философия и религия составляют душу индийской культуры, они неразделимы и взаимопереплетены. Весь смысл индийской философии, весь ее raison d’être[35], есть познание духа, его восприятие и отыскание способа жизни духом; единственная цель философии совпадает с высочайшим смыслом религии. Индийская религия черпает все характерные для нее ценности из духовной философии, которая освещает ее наивысшие устремления и окрашивает даже большую часть упрощенных форм религиозного опыта. Начнем с философии: что в ней не нравится мистеру Арчеру? Его первое возражение сводится к тому, что она чересчур философична. Второе заключается в том, что даже будучи совершенно бесполезным делом, каковым является метафизическая философия, она чересчур метафизична. Третье обвинение, самое позитивное и правдоподобное – эта философия ослабляет и убивает личность и силу воли ложными понятиями пессимизма, аскетизма, Кармы и переселения душ. Если разобрать каждое из обвинений по отдельности, то становится ясно, что мы имеем дело не с беспристрастным интеллектуальным анализом, но с преувеличенным выражением умственного неприятия и с фундаментальной разницей темпераментов и позиций.
Мистер Арчер не может отрицать – это было бы слишком даже при его несравненных способностях к нелепым утверждениям, – что индийский ум проявил чрезвычайно высокую активность и плодовитость именно в философском мышлении. Он не может отрицать, что знакомство с метафизическими концепциями и способность к достаточно тонкому анализу метафизических проблем распространены в Индии больше, нежели в любой другой стране. Даже человек среднего интеллекта в Индии способен понять и разобраться в вопросах такого толка, в то время как западный человек равного образования и одаренности будет так же бесплодно биться над ними, как мистер Арчер на этих страницах. Тем не менее, он отрицает, что упомянутые знание и гибкость ума прямо свидетельствуют о больших умственных способностях; «не обязательно», добавляет он, видимо, уворачиваясь от предположений, что поставил под сомнение умственные способности Платона, Спинозы или Беркли. Возможно, что это «не обязательно» и не является прямым доказательством, но это показывает замечательное и уникально широкое развитие умственных способностей и интереса применительно к большому ряду труднейших вопросов. Способность европейского журналиста к обсуждению с известной ловкостью вопросов экономики и политики или, скажем, искусства, литературы и театра «не обязательно» доказывает наличие у него великого ума, но демонстрирует высокий уровень развития европейского мышления в целом, широкое распространение информации и среднее умение ориентироваться в избранной области. Примитивность его воззрений и подхода к избранной теме может показаться наблюдателю как бы «варварством», но само по себе это все же свидетельствует о наличии культуры, цивилизации, высокого интеллектуального и гражданского уровня, равно как и достаточно широкого круга интересов. Но мистеру Арчеру нужно избежать подобного умозаключения в отношении Индии, а это материя более сложная и трудная. Он справляется с этим попросту: отрицая ценность индийской философии; для него деятельность индийского ума есть не имеющее себе равных прилежание в познании непознаваемого и в размышлении о немыслимом. А почему? Да потому, что в области философии невозможен «критерий ценности», это область спекуляций, неподдающихся проверке, и мысль здесь имеет мало ценности или не имеет совсем.
Тут мы подходим к действительно интересному и характерному противостоянию позиций, более того, к различию в самом складе ума. Уже говорилось, что это – скептическая аргументация атеиста и агностика, которая, вместе с тем, является крайним логическим выражением подхода, присущего среднему европейскому уму, подхода, по сути, позитивистского. В Европе философией занимались люди высочайшего ума, интеллектуальные плоды их занятий величественны и благородны, однако философия была отделена от жизни и при всей своей возвышенности и великолепии была неэффективна. Поразительно: в то время как в Индии и Китае философия охватила собой жизнь, оказала огромное практическое влияние на цивилизацию, стала костяком современной мысли и действия, в Европе она так никогда и не приобрела подобного значения. Философия оказывала влияние во времена стоиков и эпикурейцев, но только в ограниченной среде людей культурных; в наши дни наблюдается нечто вроде возрождения этой тенденции. Разумеется, можно говорить о влиянии Ницше, о воздействии на Францию некоторых французских мыслителей, о внимании общественности к философским взглядам Джемса и Бергсона – но это ничто по сравнению с воздействием азиатской философии. Средний европеец ориентируется не с помощью философии, а с помощью позитивного и практического здравого смысла. Он не презирает философию, как это делает мистер Арчер, но считает ее если не «человеческой иллюзией», то во всяком случае занятием довольно туманным, отдаленным от жизни и малоэффективным. К своим философам он относится почтительно, но ставит их труды на самую верхнюю полку цивилизации, откуда их могут доставать в чрезвычайных обстоятельствах немногие избранные. Он восхищается философией, но не доверяет ей. Платоновская мысль о том, что философы должны управлять обществом, ему кажется и фантастической, и непрактичной: именно потому, что философ имеет дело с идеями, он не может понимать реальную жизнь. Индия занимает противоположную позицию: риши, мыслитель, провидец духовной истины, считается наилучшим руководителем не только в делах религии и морали, но и в практических житейских делах. Просветленный провидец-риши есть природный руководитель общества; индиец приписывает риши идеи и мотивы своей цивилизации. Даже в наши дни Индия готова назвать именем риши всякого, кто может, открывая духовные истины, помочь ее жизни или с помощью конструктивных идей и вдохновения оказывает влияние на религию, этику, общество, даже на политику.
Причина в том, что индиец верит: наивысшая истина есть истина духа, истина духа есть самая фундаментальная и эффективная из истин нашего бытия, способная мощно творить внутреннюю жизнь и здраво реформировать жизнь внешнюю. Для европейца наивысшими истинами, как правило, являются истины образующего идеи интеллекта, чистого разума, но истины, интеллектуальные или духовные, все равно входят в область, находящуюся за пределами обычной сферы ума, жизни и тела, в которой только и возможны повседневные «проверки ценности». Проверкой могут служить только факты, только переживаемый опыт, только позитивный и практический разум. Все остальное – домыслы, место которым в мире идей, но не в реальном мире. Так мы подходим к различиям в позициях, которые и составляют суть второго обвинения мистера Арчера. Он считает, что вся философия – это домыслы и догадки, единственно достоверным, надо полагать, он считает факт, физический мир и наши реакции на него, достижения естественных наук, психологию, построенную на естественнонаучной основе. Индийскую философию он укоряет за то, что она всерьез относится к собственным догадкам, преподносит рассуждения под видом догматов, «недуховно» принимает поиск за находку и догадку за знание – вместо того, надо думать, чтобы духовно принимать физические ощущения за единственно познаваемое, знание тела за знание духа и души. Он преисполняется горького сарказма от идеи, будто философская медитация и йога открывают наилучший путь к установлению истины Природы и строения вселенной. Арчеровские описания индийской философии есть грубо невежественное искажение ее идеи и духа, однако, по сути, это и есть позиция, неизбежно занимаемая нормальным позитивистом Запада.
На самом деле индийская философия не приемлет домыслов и догадок. Европейские критики постоянно описывают в этих терминах мысли и выводы Упанишад, философских сочинений буддизма, однако индийские философы ни за что не согласились бы с таким описанием их метода. Если наша философия признает Наивысшее невообразимым и непознаваемым, то она и не ставит своей задачей позитивное описание или анализ этой Тайны – нелепость, которую ей приписывает рационалист; философия углубляется лишь в то, что мыслимо и познаваемо как на самом высоком, так и на более низких уровнях нашего существования. Если наша философия сумела сделать свои заключения предметом религиозной веры – догмами, как их здесь зовут, то причина в том, что она сумела положить в их основу жизненный опыт человека, который и является лучшей проверкой их достоверности. Индия не признает единственной проверкой ценности или достоверности научный анализ, изучение физической Природы или повседневный нормальный опыт психологии, ибо он есть лишь малое продвижение относительно огромных скрытых высот и глубин подсознания и сверхсознания. Что может быть проверкой этих более естественных или объективных ценностей? Очевидно – опыт, экспериментальный анализ и синтез, разум, интуиция: насколько мне известно, современная философия и наука признают ценность интуиции. Истины более высокого порядка проверяются тем же – опытом, экспериментальным анализом и синтезом, разумом, интуицией. Однако, являясь истинами души и духа, они должны проверяться опытом психологическим и духовным, экспериментами по психологическому и духовному анализу и синтезу, развитой интуицией, способной проникнуть в явления высшего порядка, реальности и потенциалы существования, разумом, признающим нечто за пределами себя, способным заглянуть в надрациональное настолько, насколько позволяют человеческие способности. Йога, отказаться от которой столь настойчиво призывает нас мистер Арчер, есть не что иное, как хорошо проверенные методы раскрытия более обширного опыта.
Мистер Арчер и ему подобные знать этих вещей не могут – это находится вне пределов ограниченного набора фактов и идей, представляющих в их глазах всю полноту знания. Но и знай все это мистер Арчер, ничего бы не изменилось: с пренебрежительным нетерпением он отверг бы саму мысль о возможности существования непривычной для него истины и не стал бы умалять свое грандиозное рационалистическое превосходство ее рассмотрением. И в этом его бы поддержал средний позитивистский ум, для которого такого рода представления нелепы и непонятны по самой своей природе – они еще хуже, чем греческий или древнееврейский языки, составляющие предмет занятий почтеннейших и достойнейших профессоров, ибо здесь речь идет об иероглифах, которые расшифровывают только индийцы, теософы и мыслители-мистики – компания малопочтенная. Этот ум способен понять догму или мысль о духовной истине, понять священника, Библию, либо не веря, либо принимая их как некую условность, – но говорить о глубочайшей, достоверной духовной истине, о решительном утверждении духовных ценностей! Такая идея чужда этому менталитету и кажется ему абсурдной. Он способен понять, даже отрицая, положения авторитетной религии – «верую, ибо это рационально невозможно», но глубочайшая тайна религии, высочайшая истина философской мысли, предельное открытие психологического переживания, систематическое и упорядоченное исследование самого себя, самоанализ, конструктивная внутренняя возможность самосовершенствования – все приводящее к единому результату, согласующееся одно с другим, примиряющее дух с разумом и с глубиннейшими потребностями психологической природы: великий, издревле начатый и настойчиво проводившийся поиск, его торжество в индийской культуре – сбивают с толку и оскорбляют заурядный позитивистский ум Запада. Его сбивает с толку существование знания, к которому Запад едва прикоснулся и которого в конечном счете не принял. В раздражении, в недоумении, в высокомерии он отказывается признать, что эта гармония превосходит его собственную фрагментированную культуру. Он приучен только к религиозным исканиям и переживаниям, несовместимым с наукой и философией, или же колеблется между иррациональной верой и скепсисом. В Европе философия подчас становилась служанкой – не сестрой – религии, гораздо чаще она поворачивалась к религии спиной, враждебно или пренебрежительно отдаляясь от нее. Войну религии с наукой можно назвать самым заметным явлением европейской культуры. Даже философия и наука не могли прийти к согласию – они поссорились и разделились. Они сосуществуют в Европе, но не в виде счастливой семьи – гражданская война есть их естественная атмосфера.
Не удивительно, что привыкший к этому позитивистский ум отворачивается от способа мышления и познания, построенного на гармонии, на консенсусе, на союзе философии и религии, на систематизированном и хорошо проверенном психологическом опыте. Ему легче уклониться от вызова, брошенного этой чуждой формой познания, он с готовностью отбрасывает индийскую психологию как смешение самовнушений и галлюцинаций, индийскую религию как смешение антирациональных суеверий, индийскую философию как туманную область необоснованного умствования. Однако душевный покой сторонников этого самоуверенного подхода нарушает огорчительное обстоятельство, умаляющее последствия беспрепятственного и всесокрушающего метода арчеровской критики: в последнее время Запад позволил подтолкнуть себя на путь размышлений и открытий, вполне способный привести к опасному оправданию омерзительного индийского варварства и понудить саму Европу принять кажущийся ей столь чудовищным образ мышления. Становится все более очевидно, что индийская философия на свой лад предвосхитила большую часть былых и нынешних достижений метафизической мысли. Выясняется, что даже наука, с противоположной стороны, пришла все к тем же обобщениям, которые так давно были сделаны в Индии. Индийская психология, отвергаемая мистером Арчером заодно с индийской космологией и физиологией, как нечто надуманное и основанное на догадках – что совершенно ошибочно, ибо в основе ее лежал только строгий опыт – находит себе все больше подтверждений в новейших открытиях современной науки. Фундаментальные идеи индийской религии опасно близки к победе и вполне могут занять ведущее место в новом устремлении универсальной религиозной мысли и духовных поисков. Кто может утверждать, что психофизиология индийской йоги не найдет себе подтверждения, если на Западе и дальше продолжатся исследования некоторых «домыслов и догадок»? И возможно, даже индийская космологическая идея о существовании иных планов бытия, помимо легко воспринимаемого чувствами царства Материи, будет реабилитирована в не столь уж отдаленном будущем? Но позитивистскому уму можно не опасаться – он еще далеко не утратил свою власть, он все еще претендует на интеллектуальную ортодоксальность и престиж; множеству потоков еще предстоит слиться воедино, прежде чем могучая волна объединяющей мысли сокрушит его и понесет человечество к тайным берегам Духа.







