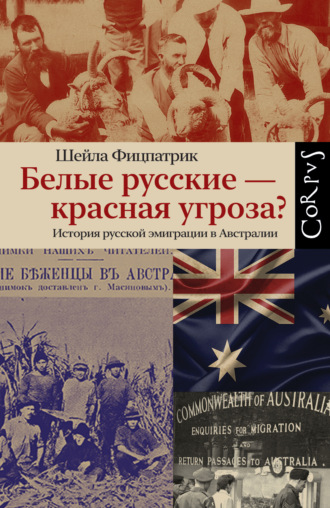
Шейла Фицпатрик
Белые русские – красная угроза? История русской эмиграции в Австралии
С идейной точки зрения, за решением воевать на стороне немцев могли стоять разные мотивы. Сигизмунд Дичбалис, родившийся в Петрограде в семье литовца-военного и русской (или польки), но воспитанный матерью и бабушкой как русский, был, по его собственным словам, настоящим юным советским патриотом. Он добровольцем ушел в Красную армию и попал в немецкий плен. Он оказался в немецком отряде, брошенном на борьбу с партизанами, там его взгляды постепенно начали меняться после того, как он встретил пропагандистов из РОА, которые убедили его в том, что «дело русских, их долг – бороться против Сталина, за мир, за Новую Россию». Последние сомнения покинули его, когда его отряд промаршировал перед самим генералом Власовым[71]. Другой военнопленный и будущий австралийский иммигрант, воевавший на стороне немцев, руководствовался иными мотивами. Лоренц Селенич был родом из Белостока и служил в Красной армии. Выполняя разведзадание на Ленинградском фронте, он случайно наткнулся на немцев и сдался им (немецкий язык он немного знал); потом его послали воевать в составе вермахта во Францию. Никаких идейных соображений у него не было: он сдался в плен, чтобы выжить; позже, уже живя в Австралии, он был одним из очень немногих бывших ди-пи, голосовавших за лейбористов[72].
Попав в плен в годы войны, советские граждане могли оказаться в Германии, это был один из распространенных вариантов. Но еще более многочисленная группа попала в Германию в качестве остарбайтеров: таких насчитывалось примерно вдвое больше, чем военнопленных (4,8 миллиона человек)[73]. Эта вторая группа в отличие от первой уже не представляла собой срез всего мужского населения СССР: там явное большинство составляли украинцы и белорусы (потому что они жили ближе всего к западной границе), а также русские из оккупированных южных областей страны. Кроме того, в этой группе было много женщин.
Среди угнанных на работы в Германию преобладала молодежь обоих полов, многие были еще подростками. Галя Маркова (позднее, в Австралии – поэтесса Гали Плисовская) родилась в Белорусской ССР, но во время оккупации оказалась в Польше, откуда ее увезли в Германию; Иван Гончаров жил с дедом и бабушкой на юге России, в оккупированном Ростове, где его вместе с группой молодых людей заставили работать на заводе. Хотя немцы-оккупанты относились к религии терпимее, чем советская власть, некоторые приходские священники впоследствии рассказывали, что были угнаны немцами в качестве рабочей силы. Возможно, конечно, им было выгодно представлять дело именно так; в действительности людей на работы набирали вначале на добровольной основе, многих никто не заставлял. Люди часто рассказывали о случившемся с ними по-разному, а иногда, быть может, и нельзя было истолковать происходившее однозначно. В начале 1950-х годов, проходя собеседования с сотрудником ведомства, занимавшегося в Австралии подпольной репатриацией в СССР, Павел Комар один раз сказал, что его «увезли» в Германию на принудительные работы, а в другой – что его «заставили поехать за отступавшими немцами», потому что во время оккупации он работал у них механиком[74].
В 1944 году, когда Красная армия наступала по советским территориям, ранее оккупированным немцами, множество людей пересекали западную границу страны добровольно – во всяком случае это не было результатом принуждения со стороны немцев. За границу побежало значительное количество жителей Прибалтики, а также Западной Украины и Западной Белоруссии, включенных в состав СССР в 1940 году, причем иногда эти люди прибегали к помощи немцев. Священника из Западной Белоруссии, Иоанна Лупича, против воли сделавшегося советским гражданином в 1939 году, спасло от ареста советскими властями вторжение немцев в 1941 году, и когда стало понятно, что война близится к концу, он последовал за отступавшими немецкими войсками в Польшу, а затем в Баварию. Латыш Андрис Бичевскис вступил в Риге в ряды СС, но избежал участия в боевых действиях благодаря тому, что был способным баскетболистом; он отправился на запад вместе с отрядом, в котором у него имелся покровитель-немец, но покинул спутников, как только пересек границу. Борис Домогацкий, будущий активист Русского антикоммунистического центра в Австралии, в 1941 году работал в Риге журналистом, а когда советские войска оттуда отступили, он, по его словам, остался в Риге, а впоследствии раздобыл фальшивые документы белого русского и в 1944 году уехал в Германию[75].
Все, кто занимал хоть какие-нибудь видные должности при немецкой оккупации, старались по возможности отбыть вместе с немцами. Белорус Афанасий Мартос, будущий австралийский архиепископ, служил при немцах епископом Витебска; в 1944 году он примкнул к их отступавшим частям и затем вступил в Казачий Стан в Италии[76]. Такой же путь проделал и другой будущий австралийский архиепископ, Феодор Рафальский. При немцах о. Феодор служил викарным епископом в Таганроге, а затем на Волыни. Белорусы Радослав Островский, Всеволод Радзевич и Николай Алферчик работали во время войны на немецкий оккупационный режим и потому при отступлении немцев присоединились к ним. Всех троих Советский Союз признал военными преступниками и тщетно добивался от Австралии их выдачи для суда. Филипп Марфутенко, коллаборационист более мелкого калибра, работал при оккупации в полиции, а ближе к концу войны добровольно уехал вместе с семьей в Германию, – во всяком случае, так об этом рассказывал его сын, который уже в Австралии, словно во искупление вины отца, сам придерживался левых взглядов[77].
Рассказы других людей о пересечении границы иллюстрируют всю пестроту и сложность того выбора, что вставал перед советскими гражданами в военные годы. Сибиряк Александр Карасев, которому после войны предстояло создать казачий ансамбль песни и пляски в Мельбурне, уже создавал подобный коллектив в украинском Краматорске при немецкой оккупации, а когда немцы начали отступление, ансамбль распался. Потом Карасев «оказался» в Германии (это было любимое словечко в автобиографических рассказах эмигрантов первой волны) и успешно сформировал новый музыкально-танцевальный ансамбль уже в Баварии. Актрису Лилию Наталенко немцы взяли в развлекательную труппу, выступавшую на оккупированных территориях России, и впоследствии она уехала вслед за немцами в Берлин; незадолго до окончания войны они с мужем – бывшим советским военнопленным – нашли работу на радио при РОА. Евгений Ющенко жил в области, оккупированной немцами, и, не желая, чтобы его угнали в Германию остарбайтером, смог доехать до Одессы, которая находилась тогда под румынской оккупацией, и устроился там театральным режиссером. Ближе к концу войны он перебрался в Румынию, по-видимому, вместе с отступавшими войсками стран Оси, а оттуда через Венгрию попал в Германию в лагерь перемещенных лиц. Георгий Вирин (Езерский), который в свои двадцать с небольшим лет подавал надежды как скульптор и уже имел знакомства среди московской творческой интеллигенции, был призван в Красную армию, попал в плен, бежал из него и (по его собственному рассказу) сражался в отряде просоветских партизан в Белоруссии, а за два месяца до окончания войны пересек границу и добрался до Люксембурга, где поменял имя и слился с общиной русских эмигрантов[78].
Многочисленную группу (около 14 тысяч человек), оказавшуюся на Западе под защитой отступавших немцев, составляли кубанские казаки с юга России. Их одиссея началась осенью 1943 года, а к весне 1944-го их численность почти удвоилась: к ним продолжали прибиваться все новые беглецы. Среди них были те, кто воевал на стороне немцев, но было и много стариков, женщин и детей, и перемещались они длинными эшелонами – на повозках, лошадях, с домашним скотом и даже с верблюдами. В июле 1944 года эсэсовцы решили оставить казаков в Италии, под Толмеццо, чтобы там они отражали нападения местных партизан. Но сами казаки решили двигаться дальше и устремились в Австрию. К Пасхе 1945 года они прибыли в долину Драу под Лиенцем (по их собственным оценкам, их отряд насчитывал 32 тысячи человек). Среди них были: полковник Михаил Протопопов, донской казак и кадровый военный, вместе с женой и маленькими сыновьями; Исидор Дереза, бывший приходской священник из Донбасса, служивший полковым капелланом[79]; Иван, донской казак, возможно, дезертировавший из Красной армии, примкнувший к казачьему воинству где-то по пути; Настасья, новая жена Ивана (имена обоих вымышленные), намного моложе его, с ней он познакомился на Украине, куда ее, по-видимому, привезли для работ немцы из какой-то другой части Советского Союза[80].
После войны
Разгром немцев и победа союзников в мае 1945 года поставили в сложное положение тех русских, кто добровольно или против своей воли оказался с западной стороны границы. Около миллиона русских и других советских граждан в немецкой военной форме поняли, что им грозит большая беда, поскольку западные союзники с полным основанием могли увидеть в них врагов, а Советский Союз – изменников родины. Тревожно стало даже тем военнопленным, которые не соглашались воевать на стороне немцев, поскольку Сталин ранее объявил их всех предателями, независимо от обстоятельств, при которых они попали в плен. Несмотря на обнадеживающие заверения со стороны Управления Уполномоченного СНК СССР по репатриации, оставалось неясным, в какой мере это заявление вождя все еще оставалось в силе. Повод для беспокойства появился и у остарбайтеров, потому что некоторые из них поехали в Германию по своей воле, а советская власть с подозрением относилась ко всем, кто пересек границу. Это не значило, что СССР не хотел возвращения этих людей – напротив, он настаивал на репатриации всех своих бывших граждан, включая жителей Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии. А среди перемещенных лиц большинство верили в то, что по возвращении в Советский Союз их ждут лагеря[81].
Красная армия наступала с востока, американцы и британцы – с запада, и все три встретились в мае 1945 года в Берлине, после чего Германия и Австрия оказались де-факто поделены на советскую и западную зоны оккупации. Со временем оформились четыре оккупационные зоны: британская, американская, французская и советская. Наименее защищенной категорией, которой грозил арест или уголовное преследование за военные преступления, были лица, действительно воевавшие против Советского Союза: власовцы, постаравшиеся сдаться не наступавшей Красной армии, а американцам, и остатки Русского корпуса (к тому времени находившегося под командованием полковника Анатолия Рогожина), сдавшегося британцам. Из всех подразделений вермахта, сдавшихся западным союзникам, советскими гражданами оказались от 5 до 10 % – это поразительно много[82]. Казаки стояли огромным лагерем в долине Драу вместе с семьями, примкнувшими к ним людьми и домашним скотом и больше напоминали средневековое воинство, чем современное армейское подразделение. Все они перешли под опеку британцев. Теперь все думали только о том, как скрыть следы, выдававшие какие-либо связи с немцами. Андрис Бичевскис, перейдя границу, первым делом выбросил немецкую форму и начал пробираться через Германию в то место, где заранее условился встретиться с родней из Латвии. Лоренц Селенич, командовавший отрядом в вермахте, распустил солдат, закопал военную форму и документы и пошел пешком в Баварию; по пути он батрачил на фермах и в итоге оказался в Регенсбурге как перемещенное лицо. Сигизмунд Дичбалис, бывший власовец, уговорил немца-бургомистра выдать ему фальшивую справку о работе на немецких фермеров[83].
Когда в Берлин вошла Красная армия, за которой следом тянулась молва об изнасилованиях и заражении венерическими болезнями, – а к тому времени в Германии уже находились толпы перемещенных советских граждан, – многим жителям Запада, наверное, показалось, что на Европу вновь нахлынули монгольские орды. Именно так описывал происходившее сэр Рафаэль Силенто – австралиец, известный на родине своей решительной поддержкой политики «Белая Австралия» и занимавший в ту пору важный пост в UNRRA[84]. С присутствием Красной армии ничего нельзя было поделать, так что союзникам оставалось надеяться разве что на быструю репатриацию советских военнопленных и остарбайтеров, которые заполонили пространство. Между Советским Союзом, США и Великобританией – тремя главными союзными державами антигитлеровской коалиции – еще в феврале 1945 года на Ялтинской конференции было достигнуто соглашение, суть которого сводилась к следующему: всех советских граждан, освобожденных американскими и британскими войсками, следует содержать в особых лагерях и обеспечивать надлежащей едой, жилищем и медицинской помощью до тех пор, пока не появится возможность – желательно без малейших проволочек – передать их советским властям. Соглашение было взаимно обязывающим: гражданам союзных стран полагалось точно такое же обращение в случае, если они попадут в руки советских представителей. Неудивительно, что в договоре ни словом не упоминалось о праве самих граждан отказаться от репатриации[85]. Советских военнопленных и остарбайтеров оказалось несметное множество. К концу 1945 года из западных оккупационных зон было репатриировано 2,3 миллиона человек; к 1 марта 1946 года количество возвращенных в СССР граждан перевалило за 4 миллиона, включая репатриированных из зоны советской оккупации[86].
Но некоторые советские военнопленные, опасаясь последствий возвращения, сопротивлялись репатриации[87]. Среди казаков сопротивление было самым отчаянным. Полковник Протопопов, переданный советским представителям вместе с войском атамана Доманова, был разлучен с женой и сыновьями и сослан в лагерь[88]. Кому-то удавалось сбежать: например, Ивану Кононову – казаку-дезертиру, который сражался на стороне немцев всю войну, и православным священникам Исидору Дерезе и будущему архиепископу Афанасию Мартосу (войну они заканчивали, будучи полковыми священниками в Казачьем Стане)[89]. В Лиенце передача казаков в руки советских представителей в мае-июне 1945 года сопровождалась бурными протестами (британские солдаты избивали смутьянов, несколько человек покончили с собой), это обернулось крайне неприятным опытом для многих британцев, привлеченных к этому процессу.
Вначале командиров – в числе прочих и Протопопова – вызвали куда-то якобы для участия в однодневном «совещании». После того, как никто из вызванных так и не вернулся, казаки устроили массовый молебен под открытым небом: собравшаяся четырехтысячная толпа (с 15–20 священниками) молилась и пела псалмы. К 7 июня 20 тысяч казаков из отрядов Доманова были переданы в советские руки. Иван и Настасья, находившиеся в Лиенце среди рядового состава, скрылись вместе с четырьмя тысячами других отчаянных. Парочка убежала в горы и пряталась там около трех месяцев; им повезло, их так и не нашли, 1 300 других беглецов изловили в течение первого месяца, после чего охота постепенно прекратилась[90]. Во всем мире среди казачьей диаспоры Лиенц сделался синонимом страданий, выпавших на казачью долю. Позднее в православных храмах Австралии начали отправлять особые ежегодные богослужения, чтобы молиться о душах казаков-мучеников, принявших смерть в «бойне при Лиенце»[91].
Сигизмунд Дичбалис оказался в группе людей, которых американцы передали советской стороне. «Громких протестов не было», – вспоминал Дичбалис. Большинство в этой группе составляли остарбайтеры, угнанные в Германию насильно, и они хотели вернуться на родину. Даже сам Дичбалис – власовец, которому грозило наказание в случае возвращения, – по-видимому, оставался в нерешительности. Пережив всякие злоключения, он попал в советский фильтрационный лагерь Смерша – сеявшей ужас советской контрразведки, занимавшейся поиском военных преступников в Европе и возвращавшей их в СССР. Однако Дичбалис близко сошелся со смершевским начальством, снабжал его самогоном, добытым у местных немцев. Лишь после того, как женщина-майор Смерша, с которой у Дичбалиса была любовная связь, предупредила его о смертельной опасности, которая грозит ему на родине в случае возвращения, он наконец решился на побег. Скульптор-москвич Георгий Вирин, бывший красноармеец, попавший в плен к немцам и бежавший оттуда, тоже угодил в руки смершевцев и был помещен в лагерь, но ему удалось бежать. Бывшему военнопленному Ивану Богуту «удалось выскользнуть из рук английских солдат [собиравшихся выдать его советской стороне. – Авт.] и перейти в американскую зону»[92].
Поначалу союзники сотрудничали с советской стороной по вопросу о возвращении пленных и угнанных на работы – как они и должны были действовать, выполняя договоренности, достигнутые в Ялте, и повинуясь собственному здравому смыслу (ведь в руках советских представителей находились британские и американские военнопленные). Уже на раннем этапе исключения стали делаться для советских граждан из Прибалтики и – несколько реже – для западных украинцев и западных белорусов, до войны имевших польское гражданство, а затем из-за пакта Молотова – Риббентропа против своей воли оказавшихся в Советском Союзе и получивших советские паспорта. СССР утверждал, что и эти люди подлежат возвращению наряду с теми, кто имел советское гражданство задолго до начала войны, но союзники не соглашались с этими притязаниями. Советы не требовали возвращения довоенных эмигрантов – тех, кто никогда и не имел гражданства СССР, и американцы официально исключили их из списка репатриантов[93], хотя, как показывает случай Протопопова, в общей неразберихе иногда допускались и ошибки.
Вскоре отношения между СССР и западными союзниками испортились, поскольку союзники все чаще отказывались удовлетворять требования о репатриации советских граждан даже в тех случаях, когда речь шла о выдаче конкретных, названных по именам военных преступников. И тогда Советский Союз стал прибегать к похищениям силами Смерша. Настасью и Ивана в конце концов поймала австрийская полиция, однако их не передали советской стороне, а отправили в лагерь перемещенных лиц в австрийском Капфенберге в британской зоне оккупации[94]. Особенно несговорчивыми оказывались западные союзники, когда речь заходила о выдаче русских, имевших связи с западной разведкой. Американцы и британцы тайно освободили нескольких видных лидеров НТС из числа коллаборационистов, поскольку хотели, чтобы НТС продолжал проводить операции по внедрению агентов на территории СССР и в советском секторе Германии. Белорус Николай Алферчик, член НТС и нацистский пособник, встретил конец войны в качестве военнопленного в Австрии, попав в руки американцев, но к 1948 году ему удалось установить связи с американской контрразведкой, и там ему изготовили фальшивые документы на имя Николая Павлова и в 1951 году помогли переехать в Австралию[95].
В оккупационных зонах, где действовала администрация стран-союзниц, советских граждан и жителей стран Восточной Европы, насильственно привезенных в Германию и Австрию во время войны, регистрировали в качестве перемещенных лиц и размещали в лагерях ди-пи, обустроенных в более или менее подходящих для этой цели помещениях, которые удавалось подыскать. Лагерями совместно управляли UNRRA (а позднее IRO) и военная администрация соответствующей оккупационной зоны (британской, американской или французской). Первой непростой задачей каждого беженца было доказать, что он имеет право на статус перемещенного лица. Военные преступники и коллаборационисты не могли претендовать на этот статус, как и этнические немцы, переселенные при Гитлере из Восточной Европы (так называемые фольксдойче), и довоенные русские эмигранты, натурализовавшиеся в каком-либо европейском государстве до войны[96]. Но эти правила не всегда строго соблюдались. Например, православный священник Игорь Сусемиль родился в 1919 году и вырос в Берлине, в немецкой культурной среде, хотя и учился в русской гимназии. Как гражданина Германии его призвали на службу в вермахт. Однако после войны, уже будучи духовным лицом, он сумел получить статус перемещенного лица и сделаться священником в лагере ди-пи в Констанце, после чего ему предоставили возможность эмигрировать в Австралию. Удалось попасть в лагеря перемещенных лиц и нескольким коллаборационистам, которых СССР впоследствии обвинил в военных преступлениях: так, украинец Филипп Капитула попал туда под видом поляка, а эстонец Эрвин (Эрвинг) Викс получил не только статус ди-пи, но и работу в штате UNRRA[97].
Ко времени окончания войны белые русские попали в непростое положение. По правилам UNRRA, они могли претендовать на статус ди-пи, если подверглись вторичному перемещению вследствие того, что Германия оккупировала те страны, где они нашли прибежище во время войны (это были Югославия, Польша, Чехословакия, Прибалтика), но только в этом случае. Впрочем, и это было в теории, а на практике случалось всякое. Как конфиденциально сообщал один британский чиновник, «спасительным шагом для этих белых русских было бы, наверное, просто затеряться в массе беженцев, а дальше уж UNRRA поможет им как-нибудь выкрутиться»[98]. Можно не сомневаться, что многие пускались на всевозможные уловки, чтобы вот так «затеряться». С приходом IRO положение белых русских улучшилось и формально, поскольку в сферу ответственности IRO попадали не только перемещенные лица, но и беженцы вообще, а главными беженцами оказывались в основном обладатели нансеновских паспортов из первой волны русской эмиграции. Так или иначе, большинство из них в итоге или попали в лагеря ди-пи, или устроились где-то за пределами таких лагерей, но уже получив статус перемещенных лиц[99].
В обращении с белыми русскими требовалась особенная деликатность, ведь многие из них были в прошлом пособниками нацистской Германии. Председатель Комитета евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей, а впоследствии знаменитый «охотник за нацистами» Симон Визенталь изо всех сил бил тревогу, заявлял, что бывшие коллаборационисты под видом перемещенных лиц получают помощь от IRO[100]. Однако среди британских официальных лиц было немало тех, кто симпатизировал белым русским, хотя и было известно, что многие из них служили в Русском корпусе в составе вермахта. Чиновники, работавшие в зоне оккупации, отзывались об этих русских как о людях, которые «в силу своей высокой дисциплинированности, порядочности, способности вести достойную жизнь в обществе, несмотря на множество выпавших им превратностей, могли бы стать прекрасным приобретением… для любой страны». Они характеризовали белых русских и так: «Бесспорно лучшая категория перемещенных лиц в нашей зоне». Скорее всего, здесь сыграло свою роль и то обстоятельство, что как минимум один из британских служащих, работавших в администрации оккупационной зоны, сохранил добрые воспоминания о ветеранах Белой армии, которых он четверть века назад помогал эвакуировать из Константинополя[101]. Но сказывалась на отношении западных союзников к белоэмигрантам и новая идеология холодной войны. Энергичная агитация Толстовского фонда[102], созданного в США, способствовала тому, что белых русских начали заранее воспринимать как истинных демократов, борцов с коммунистическим режимом. «В своем героическом стремлении к свободе они смотрят на Запад, видя в нем единственную надежду всего мира на победу в этой решающей борьбе против всех форм тирании и политического террора», – так утверждали представители фонда[103].
В 1947–1948 годах и в Британии, и в США возобладали сильные антикоммунистические настроения. Конгресс США, являвшийся крупным спонсором международных организаций по делам беженцев, счел, что UNRRA чересчур мягко обходится с коммунистами, и со временем эту организацию вытеснила IRO, которая еще больше зависела от американского попечительства и финансирования. Советский Союз был членом UNRRA, но в IRO не вступал[104]. UNRRA считал своей задачей оказание помощи в репатриации не только в Советский Союз, но и в Польшу, Югославию и другие страны Восточной Европы, откуда беженцы были родом. С началом холодной войны в 1947 году, когда на смену UNRRA пришла новая организация, IRO, сменилась и цель миссии: теперь ею стало переселение беженцев за пределы Европы, и изменилась трактовка тех причин, по которым произошло само перемещение ди-пи.
Первоначально под перемещенными лицами подразумевались жертвы войны и фашизма, но мало-помалу появилось и новое – неофициальное – определение: теперь перемещенных лиц стали считать жертвами коммунизма[105]. Рациональное объяснение, стоявшее за этой новой трактовкой, сводилось к тому, что, независимо от непосредственных причин вынужденных перемещений (войны и фашизма), подавляющее большинство ди-пи были родом из Советского Союза и Восточной Европы – то есть из стран, где утвердился коммунистический режим или нечто подобное ему, и что эти люди отказывались возвращаться на родину или из-за своих антикоммунистических взглядов, или из страха перед пагубными последствиями своего возвращения.
СССР неоднократно просил союзников предоставить списки перемещенных лиц советского происхождения, находящихся в их лагерях, и обеспечить доступ к самим этим лицам, но союзники, по сути, игнорировали эти просьбы, не пускали в свои лагеря советских официальных лиц, занимавшихся репатриацией, и заявляли, что среди находящихся под их опекой ди-пи вообще нет советских граждан. Эти заведомо ложные утверждения, очень раздражавшие СССР, на деле подкреплялись тем, что при попустительстве союзников многие перемещенные лица советского происхождения прятались под чужими личинами и присваивали чужие национальности. Дичбалис вспоминал: «…многим из нас, русских, пришлось проглотить нашу национальную гордость и (благодаря тому, что поляки воевали в конце войны вместе с англичанами и американцами) превратиться то в украинцев – польских подданных, то в поляков, а то и в старых эмигрантов – „нансенцев“ (то есть без подданства)». Сам Дичбалис выдал себя за поляка.
Скрыться под чужой личиной было нетрудно. «Всякие советские „комитеты по возвращению“ требовали от УНРА [UNRRA. – Ред.] проверки всех жителей лагеря. Выполняя требования СССР, УНРА вынуждена была проводить „отцовскую руку“ Сталина, правдами и неправдами пытались доказать, что они латыши, поляки – кто угодно, только не подсоветские. Наскоро стряпались липовые документы, справки, метрики, выдумывались биографии. И появились новые Непомнящие, Поплюйки, Яновские, Барановские…» – вспоминал Леонид Артемьев. Они с братом, хорошо знавшие Польшу, помогали другим русским «приобрести необходимые документы»[106]. Члены НТС помогали бывшим советским гражданам прикидываться югославами, изготавливали документы, где те значились довоенными русскими эмигрантами из Югославии, учили их элементарным фразам; меняли имена, печатали документы, выдумывали биографии, устно обучали, рассказывая о повседневной жизни и об истории стран, откуда те якобы происходили[107]. Когда Русская православная церковь заграницей сделала о. Афанасия Мартоса (будущего архиепископа Мельбурна) епископом Гамбургским, в его обязанности входило изготовление «поддельных документов для бывших советских граждан, чтобы их не могли насильно репатриировать и отправить в советские лагеря»[108].
Исследовательница Анна Холиан, подробно изучив лагеря перемещенных лиц, пришла к выводу, что в первые дни существования лагерей и среди русских, и среди украинцев «большинство тех, кто желал вернуться, резко отличалось от меньшинства противников репатриации»[109]. Это большинство вскоре рассеялось – или, по крайней мере, замолчало после отъезда желающих репатриироваться в Советский Союз. Лагеря ди-пи организовывались в основном по национальному признаку: отдельно группировались поляки, украинцы, югославы, латыши, евреи; в них имелись элементы самоуправления и саморегулирования. В выборное руководство лагеря попадали, как правило, пылкие антисоветчики и националисты, и во многих лагерях царила такая атмосфера, что даже те, кто был не против вернуться на родину, опасались заявлять об этом вслух. Широкий круг политических взглядов, ранее наблюдавшийся в лагерях среди белых русских – от «монархистов-самодержавников на правом фланге до меньшевиков и социалистов-революционеров на левом», – сузился, и в политическом диапазоне мнений голоса центристов и левых вскоре практически затихли: радиоэфир монополизировали страстные антикоммунисты, имевшие связи с НТС, Русской православной церковью зарубежом и власовским движением. Власовское движение как «как порождение Советского Союза» считалось самым популярным среди советских перемещенных лиц, намного популярнее, «чем политические течения, связанные со старой эмиграцией». Однако, по мнению Холиан, основная масса русских и украинцев, в отличие от лагерных вожаков и активистов, оставалась политически безучастной и противилась возвращению на родину не по идейным соображениям, а просто из страха перед возможными репрессиями[110].
Беженцы так часто прятались за чужими масками, что почти невозможно ни достоверно установить количество русских среди перемещенных лиц, ни уверенно реконструировать количественные соотношения бывших советских граждан и бывших эмигрантов[111]. Большинство бывших советских русских оказалось в нерусских лагерях (польских, украинских, латышских), и если они еще не успели выдумать себе какую-нибудь другую национальную принадлежность, их побуждали примкнуть к национальной группе, которая преобладала в том лагере, куда их занесло. Впрочем, было несколько нетипичных русских лагерей – в частности, Фишбек (под Гамбургом, в британской зоне) и Мёнхегоф (под Касселем в американской зоне). Лагерь в Фишбеке, где нашли пристанище не только русские, но и западные украинцы-антикоммунисты, был основан в конце 1945 года при поддержке местного Комитета русских беженцев в Гамбурге и имел тесные связи с РПЦЗ и НТС. Руководителем лагеря был Александр Веремеев, белый русский, живший до войны в Югославии. Среди обитателей Фишбека были Леонид Артемьев, Евгений Ющенко и семья Тамары Щегловой[112] – дочери белого офицера, донского казака, и будущей управляющей модного дома в Австралии. Георгий Некрасов окончил в лагере русскую гимназию, а доктор Петр Калиновский, переведенный из польского лагеря, работал там врачом[113]. Название ежедневной газеты, выходившей в лагере, – «Единение» – перешло затем к главной русскоязычной газете Австралии.
Мёнхегоф, лагерь под Касселем в американской зоне оккупации, был весьма примечательным учреждением. Стихийно созданный в июне 1945 года на территории заброшенного военного лагеря стараниями членов НТС из Югославии, впоследствии он был де-факто признан сотрудниками UNRRA/IRO и оккупационными властями. Изначально он представлял собой не лагерь беженцев, а строительное предприятие, и в него даже вошла ранее существовавшая строительная фирма – «Эрбауэр» из Бреста. Под конец войны работники «Эрбауэра», бежавшие на запад, встретили где-то по пути Константина Болдырева, и тот взял инициативу в свои руки. Прирожденный лидер, Болдырев был белым русским, выпускником кадетского училища в Югославии и членом НТС, он великолепно говорил по-немецки и, как потом выяснилось, не хуже владел английским. Приведя группу беженцев в американскую зону, Болдырев «проявил исключительные дипломатические и организаторские таланты, а также умение приспосабливаться к обстоятельствам. Очень скоро он сделался доверенным советником местного американского начальства. Как ему это удалось – остается тайной по сей день…»[114] Если лагерное руководство состояло главным образом из эмигрантов первой волны без подданства, имевших связи с НТС и коллаборационистское прошлое, то большинство рядовых жителей лагеря (около 65 %) составляли советские граждане, решившие не возвращаться на родину. Первая группа покровительствовала представителям второй, подбадривая их и помогая обзавестись новыми поддельными личностями и документами. И действовали они так ловко, что, пока бюрократический аппарат союзников проводил свои процедуры, официально зарегистрированная доля русских эмигрантов, не имевших гражданства, выросла с 35 % до 83 %[115].



