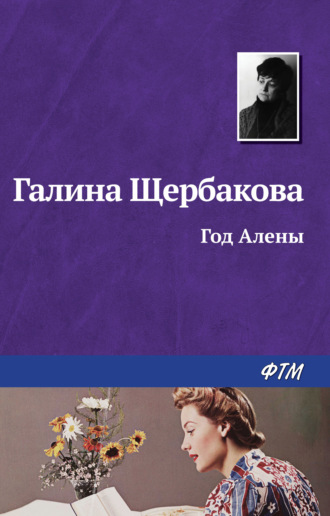
Галина Щербакова
Год Алёны
Но Куня сказала: что хочешь проси, но не это – я никому кланяться не пойду.
Куня качала сейчас головой. Пошла бы – и дали. Все были для этого основания. Самая неудобная комната в их квартире долго стояла пустая, потому что примыкала к туалету, целый день слышно, как работает бачок, а из окна – серая стена с ржавыми потеками.
Но Куня сказала – нет. «Писать жалобные просьбы? Нет уж! Даже ради тебя, Нина, я не перешагну через гордость». И не перешагнула.
Куня снова возвращается в то время, видит все до мелочей. Пришла с работы, а на кровати лежит ее парадный шевиотовый костюм, жабо иголочкой приколото к подушке, на столе документы о гибели Петра и старая справка о том, что у Куни когда-то было ТБЦ. Нина смотрит на нее и говорит складно, убедительно: «Пропиши нас с Женей, я же беременная, попроси ту комнату. Ты же вдова погибшего, тебе не откажут…»
Что ее тогда задело, Куню? То, что без нее Нина в ящик полезла и все достала? Так это был общий ящик, не запирался ни от кого. То, что ее Петиной вдовой для выгоды посчитали, а она после замуж выходила, пусть и неофициально? То, что Нина указала ей путь не спросясь?
Куня сказала – нет. «Никого ни о чем я просить не буду».
И тогда та повалилась на колени.
Нина на коленях была Куне противна. Сколько лет прошло, а все равно она помнит то свое ощущение, ощущение отвращения и гордости за себя, что никогда ни в каких случаях на колени ни перед кем не становилась. Да у нее просто ноги не согнулись бы!
Теперь Куня чувствует: что-то было не так. Отвращение отвращением, а помочь Нине надо было. Это все же фанаберия, при которой ноги не гнутся.
Куня вспомнила, как привезла она Нину в Москву с вокзала. В пятьдесят первом или втором? В то время еще билеты на перроне проверяли. У Нины было платье комбинированное, лицо растерянное, оглушенное. Куня думала: провалится она в университет, куда ей тягаться с московскими школьниками. Поступала дочь ее сослуживицы и завалилась. А такая бойкая девица. Но Нина после всех экзаменов приносила пятерки, и Кунины глаза становились все круглее и удивленней.
– Не может быть, – говорила она, разглядывая экзаменационный лист чуть ли не на свет.
Нина была такой счастливой, что не могло ее коснуться Кунино недоверие и сомнение. Тем более что тетка в конце концов устроила банкет с вином, пирожными, а вечером они пошли с ней в Большой театр на «Лебединое озеро».
Куня встречала Нину вечерами, когда та задерживалась в университетской библиотеке. Стояла в длинном плаще под темной аркой. С палкой. Нашла палку на набережной, длинную, кривую, суковатую. На нее в таком виде подозрительно оглядывались. Однажды одна девчоночка, увидев ее, вскрикнула и побежала прочь.
Куня кинулась ее догонять. Бежала и кричала:
– Не бойся! Не трону! Я не бандит!
Потом Нина и Куня умирали со смеху, разыгрывая без конца эту сцену. Насмеявшись, обе ложились спать. Куня на кровати. Нина на диване. Нину охраняли двенадцать флегматичных слонов с навсегда повисшими носами. Оттого, что перед сном много смеялись, разыгрывался аппетит.
Куня доставала спрятанную между рамами колбасу – холодильник был тогда еще редкостью – и делала бутерброды.
Почему так громко поедаются ночью бутерброды?
Это тоже повод для смеха. Надо же, какое свинячье чавканье!
Они засыпали, когда в кухню отправлялся сосед по квартире. Значит, уже больше двенадцати. Сосед – никому не известный писатель Мыльников. «Пока», – загадочно говорила его жена. Писал он ночами, когда утихала коммуналка.
Только хихиканье, чавканье и тихие шаги по коридору, сопровождающие неспешное течение писательской мысли, нарушали покой ночной.
Куда все делось?
Куда, во-первых, делся писатель?
У него был мелкий, чтоб не сказать мелочный почерк. Куня хорошо это помнит, потому что некоторые страницы попадали в уборную. Куня читала их. Это были ошметки какого-то исторического романа из жизни древнерусских князей.
А потом Нина бухнулась на колени.
«Все у меня встало дыбом, – подумала сейчас Куня. – Надо чаю попить».
Но пришла соседка с накрашенными мимо рта губами, сроду так красит, что смотреть стыдно.
– Ко мне сейчас придут, – сказала томно. – Супруги… Художники… Я их так понимаю. Не из каждого ведь окна…
«Надо куда-то уйти», – решила Куня. Художники и к ней могут ворваться. Был уже случай… Пришли пялиться на колоколенку. «А вы не меняетесь?» – «Да вы что?» – ответила Куня. И сама потом удивилась этому своему «вы что», этой враз взорвавшейся мысли, что она может отсюда уехать.
Но куда ей сегодня деться? На детский сеанс в кино или к Нине, если у той нет уроков? Если пойдет к Нине, скажет: «Знаешь, я тогда была не права… Надо мне было пойти…»
Нина обрадовалась, что приедет тетка. Отношения у них холодноватые, наверное, и не будут другими, и все-таки тетка. Родная душа, хоть и человек другой породы. Даже удивительно, что давным-давно были подружками. Но тогда обе они еще не знали, что они разной породы, разного замеса. Вот это точнее – замеса. Порода-то у них вроде бы одна.
Куня – сводная сестра Нининой бабушки. Значит, по правилам, она ей тоже бабушка. Но зовет ее Нина теткой.
Путаная у них родня. Все из-за прадедушки, который намудрил на старости лет. Уже будучи пожилым вдовцом, он женился на молодой женщине, которая всего на несколько лет была старше его собственной дочери. От молодой жены родились две дочери – Раиса и Куня. Младшая, Куня, дружила с Нининой бабушкой. Старшая, Раиса, с ней же враждовала. Но дружба была далеко – Куня училась в Москве, вражда жила рядом. Раиса родила двойняшек – Стасика и Славика. Они были чуть старше Нины, но отстаивали в отношениях с ней положение дядьев и старших, хоть и пасли вместе коз.
Братья были очень разные. Стасик – черен, как галчонок, худ и ловок в делах и словах. Славик – светел, нежен и имел большие, похожие на листья уши. Когда он говорил, а говорил он всегда мучительно, стесняясь то ли слов, то ли голоса, уши его делались розовыми, теплыми, и в них отчетливо проступали веточки сосудов. «Какой лопоухий», – говорила Нинина бабушка, вкладывая в эти слова слишком много сердца. Дело в том, что, по ее логике, от той женщины не могло пойти нормальное потомство. Оно могло быть только лопоухим, как Славик, или бандитским, как Стасик. Или стервозным, как сама тетя Рая.
Куня – последний всплеск прадедушкиной энергии – была красавицей по тем временам. Это нужно оговорить – по тем временам. Потому что ничто так не менялось за одну человеческую жизнь, как понятие «красивый – некрасивый». У Куни был тогда перманент, зачесанный набок, три заколки строго параллельно держали выложенные волной волосы. Куня была румяна, упитанна, безброва, что было хорошо, потому что бровям полагалось место повыше, что и создавалось при помощи хорошо послюнявленного черного карандаша. Маленькая выпуклая родинка на щеке тоже окрашивалась этим же карандашом. И такая вот русоголовая молодая женщина, помеченная жирно и черно, соответствовала представлению о прекрасном. Не надо забывать и о губах сердечком, которые Куня вырисовывала на больших, полных губах, стыдясь несовершенства своей природы. Она совсем недавно вышла замуж за летчика Петю, и у них была крохотная комнатка на Смоленской набережной. У Куни еще длинные красивые ноги, что хорошо для легкой атлетики. И вообще она не Куня, а Ксения.
Летчик Петя погиб в июне сорок первого. В сорок седьмом Куня вышла замуж за вдовца, а в сорок восьмом нашлась семья ее второго мужа – жена, дети, мать, и он, хороший человек, вернулся к ним. Куня продала свое новое драповое пальто с чернобуркой, накупила для его семьи всего: крупы, консервов, масла, одежек для детей. Такая его провожала веселая, будто он к ней ехал, а не от нее уезжал.
Сразу после этого она приехала к родным. Показывала фотографии «его семьи» и рассказывала, как продавала пальто, как договорилась об одной цене, а из рукава вдруг вылетела моль и из-за этой моли цену пришлось снизить. Нинина бабушка качала головой, а потом купила Куне плюшевую жакетку, а Рая отдала ей толстую суконную юбку, сшитую из офицерской шинели, Куня уезжала от них хорошо по тем временам одетой и отдохнувшей.
– Кончишь школу, приедешь ко мне, – сказала Куня Нине. – Будем жить вместе.
– Замуж выходи, – говорила Нинина мама. – Тридцать лет – самая жизнь… Все еще впереди…
Обе они казались Нине пожилыми женщинами, у которых впереди ничего уже быть не могло. Это у нее все впереди.
Куня могла выйти замуж, когда Нина уже училась в университете. Куня сшила себе платье из модного тогда вишневого панбархата на шифоне. Шила она его суетливо, без радости. И Нине почему-то было за нее стыдно. Она тогда считала, что выходить замуж в Кунином старом возрасте неестественно. Она уже привыкла к Куне, которая давно отказалась от перманента и делала из волос валик. И губы красила чуть-чуть, и брови «носила» свои. Редкие такие, рыжие брови. А тут вишневый панбархат. Из какой-то другой жизни. И пергидроль, превративший Куню сразу в чужую женщину. Точила старый «бровный» карандаш, а он ломался, точила, а он ломался… И Нине это почему-то было приятно. Грифель – не дурак, понимал, для какого зряшного дела найден.
«Замуж» не получилось. Однажды Куне пришло письмо. Каждая фраза в нем была чеканно-победитовая. Почерк красивый, с нижними росчерками. Куня прочла и тупо протянула его Нине.
– Объясни ему, что это неправда! – закричала Нина. – Объясни!
Объяснять было что. Нина знала историю прадеда. Шалопутный прадедушка действительно бузил тогда, в двадцать девятом. Он только-только купил очень молочную корову, хорошего конька, денежные у него пошли годы. Приобрел для фасона старенькую пролетку, ручкался с теми, кто побогаче. А тут такие перемены. «Нет за голью ума», – так всем говорил. Языком и нажил себе неприятности. Осталась за ним в народе кличка Федор-пролетка, а чьи-то протоколы выдолбили слово пострашнее – «подкулачник». Время все выправило, умер прадедушка тихо и спокойно в сороковом году, и на могиле его стоит четырехгранник со звездочкой, как было заведено в те годы. Все как у людей…
Вот это предлагала Нина объяснить Куниному жениху. А объяснять, видимо, надо было, потому что начались у Куни неприятности и на работе. Пришлось даже уйти. Нина стала бояться за тетку. У той было лицо человека, который знает, что ему делать, знает, что дело это – его последнее дело, и ждет только времени, чтоб ударили часы… Спасла ее работа в метро.
Сломленной Куниной душе понадобились прохладные чистые своды «Маяковки». Как будто чистота и порядок станции оградили ее от всего, что висело над ней. Вот тогда-то Куня «запечаталась». Уже не смеялись они по ночам, и Нину она встречала по вечерам молча, потом перестала встречать – появился Женька. Сейчас, издали, это все оказывается рядом. Тогда все было длинно, растянуто. Продавалось панбархатное платье… Почему-то не заклеили на зиму окно… И однажды обнаружили на подоконнике залетевший в комнату снег… Стали срочно клеить, и Нина заболела фолликулярной ангиной… Новый год, а у нее температура под сорок. Куня принесла ветку елки. Запахло праздником, и стало себя жаль… Куня демонстративно легла спать в одиннадцать и выключила свет… Писатель Мыльников стучал им в двенадцать, звал чокаться, но они ему не ответили…
Кому нужны эти подробности, если Нина думала о другом?..
Сейчас, ожидая тетку, она решила, что обязательно скажет ей то, чего никогда не говорила. Тот самый несостоявшийся Кунин жених ведет у них в техникуме занятия по гражданской обороне.
…Они пили чай, заваренный по правилам. На заварном чайнике лежало льняное полосатое полотенце. Нина положила на него руки и подумала, что его приятное тепло ее успокоило. Вообще она стала замечать: изменилось восприятие вещей, явлений. Большое, громкое не задевает, а вот теплый заварной чайник приносит радость.
Куня держала чашечку осторожно, как будто та была невесть каких кровей, и подносила ее ко рту медленно, церемонно. А Нина знала, что чай тетка пьет громко, грубо, жадно, ей даже подумалось, что сейчас Куня дурачится и вот-вот скажет: «Ну, хватит… Хватит мне твоего этикету… Дай мне чашку побольше и сухую заварку… Я сделаю по-своему».
Но Куня продолжала чайную церемонию по всем правилам.
– Дарья моя невесть что творит, – сказала вдруг Нина, – видела бы ты ее кастрюли.
– Она всегда была чистоплотной, – ответила Куня, делая микроскопический глоток.
– Ей девятнадцать. Надо читать, читать, читать… Надо заполнять ячейки…
– Глупости! – сказала Куня. – Надо думать. А думать можно и чистя донышки.
– Ты что? – возмутилась Нина. – Никогда не чистила кастрюли? Ну поделись, поделись хоть одной мыслью, которая явилась тебе в этот момент.
– Откуда ты знаешь, в какой момент что приходит? И вообще не в этом дело.
– Нет, донышки – это донышки… И вообще она алчная, жадная, бездуховная.
– Если бы у меня была дочь, я бы никогда так о ней не говорила.
– Вот именно – у тебя нет. А когда она есть и ты надеешься, что она у тебя вырастет тонкой, доброй, отзывчивой, а она у тебя только по части тряпок, барахла и донышек, так и не то скажешь!
– Пусть она будет счастлива по-своему, а не как ты намечтала.
– Куня! – простонала Нина. – Она моя дочь. Я не могу не думать о том, как я ее намечтала.
– А толку? Нельзя в другом осуществлять свои мечты…
У Нины есть такая манера: она умеет погружаться в слова, фразы, она изнутри проверяет их смысл. Что такое сейчас сказала Куня? Нельзя в другом осуществлять свои мечты? Это сказать может только бездетный человек. Все «детные» ее поколения только и делают, что пытаются осуществиться в собственных детях. «Я такое не носила, пусть она поносит», «Я это не ела, пусть она поест», «Я сроду там не была, пусть она побудет». И после этого им же, детям, в лицо: свиньи, неблагодарные, эгоисты… Как она сейчас о своей дочери… Может, Куня права? Но может ли быть правой прекрасная теория, если практика выглядит скверно?
Тетка ушла, а Нина забыла, что хотела рассказать о ее несостоявшемся «женихе». Какой он весь подтянутый, наодеколоненный и как он строг на занятиях, свято веруя, что все его параграфы следует выполнять неукоснительно. Над ним все смеются, и Нина тоже, в голову никому не придет, что когда-то его можно было бояться.
Он Нину сразу узнал.
– А, – сказал он. – Это вы…
И протянул руку, широкую, белую, с непропорционально маленьким мизинцем.
Она хорошо помнила, как Куня познакомила их в театре. Он плотно вошел в театральное кресло, как в упаковку, и замер. В антракте он угощал их мороженым и шампанским. Шампанское подействовало сразу, и на Нину напал беспричинный смех, она не могла остановиться, и тогда он взял ее за руку. Он не сделал ей больно, но она почему-то испугалась.
Помнятся пальцы со слабым мизинцем… Манжет и… полная зависимость.
А может, ничего этого и не было? Не было какой-то предопределяющей мистической силы манжета? Хихикающую в театре девчонку просто остановили, как могли. И запомнившаяся деталь выросла до размеров символа уже потом? После того его письма, когда Куня в одну минуту превратилась в пожилую женщину? Нина хотела остановить несправедливость, которая настигла Куню и повалила ее наземь. Она сама пошла к жениху. Ее переполняли два чувства – сострадание к тетке и праведный гнев. От сострадания хотелось плакать, а от гнева митинговать. Противоположность состояний вызвала легкий сдвиг в восприятии. Нине, например, казалось, что на улице все дома почему-то красноватого оттенка. Она решила, что это солнце так странно их подсвечивает. Подумала – какое странное сегодня малиновое солнце, а солнца не было вовсе. Потом ей стало казаться, что все люди почему-то бегут так быстро, что части их лица не всегда поспевают за ними. Промчался человек, и только через минуту прошел его нос или ухо. Улица была наполнена торопящимися вслед хозяину воспаленными глазами, насморочными носами, ватными ушами. Этот бред родил филологическое изыскание: у Гоголя, наверное, были неприятности, карета сломалась, и ему пришлось идти пешком. Он разгневался, вот тут как раз и встретился ему нос майора Ковалева.







