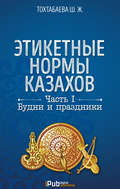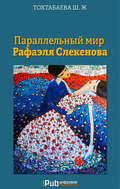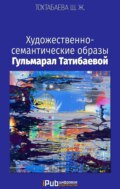Шайзада Тохтабаева
Этикетные нормы казахов. Часть II. Семья и социум
Беременность и подготовка к родам
Предназначение замужней женщины – произведение на свет большого потомства, поэтому для активизации функции деторождения в народе был разработан целый комплекс этикетных правил, соответствующих периодам беременности, родов и сорокадневного послеродового времени. Эти этикетные нормы включали не только кинетические, вербальные, нравственно-этические, но и эстетические, вкусовые (пищевые) предпочтения или запреты. Так, существовали магические приемы для бесплодных женщин: она должна была спать некоторое время с ребенком по линии матери, носить коралловые бусы, которые считались стимуляторами плодоносности. Как уже отмечалось, бесплодные казашки оставляли в каменных углублениях скал кораллы и просили Всевышнего дать им способность к деторождению, это имело место и в народных традициях кыргызов [Абрамзон, 1949, с. 63, 51].
Семантическая связь кораллов с полом будущего ребенка содержится в традиционной культуре хакасов: «Согласно шаманской традиции хакасов, Умай владела коралловыми бусинами, суру, заключавшими в себе души-зародыши девочек…» [Бутанаев, 1984, с. 97]. Мнение, что кораллы стимулировали продуцирующие и детородные функции, существовало у многих тюркских и других восточных народов. У турок считалось, что бесплодная женщина может вылечиться, выпивая воду с подола многодетной матери или из ее рук. Последняя старалась противиться этому, чтобы избежать смерти своих детей [Серебрякова, 1980, с. 167].
Целый комплекс ритуальных действий и этикетных правил разработан для таких состояний женщины, как беременность и роды. Первое известие о беременности женщины отмечалось небольшим пиршеством (құрсақ шашу) в узком семейном кругу (иногда – с приглашением близких родственников, женщин-соседок), при этом производилось осыпание (шашу) сладостями, баурсаками, куртом, монетами, символизирующее изобилие, плодородие, благоденствие невестки. В Восточно-Казахстанской области есть обычай: мать, услышав новость о беременности дочери, приезжает к ней и одевает кимешек ей на голову. При этом она произносит: «Ақ ақтан жарылқасын, жеңіл болсын пәле құлақ» («Пусть всё будет светлым и легким»).
Беременная женщина должна была соблюдать множество предписаний во избежание негативных последствий: это касалось питания, поведения, следования традициям. Беременную оберегали от тяжелой работы, ограждали от всего негативного.
Существовало много запретов для беременной женщины, созданных на практических и магических мотивационных основаниях. К примеру, ей запрещалось укорачивать свою одежду, подрезать концы волос: считалось, что это могло привести к аномальному развитию плода, выкидышу и рождению неполноценного ребенка. Женщине запрещалось работать с веретеном, перешагивать через шест (бақан), укрюк (құрық), аркан, чтобы при рождении пуповина не обмоталась вокруг шеи ребенка. Беременным нельзя было бросать камень в собаку, ходить ночью за водой, держать в руках нож, пилу или ножницы.
На Востоке существовал один общий запрет: в период беременности женщина не могла употреблять в пищу верблюжье мясо, чтобы не носить, как считалось, плод в утробе двенадцать месяцев вместо девяти. Ж. Т. Ерназаров к этим запретам добавляет другие: возбранялось употребление верблюжьего молока и носить вещи из верблюжьей шерсти [Ерназаров, 2003, с. 81]. Беременная женщина-турчанка не могла даже смотреть на верблюда, иначе ребенок родится с раздвоенной губой [Серебрякова, 1980, с. 170].
Имелся также ряд магических предписаний стимулирующего характера. Чтобы родить здорового ребенка и способствовать развитию у него позитивных качеств, следовало употреблять определенную пищу. Беременную женщину старались кормить легкой пищей, существовало также специально предназначенное для нее блюдо – жерiк асының табағы. В его состав входили грудинка (обычно предназначенная зятю), ұлтабар («сычуг», букв.: «сын родится»), мясо, срезанное с бедренной кости [Шаханова, 1998, с. 73–74].
В семье старались облегчать токсикоз во время беременности, удовлетворяя все пищевые прихоти женщины, так как существовало представление: если этого не делать, то ребенок родится болезненным.
Если родители хотели, чтобы родился мальчик, то у изголовья беременной держали оружие, а чтобы родилась девочка, клали под подушку ювелирные украшения (кольцо, серьги, бусы) или ткань красного цвета, которая символизировала женское плодородие. Если рождались только девочки, то совершали следующий обряд: три раза обводили вокруг головы матери последом девочки; это должно было способствовать рождению мальчика в будущем.
В народе бытовали представления о неких магических действиях, способствующих защите здоровья беременной женщины и ее будущего ребенка. Так, например, подол платья беременной женщины завязывали узлом, чтобы не было выкидыша, ограждали ее от встреч и общения с несчастливыми людьми и с теми, кто находился в трауре, ей запрещали также ходить на похороны.
Для благополучного разрешения от бремени женщины запасались амулетами (тұмар), записывали молитву на бумаге и, запивая водой, съедали ее. Кроме этого, они обещали своим подругам после благополучного исхода родов подарить ювелирные украшения (заранее выбранные этими подругами). В данной ситуации ювелирные изделия, скорее всего, имели искупительный характер [Тохтабаева, 2005, с. 270]. Сходный обычай существовал и у турок, только подарки (ткани, мыло, продукты питания и деньги) отдавались нуждающимся [Серебрякова, 1980, с. 172]. К родам допускались лишь счастливые и многодетные женщины. Перед родами мыли адалбақан («шест-вешалка»), чтобы роженица держалась за него. Иногда от него к решеткам юрты «…протягивали конскую уздечку так, чтобы она проходила у роженицы под мышкой. На эту конструкцию она опиралась во время родов» [Шаханова, 1999, с. 21]. Затем ей давали выпить чашку растопленного сливочного масла для поддержания ее сил, что делается до сих пор в некоторых областях республики. В Южно-Казахстанской области до недавнего времени роженица сутки держалась за веревку, лежа на старом одеяле, накинутом сверх кучи соломы.
Существовал ряд магических приемов, используемых для облегчения трудных родов. Женщины в доме расплетали волосы, с роженицы снимали все украшения. Изъятие ювелирных изделий из туалета и расстегивание одежды должно было способствовать скорейшему разрешению от бремени; такой обычай существовал у многих других народов мира [Фрезер, 1980, с. 276]. Снятие ювелирных украшений, означающее символическую смерть, направлено было на то, чтобы обмануть злых духов в критический момент. Смерть матери имитируется, чтобы спасти жизнь новорожденному (по принципу отмирания старого и рождения нового, т. е. символичного воспроизведения круговорота жизни). Это соответствовало архаичным представлениям о бессмертии души, перевоплощающейся в различных инкарнациях [Тохтабаева, 2005, с. 286]. Х. А. Аргынбаев отмечает: «Снятие украшений при родах осуществлялось из-за боязни вызвать “твердые” роды от твердых металлов» [Аргынбаев, 1973, с. 88]. Для того чтобы стимулировать магическим образом (по принципу подобия) скорое разрешение от бремени, открывали все сундуки, лари, шкафы, развязывали все тюки, узлы, открывали емкости (қарын) со сливочным маслом, разрывали подолы платьев. Помимо этого, обращаясь с просьбой к Биби Фатиме (богине плодородия) о содействии в благополучном исходе родов, проводили обычай жарысқазан (варили мясо, қуырдақ, жарили баурсаки) со словами: «Қара қазан бұрын туама, қара әйел тез туама?» («Что быстрее произойдет: сварится мясо, пожарятся баурсаки или разрешится женщина?»), словно вызывая роженицу на соревнование.
У народов Нагорного Дагестана к роженице запрещалось входить посторонним лицам, у которых были твердые предметы и украшения. Вместе с тем, в доме держали металлические предметы, а на пороге – золотые и серебряные изделия для спасения от нечистой силы [Гаджиев, 1991, с. 62]. Турки во время родов также производили магические действия: всё в доме открывали, расстегивали, расшнуровывали и расплетали, а на роженицу набрасывали голубой платок, на кисти ее рук надевали голубые бусы, браслеты из золотых монет, на шею – оберег из жемчужных раковин с узелками, в одном из которых были квасцы, а в другом – кусочки купороса [Серебрякова, 1980, с. 172]. Здесь прослеживается вера в силу синего цвета, соотносимого, очевидно, с древнетюркским культом синего неба – Кок Тенгри.
Ж. Т. Ерназаров отмечает, что на голову роженицы надевали платок, завязав узлом на затылке, а выпущенные концы клали ей в рот, чтобы защитить подбородок. Рядом не должно было быть воды: это связано с представлением о том, что нечистая сила может утопить в ней уставшую полусонную женщину. Роженице не разрешали долго лежать на спине во избежание сердечной аритмии. Над ней протягивали веревку с подвешенными священными книгами в качестве магической защиты. «Позади располагалась повитуха и массировала живот роженице жиром, помогая родам. Она приговаривала при этом: «О От-ана, Биби-Фатима, дай дорогу, сделай ее путь правильным», а затем бросала в очаг жир. Тем самым, подчеркивает Ж. Т. Ерназаров, призывали к помощи саму богиню плодородия, защитницу детей – Умай (Фатиму). Во время схваток молятся со словами «О Всевышний, ниспошли легкие схватки – толғақ» [Ерназаров, 2003, с. 83]. Если в период схваток в помещение случайно входила девочка, то со словами «Құдай-ау, жолын аша көр» («О боже, открой путь») ей разрывали подол платья, что должно было способствовать быстрейшему разрешению роженицы от бремени и успешным родам девочки в будущем [Ерназаров, 2003, с. 83].
На основе литературы, в том числе – дореволюционной, Ж. Т. Ерназаров описывает обычай, направленный на облегчение родов и благополучное разрешение роженицы от бремени. Женщины, трижды ударяя роженицу своим подолом, приговаривали: «шық» («выходи)» либо, произнося слово «туар» («родит»), разрывали подолы своих платьев. Подол женского платья фигурирует и в другом обычае. Для успешного восстановления здоровья после родов подол платья женщины подшивали снизу вверх, чтобы образовать полость. В нее клали еду, которой женщина должна покормить собаку: это, по принципу контактной магии, будет способствовать быстрому заживлению ран [Ерназаров, 2003, с. 79].
В некоторых областях Казахстана, как сообщают информанты, в давние времена при родах жены муж старался быть как можно дальше от дома и вести себя обычным образом, не показывая своего волнения.
Существовали приемы, связанные с ускорением затянувшегося родового процесса: для этого женщине нужно было перешагнуть через шею лежащего верблюда, пройти под ним, намазать на лицо сажу, оставшуюся после сжигания шерсти этого животного или выпить бульон из верблюжьего мяса [Ерназаров, 2003, с. 81]. Считалось, что задержка родов происходит из-за неправильного положения плода. Чтобы исправить это, женщину клали на пол у дверного косяка и начинали поднимать ее за ноги наверх. Ноги при этом должны касаться верхней перекладины косяка, а голова – порога. При этом задавали вопрос: «Он ба, терiс пе?» («Прямо или обратно?»), на который одна из женщин трижды должна ответить: «Он» («Прямо») [Гродеков, 1889, с. 98]. Здесь устанавливается воздействие магической силы порога: женщину, символично пребывающую в пограничном (между жизнью и возможной смертью) состоянии, помещают в дверной проем, тем самым ускоряя процесс перехода в другое реальное состояние. С этой же целью и с таким же вербальным сопровождением несколько человек перекатывали роженицу на одеяле из стороны в сторону [Ерназаров, 2003, с. 79].
Помощь при родах и последующие ритуальные действия повивальной бабки (аққол ана, кіндік шеше) были насыщены разнообразными действиями, имеющими рациональное и магическое свойства. Роды воспринимались как проявление сакрального действия, поэтому все помощники роженицы, начиная с повитухи и кончая кузнецом или шаманом, воспринимались как участники жизнетворения. В традиции тюрко-монгольских народов было сопровождать возгласами и ружейными выстрелами рождение ребенка [Сагалаев, 1990, с. 144].
Если родовые муки продолжались, то заставляли ржать жеребца на привязи, размахивали саблей у изголовья роженицы, бросали соль в огонь или заставляли мужчин, входящих в дом, отряхивать свой подол (что было запрещено), стрелять из ружья, чтобы женщина испугалась.
При родах муж или кто-то другой выходил из юрты и громко стучал палкой, произнося слово «түстi ма». «Они собирают народ, который силится прогнать шайтана, для чего производят выстрелы из ружья над кибиткой, бьют по кибитке палками и нагайками, оглашая воздух криками… Обвешивают больную терновником, садят в котел, кругом расставляют сабли, ружья и пики, неистово кричат, пугают прогоном скота к кибитке: сначала – овец, затем – коров и лошадей» [Народные, 1901]. Так описаны способы излечения, которые применялись и при облегчении родовых схваток. В крайних случаях к роженице могли привести для камлания бақсы или муллу, который читал молитвы. Во время очень трудных родов в юрту приводили кузнеца, который тут же ковал раскаленное железо, что отпугивало джинов [Тохтабаева, 2005, с. 219]. Кроме того, в юрте помещали сову, беркута: всё это призвано было защитить роженицу от вредоносных сил. Имел место и другой обычай, когда из юрты удаляли всех женщин, поскольку считалось, что хотя бы в одной из них есть нечистая сила. Приглашали одних мужчин, которые оставались и снаружи. Их роль сводилась к созданию непомерного шума стрельбой, криками, они ударяли плетью юрту и слегка – роженицу, чтобы испугать ее и отогнать от нее злых духов [Ерназаров, 2003, с. 90, 91]. В этих действиях присутствует запретное этикетное действие (бить плетью юрту), что было направлено на создание хаоса.
В целом все акты, способствующие помощи женщине в разрешении ее от бремени, имели, за некоторым исключением, магический характер, и по мере страданий роженицы они нарастали. Это было своего рода драматическое действие, в котором увеличивались темпы кинесики и звука, т. е. проигрывался определенный хаос, чтобы, в конце концов, прийти к катарсису, разрешению, умиротворению и гармонии, когда на свет появляется новый человек.
В наши дни в сельской местности тот момент, когда роженицу отправляли в родильный дом, стараются скрыть от чужих людей, чтобы те не сглазили ее. После родов женщина съедала пиалу растопленного курдючного жира с жареной мукой, что придавало ей силу.
После рождения ребенка пуповину обрезала счастливая многодетная женщина-мать (кiндiк шеше), которая, принимая роды, приговаривала: «Не моя рука, а рука Умай, Биби Фатимы» (покровительницы детей и домашнего очага) [Ерназаров, 2003, с. 94]. Пуповину мальчику она обрезала ножом, а девочке – ножницами, затем пуповину с семью зернами пшеницы она заворачивала в белую ткань и зарывала под порогом, чтобы ее не съели собаки.
В соответствии с хакасским обрядом пуповину обрезали (после выхода последа) на мягкой траве или на березовых щепках, что по принципу подобия, должно было способствовать мягкости характера, тогда как это действие, произведенное на камне, приведет к формированию жесткого нрава. Если рождались близнецы, то пуповину разрезали на разных частях раздвоенной березовой ветки и хранили раздельно во избежание смерти двоих детей [ИЭХ, 2004, с. 23].
В других регионах пуповину, обращенную вверх, заворачивали в ткань, но не завязывали. Если пуповину повернуть вниз, то не будет больше детей, поэтому это предписание строго соблюдалось. Пуповину мальчика, завязанную в ткань, привязывали к гриве лошади или рогам барана-производителя: считалось, что так может выработаться способность разводить скот. Пуповину девочки кладут в сундук, чтобы она выросла искусной мастерицей. Вообще пуповина служила оберегом, бывало, ее заворачивали в ткань и пришивали к первой рубашке ребенка, подвешивали к его колыбели. В некоторых случаях пуповине (кіндік) не давали высохнуть, держали ее в воде и использовали как лекарство для скота. Аналогичные ритуальные действия были распространены не только у казахов, но и у других народов Средней Азии [Коновалов, 1986, с. 103].
Если ребенок не издавал при рождении ни звука, то громко стучали по казану или по другому металлическому предмету. Когда в семье все дети умирали, то муж разрубал пуповину на пороге. Могли также имитировать продажу родившегося ребенка за мешок кизяка. При этом «продавец» находился внутри помещения, а «покупатель» – снаружи, так старались запутать нечистую силу, чтобы сохранить жизнь ребенку [Ерназаров, 2003, с. 90, 91]. Иногда действовали иначе: в дом приходил шаман и говорил: «Вы украли моего ребенка, отдайте его», и, несмотря на сопротивление родителей, забирал малыша. Через некоторое время родители шли к нему и якобы покупали у него своего ребенка. Знахарь отдавал младенца не через дверь, а из-под боковой части юрты (кереге), и ребенок считался купленным. Есть и другие хитрости. К примеру, чтобы такой ребенок долго жил, его «проводят» между ног семи бабушек [Кенжеахметулы, 2004].
В былые времена послед сразу зарывали в землю, а пуповину вешали в юрте, пока у младенца не отпадет ее остаток, после чего всё это закапывали. Ребенка мыли на второй день. В случае рождения ребенка в «рубашке» послед нужно было вымыть, высушить и. завязав в узел, хранить, чтобы малыш не болел и не стал калекой. У казахов Южного Алтая послед закапывали в отдаленном, ритуально «чистом» месте [Коновалов, 1986, с. 103].
У казахов, как и у каракалпаков, в случае смерти детей послед с семью черными камешками заворачивали в белую кошму и подвешивали к шаныраку [Шаханова, 1999, с. 19, 22, 23]. «Бывали случаи, когда новорожденные умирали один за другим, а родители старели бездетными. Тогда очередного младенца проносили под подолом нескольких старушек, что прожили долгую жизнь. Таких детей нарекали Ушкемпир, Торткемпир» [Оспан, 2005, с. 30, 31].
Если в семье было много детей, то послед давали бездетной женщине, которая должна посидеть на нем и вернуть с подарком (ақтық). Бывали случаи, когда бездетные женщины старались украсть послед. Такие же приемы контактно-имитативной или инициальной магии применяли для стимулирования детородности бездетные женщины-турчанки, хотя роженица старалась воспрепятствовать этому, боясь навредить своим детям [Серебрякова, 1980, с. 167]. В Южном Таджикистане [Мадамиджанова, 1995, с. 113] бесплодная женщина-арабка готовила кавордок из украденного ею последа и съедала его, она могла наступить на послед роженицы, после чего бесплодие должно было перейти к последней. Бездетная женщина выпрашивала у многодетной матери что-нибудь из ее вещей, но та, как правило, отказывала.
Присутствующие в помещении женщины, посмотрев в сторону новорожденного (если это был мальчик), плевали на пол со словами: «Фу, дряной мальчик», что делалось во избежание сглаза [Кустанаев, 1894, с. 167].
Согласно традиционному представлению казахов, характер ребенка наследуется от повитухи (кiндiк шеше), которая обязательно получала кіндік кесер (подарок). В дальнейшем кіндік шеше считается второй матерью ребенка, она могла прийти в семью, где растет ребенок, и даже попросить любую вещь, и ей не отказывали. Вместе с тем, она должна была помогать ребенку по мере возможности.
Как только женщина разрешится от бремени, режут самку белой овцы (қалжа кой), чтобы женщина была плодовитой, а роды проходили у нее благополучно в дальнейшем. В прошлом за байской женой ухаживали после родов 40 дней, а жена бедняка вставала через сутки или на третий день.
В наши дни в сельской местности роженице в первые три дня дают специальное блюдо қалжа (разведенный курт с горячим растопленным курдючным жиром) либо горячее молоко с разбавленной в нем мукой, прожаренной на курдючном жире, бульон, жареное просо (тары) и чай с молоком. Считается, что это способствует сохранности зубов и придает силы. Родные, близкие и просто знакомые приносили в дом қалжа, проявляя заботу и внимание к молодой матери.
В прошлом у казахов, каракалпаков [Этнографические очерки, 1969, с. 215] и других тюркских народов к только что родившей дочери обязательно приезжала родная мать и привозила колыбель со всеми принадлежностями для первого внука. В дальнейшем она дарила внукам только постельные принадлежности и одежду. Бабушка привозила также қоржын, где были сливочное масло (қарын май), жент, ит койлек («собачья рубашка») с длинными рукавами. Оставаясь в доме зятя, она помогала дочери ухаживать за младенцем. В сельской местности эта традиция жива до сих пор.
Казахи считают, что каждый ребенок при рождении забирает у матери один зуб. Выпадение зубов у беременной женщины, называемое шілде қаққан, объяснялось отсутствием в былые времена соответствующего ухода за зубами во время беременности и после родов. Выпадение зубов объясняли также нарушением беременной запрета отгонять собак словом «кет» («уходи»).
Сообщая отцу о рождении дочери, казахи говорили: «Қырық жеті туды» («Сорок семь родилось»), намекая на богатый калым, который он получит в будущем [Малицкий, 2011, с. 325].