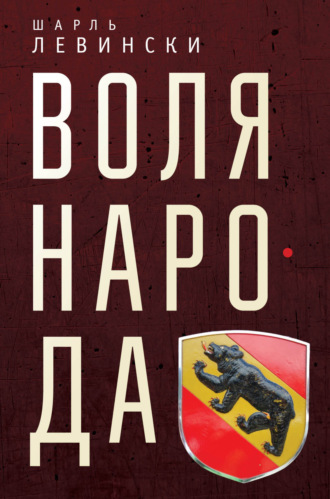
Шарль Левински
Воля народа
9
По мере рассказа Вайлеман всё больше воодушевлялся, то было тщеславие, или, если прибегнуть к более вежливому определению, профессиональная гордость. Не удивительно, что Дорис подала на развод, об этом он думал не впервые, должно быть, он доводил её до безумия своими историями, всегда одинаковыми. Элиза же наоборот слушала его зачарованно как маленькая девочка, которой читают сказку. Но, может, она только притворялась перед ним внимательной, уж в этом она поднаторела – позволять старикам рассказывать про их геройские подвиги и при этом изображать интерес. Губы её слегка приоткрылись, и был виден кончик языка. Красивый рот. Это у неё естественный цвет или такая сдержанная губная помада?
– Как ты до этого докопался?
Вайлеман, как видно, снова затерялся в своих мыслях посреди рассказа, и ему стало стыдно: это походило на старческое недержание в голове.
– По тому, как ты рассказываешь, ведь всё же было ясно, – сказала она. – Ханджин хотел избавиться от жены и для этого подсыпал ей не то лекарство. Однозначное покушение на убийство. Что навело тебя на мысль, что всё могло быть иначе?
– Была там одна деталь. Маленькая деталь. А именно… – Он сделал паузу, на сей раз не потому, что отвлёкся, а потому что в этом месте история всегда требовала паузы, эффекта ради, и потом сказал: – Бумаги в ячейке Ханджина были продырявлены.
Казалось бы, совершенно бессмысленная фраза всякий раз оказывала действие, он намеренно формулировал её так, что слушатель не понял. С Элизой это сработало безупречно.
– Собственно, всё очень просто, – сказал он, – я потом даже удивлялся, что никто не дошёл до этого, уж по крайней мере адвокату Ханджина это должно было броситься в глаза.
Если документы пробиты дыроколом, таков был тогда ход его рассуждений, это означало, что они уже были подшиты в папку, и если Ханджин действительно «по недосмотру» положил их не туда, то перед этим, тоже «по недосмотру», ему пришлось бы сперва извлечь их из подшивки.
– Я не психолог, – сказал Вайлеман, – но такой двойной «недосмотр» просто не подходил к этому аккуратисту, который заранее выбирал себе галстуки на неделю вперёд. И тем более не подходил бы убийце, про которого в приговоре было сказано, что он тщательно продумал каждую деталь своего плана и хладнокровно осуществил его.
Но если показания Ханджина правдивы и он тщательно подшил документы, то вынуть их из подшивки и подложить в его ячейку должен был кто-то другой.
– Но ведь никто, кроме него, не знал код ячейки?
– Именно это и говорил Штэдели, мой тогдашний шеф в Тагес-Анцайгер. Его уже давно нет на свете, как и его газеты. Я подал ему заявление, что хочу остаться на этом деле, эксклюзивно, и он мне категорически отказал: дескать, во-первых, это не мой отдел, во-вторых, такие детали по прошествии времени больше никому не интересны, дело решённое, приговор вынесен, конец всему, собака сдохла. И тогда мне пришлось всё делать на свой страх и риск…
– Это был какой-то важный документ?
А она умная женщина, подумал Вайлеман, задаёт правильные вопросы. Ведь это и было самое интересное в деле, такой Casus Knaxus, что исчезнувший и вновь обнаруженный документ был совершенно незначительным, настолько неинтересным, что Вайлеман даже не мог вспомнить, о чём шла речь. У Ханджина не было никаких видимых причин обойтись именно с этими двумя листиками иначе, чем с остальными бумагами, каждый день проходящими через его руки. Но шла текущая работа, кому-то понадобились эти бумажки, и, может быть, кто-то – если был этот кто-то – прибрал их только для того, чтобы их стали искать и в этих поисках открыли ячейку Ханджина. Но для чего?
– Чтобы обнаружить там бета-блокатор.
Вайлеман почувствовал, что быстрый ответ Элизы его почти раздосадовал. Не потому, что она была права, разумеется, она была права, а потому что темп, в каком она ответила, задним числом обесценивал его тогдашнюю дедукцию. Пора было действительно расставаться с этим проклятым тщеславием.
– Это была возможная причина, верно. Но она ещё не отвечала на вопрос, как этому таинственному кое-кому удалось открыть шкафчик. Моя теория предполагала, что этого не могло быть. Разве что если…
На сей раз она не испортила ему драматическую паузу.
Такая банковская контора – это ведь не монастырская келья, в которой всегда находишься один, сюда заходили и другие люди, клиенты не так часто, но коллеги постоянно, и если один из них однажды видел, как Ханджин открывал свою ячейку… В банкоматах предостерегают, чтобы никто не видел код, который вы набираете, но в такой конторе этот пункт наверняка не соблюдался столь строго. Итак, Вайлеману пришлось поближе рассматривать коллег Ханджина, но это стало бы бесконечной историей, поиском иголки в стогу сена, особенно если не знаешь, иголку ты ищешь или что-то другое. Он тогда стал размышлять вот над чем: если кто-то подкинул бета-блокатор в ячейку Ханджина, чтобы обвинить его, тогда этот кто-то и наполнял капсулы подставным лекарством, что предполагало его осведомлённость о состоянии здоровья госпожи Хан-джин, то есть предполагало его знакомство с ней.
– И поэтому…
Вайлеман заметил, в нём снова разыгрывается тщеславие, но теперь оно было уже оправданным, чёрт побери, вообще-то тогда за серию статей он заслуживал журналистской премии, но для этого надо было с членами жюри быть frère et cochon, а он всегда был бойцом-одиночкой, а не тем человеком, который подсаживается к каждому столу завсегдатаев, чтобы погладить по шёртске влиятельного коллегу.
– И поэтому? – повторила Элиза.
И поэтому он вместо банковских служащих присмотрелся к госпоже Ханджин, поиграл в детектива, с тайной слежкой и всем остальным, и это не было лёгкой добычей, она держалась неприметно, целый месяц, до того самого дня, на который у них, видимо, был уговор. Его звали Нефф, специалист по ипотеке, кабинет у него был в том же коридоре, что и у Ханджина. В фойе отеля, где они встретились, госпожа Ханджин прямо-таки набросилась на него, так наголодалась, другого слова Вайлеман подобрать не мог, она насилу дождалась, когда же сможет снова заключить любовника в объятия. То, что он её любовник, и уже давно, было очевидно; чтобы заметить это, не требовалась прятать видеокамеру в комнате отеля. Потом было уже не трудно доказать связь между ними; когда получаешь первый ответ, находишь и остальные. Соседка, которой он показал фотографию Неффа, припомнила, что видела их вдвоём. Госпожа Ханджин тогда сказала, что он её кузен. Но он был ей не кузен, а сообщник, замысливший с ней заговор против Ханджина, при этом запланировано было не так драматично, как потом осуществилось. То, что она при этом чуть не погибла, не было предусмотрено, она должна была впасть всего лишь в обморочное состояние, на это была рассчитана доза медикамента, но поскольку её обычно пунктуальный муж из-за автомобильной неполадки задержался, у бета-блокатора было два лишних часа, чтобы оказать своё действие. Собственно – когда история потом вскрылась, госпожа Ханджин во всём созналась и говорила как по-писаному, – всё было запланировано так, что она должна была сама обнаружить, что в капсулы кто-то вмешался, сама должна была сдать их в лабораторию для исследования, но так для обоих получилось даже гораздо лучше, полиция сама затребовала анализ средства, и ей оставалось лишь сыграть невинную супругу, которая никогда не заподозрила бы своего любимого мужа. На коробке с бета-блокаторами в ящике Ханджина нашлись отпечатки пальцев Неффа, раньше предполагали, что это отпечатки аптекаря, продавшего упаковку, и даже не искали дальше. Нефф получил средство совершенно законно, по рецепту, это оказалось потом легко установить, он выпил несколько настоящих капсул госпожи Ханджин, из-за этого сильно повысил у себя давление и попросил своего домашнего врача выписать ему бета-блокаторы как средство понижения давления. На допросе он поначалу всё отрицал, но потом дело дошло до той точки, когда оспаривать было уже нечего.
Вайлеман – теперь он окончательно дал волю своей похвальбе – получил свою сенсацию, свой большой куш, как это называлось. Штэдели велел ему написать статью в трёх частях, три раза по целой полосе, и ему пришлось также давать огромное количество интервью, даже по телевизору, что в то время было ещё важно, не то что теперь. Приговор в отношении Ханджина был, конечно, отменён, и он вышел на свободу. Дело имело ещё странный эпилог, как всегда, трагедия сменяется фарсом: Ханджин по-прежнему любил свою жену, невзирая ни на что, и действительно верил, что она снова выйдет за него замуж, теперь, когда было доказано, что он совсем не пытался её погубить. То, что она, со своей стороны, повесила на него покушение на убийство и упекла его в тюрьму, он просто отфильтровал.
Вайлеман смеялся, как он всегда смеялся в конце этой истории, как будто абсурдность этой тупой влюблённости только сейчас бросилась ему в глаза, но Элиза не разделила его смех. Она кивнула, задумчиво, и потом сказала:
– Он был прав.
– Ханджин?
– Феликс. Когда говорил, что ты лучший дознаватель.
– Может, когда-то и был им. Теперь я ископаемое.
– Это хорошо, – сказала Элиза. – Ископаемые вне подозрений. Если кто и сможет разузнать, что в действительности произошло с Феликсом, так только ты.
Вайлеман заметил, как в нём шевельнулось то, что он уже давно считал отмершим: старый охотничий инстинкт, эти приятные мурашки по коже, которые он чувствовал всякий раз, когда пускался в погоню за какой-то историей. Не все эти истории были такими крупными, как случай Ханджина, но поиском фактов он всегда наслаждался, особенно когда кто-то пытался замотать правду или совсем стереть её с лица земли. Это всякий раз было как игра – то, в чём он действительно был силён, ещё сильнее, чем в шахматах, это доставляло удовольствие – выиграть партию – но всё это было давно, пару сотен лет тому назад, так ему казалось, в то время, когда у него ещё было два здоровых тазобедренных сустава и ему не требовалась специальная кровать, чтобы иметь возможность спать. Теперь он был старик.
– Это верно, – сказала Элиза, и Вайлеман только теперь заметил, что опять высказал свои мысли вслух. – Это верно, – сказала она, – но поверь мне: постаревшие мужчины способны на большее, чем сами полагают. При моей профессии в этом разбираешься.
– Но не могу же я…
– Можешь, – сказала Элиза. – В этом и Феликс был убеждён. Он мне не раз говорил: «Если со мной что-то случится, то поговори с Вайлеманом».
– Он ждал, что с ним что-то?..
– Скажем так: он не исключал, что с ним когда-нибудь может произойти несчастный случай. Он всегда говорил «несчастный случай», но мы оба знали, что он имел в виду другое.
Вайлеман отхлебнул из бокала большой глоток, но великолепный Сент-Амур больше не радовал его вкусом. Во рту у него появился металлический привкус. Адреналин. Охотничья лихорадка. Где-то в затылке уже поднимался вопрос, какой редакции лучше всего предложить эту историю.
– Ты полагаешь, я должен?..
– Я полагаю, – сказала Элиза. – Это не даст тебе покоя, и рано или поздно ты начнёшь вести розыски. Так что всё-таки лучше, если ты сделаешь это сейчас. И я знаю также, с чего ты должен начать.
10
Лист бумаги, больше ему не требовалось. Так он начинал когда-то каждое большое расследование: со списка. Рассортировать собственные мысли. Записать всё, что знаешь, и – что гораздо важнее – чего не знаешь. Прояснить для себя, что ты, собственно, хочешь выведать.
Когда его уволили с последнего штатного места – а он бы поработал ещё года два, но стажёра они получали за половину его ставки, а качество статей для них уже было делом второстепенным, – тогда коллеги на прощанье подарили ему компьютерную программу, какой-то Brain, с помощью которого он мог в будущем сортировать свои идеи. Когда пару лет спустя его выжили из прежней его квартиры, коробка с CD так и не была распакована, и он выбросил её вместе с другим бесполезным хламом; большое спасибо, мило с вашей стороны, но думать он всё ещё мог сам.
Один лист бумаги, шариковая ручка.
Во-первых, «что?». Старые добрые вопросы журналиста.
«Дерендингер», – написал он в самом верху листа, а под фамилией слово: «Убийство?» Немного подумав, он заменил вопросительный знак восклицательным: «Убийство!» Не надо притворяться перед самим собой. Если потом из его расследования получится статья или, почему нет, даже серия статей, как тогда в случае Ханджина, то ему, конечно, придётся формулировать осторожнее, в каждую вторую фразу встраивать «может быть» или «можно предположить». Теперешние шеф-редакторы уже не имели твёрдой задницы и из страха перед жалобами и обвинениями продолжали настаивать на фразе «у нас действует презумпция невиновности», когда даже редакционная кошка уже не верила в эту невиновность. Дерендингер умер не так, как было изображено официально, вот из чего надо исходить. Если полиция похоронила его под обложкой папки с пометкой «предположительно самоубийство», это означало только одно: мы не знаем, как это случилось. Или, может, даже: мы не хотим этого знать. Так или иначе, утверждение, что он упал вниз с Линденхофа, не может быть верным. Во-первых, потому что это падение нигде не было зафиксировано, и это в день, когда смотровая площадка с видом на Лиммат кишмя кишела туристами, и во-вторых, потому что сам Дерендингер только будучи суперменом смог бы пролететь от стены Линденхофа до начала мостовой Шипфе. Там даже в самом узком месте согласно Google Earth добрый десяток метров.
Значит, «Убийство!!» С двойным восклицательным знаком.
«Где?» было ясно, и в некоторой мере «Когда?» В половине третьего он сам встречался с Дерендингером по договорённости, больше четверти часа они не проговорили, или, вернее говоря, дольше Дерендингер его не уговаривал, а согласно данным полиции в половине четвёртого его труп уже был найден на Шипфе. В этом временном промежутке всё и произошло.
Сорок пять минут, не больше. В течение этих трёх четвертей часа кто-то получил над Дерендигнером власть, напал на него, заманил куда-то, типа того, и убил его. Нельзя принимать как допущение, что он был ещё жив, когда его тело выложили на Шипфе, это было бы слишком большим риском, он мог бы кричать или двигаться, это бросалось бы в глаза. Дорогу вдоль Лиммата они, должно быть, заблокировали, иначе как бы они его туда доставили, на несколько минут такое было вполне осуществимо, не привлекая внимания, сорри, перевозка опасных грузов или что-то в этом роде. И это опять же означало, что в акции должны были участвовать несколько преступников, целая группа. Дерендингер к тому моменту не так долго был мёртв, иначе из него не вытекло бы столько крови, сколько видно на фото.
Вайлеман поставил уже третий восклицательный знак после слова «Убийство» и тут понял, что ему чего-то не хватает – не в рассуждениях, а в чувствах. Ведь речь шла всё же не о каком-то случае Х или Y, не о безразличном тебе деле, на которое тебя поставило начальство, «и постарайся, Киловатт, чтобы из этого вышла интересная история», не о событии, которое тебя совсем не затрагивает и в котором – кровавое оно или нет – тебе можно судить лишь о количестве строк, которое из него можно выжать, речь шла не о каком-то незнакомом человеке, какими были для него, например, Ханджин и его жена, речь шла о Дерендингере, а он был не кто-нибудь, а коллега, с которым приходилось не раз иметь дело, что-то вроде друга, если угодно. Дерендингер, который попросил его о помощи. Который ему доверился. Который выбрал именно его для расследования и никого другого.
«Единственный, кого не пришлось бы лишать журналистского удостоверения за бездарность», – сказал он Элизе.
И тем не менее, Вайлеман не чувствовал себя лично задетым. В нём присутствовал лишь охотничий инстинкт, нет, если ещё точнее: радость охоты, обострение наблюдательности, которое приходило к нему перед каждым большим репортажем. Может, то был цинизм? Профессиональная деформация? Может, этого следовало стыдиться? Или то была лишь естественная реакция на происшествие, пусть и трагическое, но не касающееся его лично, о котором можно размышлять так же отвлечённо, как о далёкой войне, когда люди где-нибудь там, типа в Турции, убивают друг друга. Он вспомнил, что Штэдели в Тагес-Анцайгер постоянно вычёркивал у него цитаты из классики – на том основании, что в наши дни никто их не распознаёт, единственное общее культурное достояние, какое ещё можно ожидать от читателей, это рекламные слоганы – «квадратиш, практиш, гут».
Не отвлекаться! Задет ты лично или нет – если тебе удастся разузнать, что кроется за смертью Дерендингера, тем самым будет исполнена его последняя воля.
Итак, назад к списку.
Рубрика: «Как?»
«Организованно», – пометил он и добавил: «…и распланированно». Такая сложная инсценировка не могла возникнуть экспромтом, слишком много координации требовалось для этого – начиная от убийства Дерендингера и кончая размещением его трупа. Кто бы ни стоял за этим преступлением, он распланировал всё именно так, как и было исполнено; если бы дело заключалось только в устранении Дерендингера – по каким бы ни было причинам, – труп просто исчез бы без всяких следов, незаметно.
Итак, для чего понадобилась эта сложная, многозатратная и вместе с тем привлекающая внимание акция? Ещё один вопрос, на который надо найти ответ.
«Кто?»
«Люди с влиянием», – написал он. Иначе быть не могло. Броский смертельный случай, прежде всего, когда речь шла о таком более-менее известном человеке, как Дерендингер, на это ринулся бы любой криминалист, потому что – даже если бы дело не прояснилось – это послужило бы продвижению карьеры, можно было бы собирать пресс-конференции и со значительной миной смотреть в камеры. А здесь? Десять минут делали вид, будто ведут расследование, а потом поставили сверху печать «Самоубийство» и закрыли дело. Это могло означать только одно: кто-то отдал распоряжение томить это варево на медленном огне, и этот кто-то должен сидеть достаточно высоко, возможно, в самой полиции, иначе он не мог быть уверен, что его распоряжение будет исполнено.
Далее. «Почему?»
Дерендингер, он сам это говорил год назад, вышел на след какой-то крупной истории, и если Вайлеман правильно истолковал его скупые намёки – разумеется, он истолковал их правильно, иначе не сошлись бы те ключевые слова, которые сказал ему Дерендингер на Линденхофе, – тогда эта история как-то связана с убийством Вернера Моросани, то есть с тогдашней давней аферой, о которой, как считалось, всё было сказано, написано множество статей и опубликованы книги.
«Раздобыть книги по убийству Моросани», – пометил Вайлеман и заменил «раздобыть» на «скачать», он ведь был на уровне своего времени, не более дремуч, чем любой другой.
Убийство Моросани… Дерендингер, должно быть, вышел на след какого-то неизвестного аспекта той старой аферы, открыл какую-то деталь, которую кто-то непременно хотел сохранить в тайне. Или он эту деталь уже нашёл – и его смерть должна была воспрепятствовать опубликованию. В ходе своей карьеры Вайлеман сталкивался с несколькими случаями, участники которых всеми средствами старались не допустить выхода статьи в свет. Были попытки подкупа. Воздействия на издателя, а однажды даже ночные звонки с угрозами. Но чтобы убийство? Из-за какой-то газетной статьи? Спустя столько лет после события? Кто бы на это пошёл?
Чтобы ответить на это, был лишь один путь: выяснить, что это за тайна была, которую теперь кто-то так рьяно и насильственными способами оберегал. Если он хотел найти, «кто», он должен был сперва иметь «почему».
Трудно.
Помимо того факта, что всё связано с событиями давно минувших дней, ему не за что было ухватиться. Дерендингер дал ему только две зацепки, и с обеими он не знал, с чего начать. Но в список они непременно входили.
Одна была – фамилия, которая, насколько он знал, ни разу не всплывала в связи с убийством Моросани. «Поговори с Лойхли, – сказал Дерендингер, – он тогда организовал турнир». Если под турниром имелись в виду давние события на Альте Ландштрассе, это могло означать…
Не делать преждевременных выводов, напомнил он себе. Сперва просто собирать факты. У него была эта фамилия и был – если исходить из того, что его коллега не просто свихнулся, это тоже должно было иметь какое-то значение – ещё тот значок, который Дерендингер сунул ему в ладонь, вот буквально сунул. Ржавый значок с гербом кантона Берн.
Вайлеман уставился на лист бумаги, занеся над ним ручку. Но в голову ему больше не приходило ничего, что бы он мог записать под заголовком «Зацепки». Только эти два слова: «Лойхли» и «Бернский герб». Не так чтобы много.
Если он хотел продвинуться, он должен был как бы перенестись в Дерендингера и завершить его розыски, должен был выяснить, где тот рылся и кого расспрашивал. Но Дерендингер явно действовал всё это время в одиночку и никого не посвящал в свои расследования. И Элиза, с которой он даже близко взаимодействовал, ничего про это не знала.
Она знала лишь, что Дерендингер боялся.
Во время встречи на Линденхофе этот страх был виден по нему, по его беспокойно бегающим глазам и по холодному поту на лбу. Должно быть, Дерендингер знал, что он в опасности; возможно, где-то когда-то задал слишком опасный вопрос, действовал без необходимой осторожности. Наверное, думал: если со мной что случится, кто-то должен довести мои розыски до конца. Поэтому и обратился к своему старому конкуренту, для того и пустил его по следу, поэтому и…
Поэтому и сам он был теперь в опасности, сообразил Вайлеман. Если люди, которые убили Дерендингера, заметят, что он подхватил эту нить, они обойдутся с ним не менее безоглядно.
И тем не менее – было ли это осознание ответственности, мужество или просто упрямство? – тем не менее он в этот момент и не подумал о том, чтобы оставить это дело. Просто ему придётся действовать ещё осмотрительнее, ещё осторожней.




