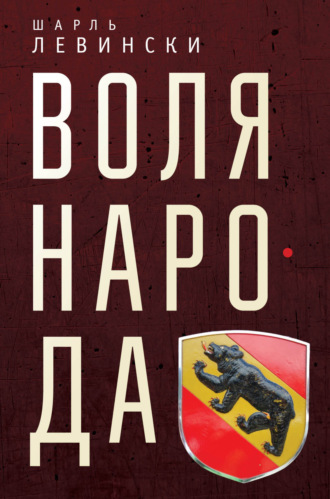
Шарль Левински
Воля народа
Моему другу Зиги Остермайеру (1941–2017)
Ты был первым читателем всех моих прежних книг.
CHARLES LEWINSKY
DER WILLE DESVOLKES
Перевод книги осуществлен при поддержке Швейцарского фонда культуры «Про Гельвеция»
© Nagel & Kimche, 2017
© Т. Набатникова, перевод с нем., 2018
1
Вайлеман имел старомодную привычку иногда снимать трубку телефонного аппарата, хотя звонка не было, просто проверить, есть ли ещё гудок. Ходили слухи, что городскую телефонную сеть вообще ликвидируют, поскольку ею уже почти никто не пользовался, ведь у каждого мобильник или что-то ещё более современное, да у него самого тоже, без этого не обойтись. Когда в своё время отключили последнюю телефонную будку, он писал об этом статью, ничего особенного, «Конец эры» или вроде того, да статья в итоге и не вышла, потому что перед самым концом рабочего дня поступило экстренное сообщение, что некая трёхдневная звезда с трёхдневной же щетиной попала в клинику вовсе не с острым аппендицитом, а чтобы откачать лишний жир; так что для статейки места уже не нашлось. Курт Вайлеман сокращённо подписывался “kw”, и потому все, кто его знал, называли его Киловаттом. В те времена, когда ещё водились люди, знавшие его.
Дела давно минувших дней. Теперь он старый пень, старомодная развалина, хотя сам он титуловал себя, немного рисуясь, словом «ретро», тоже давно устаревшим, из текста бы его вычеркнули, потому что многим оно было уже непонятно. Или оставили бы, потому что в наше время уже никто не даёт себе труда откорректировать статью, едва допечатал – и уже в интернете. Электронная пресса – при одном этом слове у него закипала желчь.
При этом он вовсе не отвергал новшества, они его не затрудняли, он не закоснел, а всего лишь не понимал, для чего надо постоянно перестраиваться, если вещи и в прежнем виде хорошо работали. Например, этот коммуникатор, сверхсовременный прибор, который теперь полагалось иметь каждому. Только он один до сих пор ни разу не взглянул на эту игрушку. Пока голова на месте, зачем тебе этот вспомогательный мозг, так он считал, но реклама убеждала, что без этой штуки ты не полноценный человек. Правда, название «коммуникатор» они так и не смогли внедрить, швейцарский немецкий оказался сильнее, люди говорили «комми», то есть сотрудник офиса, и это подходило, офисный должен был проделывать множество дел, на которые у его шефа не хватало времени. Парикмахер, у которого Вайлеман стригся, донимал его перечислением крутых новейших приспособлений, и однажды он не выдержал, спросил: «И что, этой штукой и бриться можно?», но до парикмахера не дошло; во-первых, никто уже не понимал иронии, во-вторых, никто уже, считай, и не брился. Теперь достаточно было втереть специальный крем – и через минуту уже можно смывать с лица щетину и неделю после этого не беспокоиться. Сам он всё ещё пользовался электробритвой, и его домашний телефон должен был оставаться домашним телефоном, а не той игрушкой, которую всякий раз приходилось искать, когда раздавался звонок, потому что без провода у неё не было своего постоянного места.
Его старый аппарат Swisscom пока функционировал безотказно, и даже эта музейная штука умела больше, чем ему требовалось, в ней было десять кнопок для сохранённых номеров, тогда как Вайлеман даже после долгих раздумий не смог бы наскрести десятерых абонентов, которым он мог бы позвонить, как и не набралось бы десяти человек, которое звонили бы ему. Маркус со времени последней ссоры больше никак не проявлялся, было большой ошибкой вступать с сыном в политические дебаты; друзей у него много никогда и не водилось, а коллеги один за другим переселились на кладбище. А чтобы у кого-то нашлась для него работа – такое вообще случалось раз в сто лет.
Он был в том возрасте, когда из редакций звонили только по случаю чьей-нибудь смерти, когда им требовался некролог. «Вы ведь его ещё знали», – говорили эти молодые хлыщи по телефону, не обладая даже толикой такта, чтобы заметить, насколько обидно звучало это «ещё». Это означало: «другие из твоего поколения уже сгнили, только тебя забыли с собой прихватить». Иногда они даже не звонили, а посылали имейл, чаще всего без обращения; считали, видимо, вежливость вымершим видом, даже не давали себе труда писать полными предложениями, а то и разучились этому, вбивали только пару ключевых слов, фамилию покойного и число знаков, которые хотели бы получить, двенадцать сотен знаков, включая пробелы, на обычного покойника, а иногда и того меньше. Вот жил такой всю свою жизнь, бился над чем-то, чего-то достиг, а эти недоросли потом не удостоили его даже колонки.
В его время…
Вайлеман злился, ловя себя на этом «в моё время…», это был признак старения, а ведь он ещё не был стариком, хотя для подтверждения своих водительских прав ему уже дважды пришлось пройти полный медосмотр, совершенно лишняя процедура, машину он уже давно не мог себе позволить, да и зачем при современных автомобилях нужны права, он не понимал, этим машинам уже вообще не требовались водители, по крайней мере, в городе. «Контрольное обследование медицинской водительской комиссии» – вот тоже отвратительная бюрократическая формулировка, но если человек, не дай бог, владеет приличным немецким языком, они его отсеют ещё на стадии заявления, эти безграмотные служаки. Он сходил туда только из принципа, чтобы доказать себе самому, что он ещё в порядке, а перед этим выудил из интернета список минимальных требований, это просто наглость, сколько всего требовалось подтверждать, отъявленная наглость. «Что нет психических заболеваний. Нет нервных заболеваний с постоянными ограничениями. Нет слабоумия». Как будто в семьдесят лет человек автоматически впадает в сенильную деменцию. И оба раза он «с победными знамёнами», нет, не «с победными знамёнами», поправил он мысленную формулировку, это было тупое армейское клише, а просто с лёгкостью выдержал все эти проверки. У него и всё остальное было в порядке. А тазобедренный сустав, если станет хуже, можно будет когда-нибудь и поменять.
Он был собран, тотально работоспособен, но, увы, если они вообще о нём когда-то вспоминали, это значило, что кто-то определённо умер. И, вероятно, тот ученик-стажёр, который милостиво ему звонил – а они занимали теперь только учеников-стажёров, как ему казалось, а отставленные журналисты должны были радоваться, если им перепадёт случай повосторгаться для аптекарской газеты преимуществами здорового питания, – тот малолетний переписчик ленты новостных агентств, прежде чем взять в руки телефон, наверняка ещё и спросил у коллеги: «А он хоть жив ещё, этот Вайлеман?»
Да, он ещё жив, даже если порой и хочется извиниться за то, что ещё не позвонил в крематорий и не заказал своё устранение. Как бесполезный член общества, только обременяющий пенсионный фонд.
Временами, когда у него было дурное расположение духа, не буднично-серое, а воронёно-чёрное, он раздумывал, кого же они попросят написать некролог на него самого. Если, конечно, газетное место не понадобится для чего-то более важного, обручения певички или любовной аферы футболиста. При этом ему всегда приходил в голову Дерендингер, последний из старой гвардии, Дерендингер, с которым он постоянно цапался, поначалу из-за политических разногласий, а со временем – по привычке. Дерендингер высосет из пальца пару дружелюбных общих фраз, как и сам бы он сделал для Дерендингера, «журналист старой школы» и тому подобное, двенадцать сотен знаков – и крышка. De mortuis nil nisi bonum. «Bonum», а не «bene». Но латыни тоже больше никто не знает.
Лучше было бы самому написать свой некролог, думал Вайлеман, да он и пробовал, исключительно ради шутки, не хочется ведь терять навык, но двенадцать сотен знаков оказывалось слишком мало; кое-что он всё же успел сделать за долгие годы. Один тот случай Ханджина чего стоит, когда его расследование оказалось лучше полицейского, он вышел на верный след и вызволил из тюрьмы невинного, на одно это ушла бы тысяча знаков, никак не меньше. Он всегда хотел написать о том случае книгу, был даже запрос от одного издательства, но тогда он был слишком занят, а теперь, когда у него есть время для пачкотни, это уже больше никого не интересует.
Книги ведь тоже читать перестали, по крайней мере на бумаге, да и газеты люди почти не читают, настоящие газеты, которые утром доставал из ящика и спокойно штудировал за первым эспрессо, сперва политика и экономика, потом местное и в самом конце, на десерт, про спорт. Печатные газеты ещё были, на это у них пока хватало уважения к традициям, но вот только в ящики их больше никто не кладёт. Почтальоны вымерли, как вымерли миннезингеры или фонарщики, притом что после краха Европы было полно людей, не находящих себе работы, потому что они были просто люди, а не специалисты. Больше не было расчёта разносить газеты нескольким подписчикам по домам. А кому хотелось читать их по старинке, тот тащился к киоску, а если проспит, так газеты уже и распроданы. И тогда приходится читать газету с экрана, а это всё равно что целовать женщину сквозь гигиеническую накладку для губ.
Бумага, лучшее изобретение человечества, исчезала из жизни всё больше. В Цюрихской библиотеке всерьёз раздумывали, не пустить ли на макулатуру девяносто процентов фонда, поскольку все книги уже доступны в оцифрованном виде; и хотя предложение было пока что отвергнуто, его черёд ещё придёт, в этом Вайлеман не сомневался. И хорошо, что ты уже не самый юный, по крайней мере до этого не доживёшь.
Сам он любил запах старой бумаги, продолжал вырезать газетные статьи и сохранял их, хотя всё уже было в интернете. Для стопки бумаг на письменном столе ему не требовалась функция электронного поиска, он и не хотел бы такую иметь, с её помощью находилось только то, что ты конкретно запросил, чёткое словосочетание, а ведь при этом не сделаешь тех случайных открытий, которые и составляют самый большой интерес. И пусть это требует затрат времени – à la bonheur, время у него было, даже с избытком. Хотя люди и говорят, что с годами дни бегут всё быстрее, ему казалось наоборот; каждое утро он пытался полежать подольше, чтобы сократить время ожидавшей его скуки, но из этого ничего не выходило, получалось всё хуже и хуже; в его возрасте требуется больше сна, но получаешь его всё меньше; в этом было уже что-то от разговоров о предсенильном бегстве кровати.
Об этом следовало бы написать, автоматически подумал он и так же автоматически разозлился на то, что этот рефлекс всё ещё оставался жив в его голове. Ему следовало бы, наконец, привыкнуть к тому, что его текст больше никому не нужен, самое большее – некролог, да и тот лишь в том случае, если умерший принадлежал к рангу позавчерашнего сервелата, в лучшем случае чипполаты, короче, одни лишь мелкие сосиски. В случае интересных покойников он был не вхож в круг, зарезервированный для начальства; этот круг причислял себя к благородным перьям. Он не сомневался, что все они уже тайком кропают некролог на Штефана Волю, которому осталось недолго, судя по тому, что можно вычитать из больничных сводок. Некролог на Волю – вот было бы интересное задание, которое не втиснешь в двенадцать сотен знаков, и он, Вайлеман, сделал бы его совершенно иначе, не так, как уже заготовлено у них в компьютерах, осталось только подогреть. Он бы написал и критическое эссе, но не пытался бы, как это ожидается, посмертно влезать господину партийному руководителю в задницу. Но никто не закажет ему некролог на Волю, а если бы они и заказали, то не напечатали бы.
– «Напечатать» – старомодное слово. Скоро печатать не будут вообще ничего.
Он заметил, что произнёс это вслух в пустоту комнаты, и рассердился сам на себя. Кто начинает разговаривать сам с собой, это было его твёрдое убеждение, тот уже созрел для дома престарелых.
Потом зазвонил телефон – разумеется, когда он сидел в туалете. А как же иначе. Но заказ есть заказ, и с тех пор, как пенсионные выплаты уже вторично были сокращены, нельзя было позволить себе пропустить его. И Вайлеман прискакал в гостиную со спущенными штанами. В одинокой жизни есть свои преимущества.
2
– Вайлеман.
– Это Дерендингер.
Вайлеман быстро подтянул штаны, хотя в его старомодном телефоне не было камеры.
– А тебе-то что от меня вдруг понадобилось?
Слишком уж отторгающе получилось. Пусть он всегда собачился со своим старым конкурентом, всё же это был человек, с которым можно перекинуться словом на равных, а такие беседы случаются не каждый день. Но Дерендингер, кажется, не обиделся.
– Хотел бы встретиться с тобой.
– Зачем?
– Партию в шахматы сыграть. Как в старые времена.
Один-единственный раз он попытался с Дерендингером сыграть в шахматы, после скучной пресс-конференции, с которой оба улизнули, и это была очень короткая партия. Вторую они даже не начинали, слишком велика была разница в классе игры; он, Вайлеман, был тогда второй доской в объединении, а Дерендингер – зелёный новичок, попался на мат в три хода.
– Эй, ты ещё здесь?
В последнее время всё чаще случалось, что он посреди дела уходил в свои мысли и просто бросал начатое. Это всё от одиночества. Пару дней назад это случилось с ним в супермаркете «Мигро», он начал сканировать свои скромные покупки и потом…
– Алло?
– Да-да, я здесь. Просто я удивлён. Целый год я от тебя ничего не слышал, и вдруг ты звонишь и хочешь…
– Одну партию. Уж на это ты найдёшь время. Или ты как раз пишешь большой репортаж для Нью-Йорк Таймс?
– И где?
Раньше он всегда играл в Бойне на Хердерн-штрассе, это было неофициальное кафе их объединения, боковая комната, пустующая, если не было футбольного матча на новом стадионе Летцигрунд и сюда не набивалось фанов, желающих остудить охрипшие глотки пивом. Пока вся местность не стала потом востребованной и крутой и уютная Бойня не превратилась в модный ресторан. Больше он там не показывался. «Швейцарско-азиатская кухня» – для него это было не приманкой, а предостережением: что бы это могло быть – суши с картошкой «рёсти»? Обжаренные колбаски с пророщенной соей? Такого себе и впрямь не пожелаешь. Потом и само шахматное объединение распалось. Стали играть с компьютером, запрограммировав его на победу или на поражение.
– Алло? Вайлеман?
Надо бы ему отвыкать от этих отклонений мысли. Сам ведь всегда проповедовал молодым коллегам: «Главное, что должен уметь репортёр – это слушать».
– Я жду, что ты предложишь место.
– На Линденхофе.
– А что, там появилось какое-то кафе?
– Ну, поле, где эти большие фигуры.
Если и было что-то ещё хуже, чем шахматы с компьютером, так это шахматы под открытым небом, этот мини-гольф с площадкой в 64 клетки, где пенсионеры убивали своё пустое время. Он сам пенсионер, убивающий время, но пока не докатился до того, чтоб у всех на глазах передвигать по земле громоздкие деревянные фигуры. Знал он и этих шахматистов: они держались так, будто класс их игры был не меньше Elo-2000, корчили из себя знатоков, а сами не могли распознать английский дебют, который им подавали на серебряном блюде, гарнированный кресс-салатом, с ломтиком лимона в пасти.
– Нет уж, Дерендингер, если тебе приспичило проиграть мне партию, подыщи для этого какое-то более разумное место.
– Это важно, – сказал Дерендингер таким тоном, будто речь шла о жизни и смерти, – правда, Киловатт. Через час, идёт? В половине третьего?
– Мы могли бы…
Но Дерендингер уже повесил трубку. С возрастом впал в чудачество. Лучше всего было тут же забыть про его звонок, сделать вид, что разговора вовсе не было, они же, в конце концов, так и не условились. Но с другой стороны…
Может, из-за того, что Дерендингер назвал его «Киловаттом». Это прозвище уже все забыли. Или просто любопытство. Что-то необычное крылось за тем, что старый коллега – или конкурент, но ведь конкурент всегда и есть коллега, – по прошествии вечности вдруг позвонил и предложил сыграть в шахматы именно на Линденхофе. Шахматистом Дерендингер был никудышным, и если в сорок лет был таковым, то к семидесяти вряд ли вдруг стал Капабланкой. Да ещё этот умоляющий тон – от человека, который всегда задирал нос, «il pète plus haut que son cul», как говорят французы. Всегда важничал, потому что работал когда-то в Нойе цюрхер цайтунг, а тогда это было чем-то вроде журналистской аристократии. Нет, тут крылось что-то непонятное, да если даже и пустяковое, времени у него полно.
Через час на Линденхофе, он успевал.
«Самый жаркий июль с начала наблюдений за погодой», как говорили по телевизору, но это они говорили каждый год, поэтому он всё равно надел синий пуловер, растянутый, но очень удобный. С возрастом становишься мерзлявым. Но потом снял пуловер, а то Дерендингер ещё подумает, что он превратился в одного из этих неопрятных стариков, которым наплевать на свой внешний вид. Английский пиджак с кожаными латками на локтях хотя и не новый, но такого рода одежда со временем становится только лучше.
Выходя из дома – тоже допотопный рефлекс – он автоматически открыл почтовый ящик, хотя была среда, а почту приносили только по вторникам и пятницам; кто ж теперь шлёт письма? Кто-то всунул в щель лишь рекламную листовку, «Всем истинным швейцарцам!», это можно было сразу в мусорный бак, пусть и в глянцевом исполнении. Сама эта раздача рекламных листовок стала чем-то вроде фольклора, дань народному обычаю, пользы уже никакой. На большинство не действует.
Он поехал в город на трамвае, метро так и не построили, хотя планы были, но когда швейцарская экономика пошла под уклон, проект уже не финансировался. Но ему-то что, от Хееренвизен до центра на «семёрке» – всего пятнадцать минут. Это преподносилось ему как огромное преимущество, когда ему пришлось отказаться от своей прекрасной квартиры в Зеефельде, тот дом отреновировали в высшую лигу цен, играть в которой журналисту на пенсии было не по карману. Притом, что «на пенсии» в его случае было понятием весьма теоретическим, он слишком долго пробыл на вольных хлебах, а пробелы в пенсионных отчислениях – это вам не лакуны в зубах, которые легко перекрываются мостами. С тем, что раз в месяц капало на его счёт, можно было даже не заглядывать в магазин деликатесов.
Трамвай был забит, целый школьный класс занял все места, и, разумеется, никто из молокососов и не подумал уступить ему место. С другой стороны – стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон – в этом был и добрый знак: он явно ещё не выглядел старым и дряхлым, хотя лучше бы ему предложили место, а он бы на это ответил: «Спасибо, не надо, я постою». Пока что его тазобедренный сустав вел себя терпимо.
В центре все школьники разом вывалились вместе с ним – видимо, направлялись в муниципальный музей – там теперь, так пишут, не было продыха от посетителей, с тех пор, как история Швейцарии снова стала важным предметом в школе.
Он прошёлся пешком по набережной Лиммата, делать пересадку ради одной остановки не стоило. По пути попадалось много туристов, сплошь азиаты. Он когда-то запомнил, что разные национальности азиатов можно различать по углу наклона глаз: у одних стрелки на восемь-двадцать, у других на девять-пятнадцать, у третьих на десять-десять. Правда, он забыл, кто из них при этом японцы, кто китайцы, а кто корейцы. Забавно было видеть, как иногда вся группа туристов разом поворачивалась кругом, это походило на народный танец, но, разумеется, было всего лишь панорамным снимком, который они делали камерами своих очков. Не доходя до моста Урания одного из корейских японо-китайцев остановил дружинник «допопо» – за обёртку от жвачки, брошенную на землю, и азиат отреагировал на это не смущением, не стыдом, а приступом счастья, он подобрал бумажку, извинился, множественно раскланиваясь, и побежал догонять своих спутников, чтобы с восторгом поведать им о своём приключении. В своём дневнике, нет, разумеется на своей страничке Фейсбука он наверняка напишет: «Туристическая реклама ничуть не преувеличивает: Цюрих и правда самый чистый в мире город, почище Сингапура». Может, он выложит там и фото «допопо», находя его очень крутым, этакий приятный молодой человек в голубой униформе дружинника.
Вайлеман не жаловал этих добровольных помощников полиции, все они были карьеристы и упивались своей властью, а ведь мир не перевернётся, если клочок бумажки или окурок упадёт на землю. И без того кругом стало слишком чисто, слишком упорядоченно. В его юности был в одной популярной песне призыв – «побольше грязи!» Сегодня бы такую песню, пожалуй, запретили, нет, не запретили бы, а просто никогда бы не исполнили. Такие вещи регулируются теперь деликатнее, чем раньше.
Лестница наверх к Линденхофу показалась ему более крутой, чем раньше. Написать бы заметку об этом, предложить новый метод определения возраста – не по числу прожитых лет, а по тому, сколько раз ты остановишься передохнуть на таком подъёме. Но маленькие заметки были сейчас востребованы в редакциях примерно так же, как кровяные колбаски на конгрессе вегетарианцев. Ну и пусть, думать-то об этом пока не запрещено, use it or lose it. Донимают ли и других людей мысли о вещах, которые больше никому не нужны? Надо бы спросить об этом Дерендингера.




