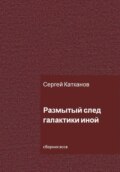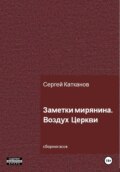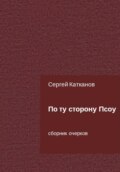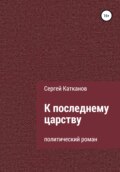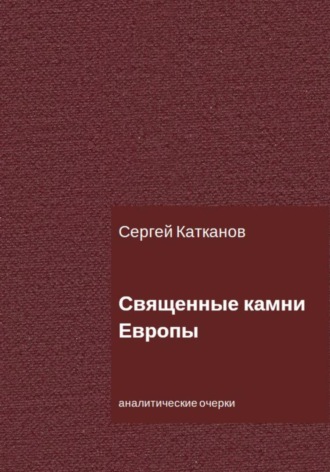
Сергей Юрьевич Катканов
Священные камни Европы
Почему на Руси не было рыцарства?
Да потому что рыцарство сформировалось на основе земельной аристократии, а в период формирования русского государства у нас земельной аристократии не было. Киевская, то есть Днепровская Русь – городовая, торговая. Скандинавские саги называют Русь – «Гардарик», то есть «страна городов». Ключевский пишет, что «город – первый устроитель и руководитель её (Руси) исключительного быта, потом встретивший соперника в пришлом князе, но и при нём не потерявший важного значения… Города были созданы успехами внешней торговли Руси. Большинство из них вытянулось длинной цепью по главному торговому пути «из варяг в греки»».
Какова же была природа первоначальной нашей власти, правящей верхушки Руси? Вопрос опять проясняет Ключевский: «Главные торговые города Руси должны были сами взять на себя защиту своей торговли и торговых путей. Они начали вооружаться». «Варяги-скандинавы вошли в состав военно-промышленного класса, который стал складываться в IX веке по большим торговым городам Руси. На Западе дан – пират, у нас преимущественно вооружённый купец».
Итак, Русь была создана торгашами, барыгами, и русский народ сформировался под их определяющим влиянием. У нас не было военной аристократии, лишь торговая олигархия, по необходимости – вооружённая. Не было на Руси мощных замков, каждый из которых контролировал земельный надел. Не было обитавших в замке аристократов, которые защищали своих крестьян. Наши князья обитали в городах и защищали они не людей, а товар. Изначальная русская власть не привязана к земле, она подвижна, как сама торговля. Вот потому-то и не сформировалось у русской власти чувства ответственности за свою землю и людей, которые её возделывали. Где товар, там и родина, а товар постоянно перемещается. А люди что? Люди – наёмники. Убьют этих – наймём других.
Земельная аристократия и торговая олигархия, имея перед собой принципиально различные задачи, соответственно формируют в своей среде принципиально различные идеалы, ценности. У аристократов – верность долгу, ответственность за своих людей, основанная на этом личная честь и готовность пожертвовать собой. У торгашей главная ценность – выгода, отсюда – хитрость, изворотливость, лукавство, склонность к обману. Ведь, как известно, «не обманешь – не продашь». Торгашам совершенно не свойственно чем-то жертвовать ради ближнего, потому что «ближним» для него является кошелёк. Город – порождение торгашей и, кажется, не случайно говорят о том, что первый город на земле построил Каин.
Владимирская Русь это уже Русь удельно-княжеская, но русский князь навсегда оказался привязан к городу, и психологически, и экономически. Невозможно было отменить того факта, что «дружина вместе с князем вышла из среды вооружённого купечества» (Ключевский). Русская власть не хотела привязываться к земле, поэтому у нас так и не возникло феодализма, а возникла некая невиданная на Западе политическая реальность.
Верховная власть в стране была коллективной, она принадлежала всему роду Рюриковичей. Уделы делились по старшинству, исходя из того, какой доход они приносили, конкретные князья владели своими уделами временно. Умирал князь старшего удела – на его место заступал не сын, а князь младшего удела, происходила «передвижка». Понятно, что при таком порядке князь не привязывался к своему уделу, вообще не считал его своим, относился к нему, как к временному кормлению, то есть как временщик.
Ключевский недоумевает: «Можно было раз навсегда поделить общее родовое достояние на постоянные наследственные доли, как было у Меровингов при преемниках Хлодвига. Откуда и как возникла мысль о подвижном порядке владения по очереди старшинства?»
А дело, очевидно, в торговой психологии князей. Это психология «перекати-поля». «Олигарху собраться – только подпоясаться», что нам по своей эпохе хорошо известно. Передвижка вызвана соображениями купеческой выгоды. «Почему я должен сидеть в Чернигове, если сидеть в Киеве выгоднее?» – думал русский князь. Западный аристократ думал иначе: «Я сижу в Тулузе, потому что здесь сидел мой прадед, а Париж – не моя земля». Достаточно вспомнить один из рыцарских девизов французского средневековья: «Герцогом быть не хочу, королём не могу, но я сеньор де Куси». Это сказал земельный аристократ, он так врос в родной Куси, что его оттуда и тараном было не вышибить. Неужели он стал бы думать о том, что владеть соседним уделом – выгоднее? А наши только об этом и думали. «Понятие о князе, как о территориальном владельце, хозяине какой-либо части русской земли, имеющем постоянные связи с владеемой территорией, ещё не заметно» (Ключевский).
Поэтому и не появилось на Руси аристократии, то есть сильных и в равной степени уважаемых родов, а вся власть принадлежала роду Рюриковичей. Чтобы основать свой аристократический род, надо врасти в землю, обособится от других и держаться за свой феод до последнего вздоха. Капетинги, очевидно, тоже не отказались бы видеть во Франции свою семейную собственность, раздавая в «кормление» братьям и детям кусочки общей страны, но герцоги и графы в своих уделах чувствовали себя суверенами, у них были свои семьи, и Капетингам было не рекомендовано слишком сильно высовывать свой нос из королевского домена.
Русские же князья «видели в себе не столько владетелей и правителей Русской земли, сколько наёмных, кормовых охранителей страны» (Ключевский). Наши князья просто «крышевали барыг», делая это, как водится, в добровольно-принудительном порядке.
На Западе барон получал свою землю от графа и за эту землю был обязан графу службой, их отношения определялись вассальной присягой. Это и есть классический феодализм. Русский удельный князь опирался не на подконтрольных ему земледельцев, а на наёмников, на то же самое «перекати-поле». «Бояре и вольные слуги в XIV веке свободно переходили от одного князя к другому, служа в одном уделе могли иметь вотчины в другом, перемена места службы не касалась вотчинных прав» (Ключевский). Барон и граф – звенья иерархии, между ними существовала верность, отсюда и представления о чести. Боярин и князь – партнёры, отношения между ними – деловые, то есть длящиеся пока это выгодно.
«На Западе свободный человек, обеспечивая свою свободу… создавал вокруг себя тесный мир, им руководимый и его поддерживающий… Вольный слуга удельных веков… искал опоры для своей вольности в личном договоре на время, в праве всегда разорвать его и уйти на сторону» (Ключевский).
Проще говоря, европейскую свободу обеспечивали крепкие стены замка, русская свобода строилась на принципе «хрен догонишь». Западный аристократ, врастая в землю, прирастал к людям, учился осознавать себя их защитником. Русский «мастер меча» служил тому, кому выгоднее, если кого и защищал, то за плату. Откуда тут взяться представлениям о чести? Русский правитель был силён постольку, поскольку мог нанять много опытных воинов. Так будет ли правитель относится к такому воину, как к равному, как рыцарь к рыцарю? Очень было бы нелепо. Бояр нельзя, конечно, было сильно обижать, могли и к другому князю переметнуться, ну так просто создали такие условия, когда бежать стало некуда, и тогда уже стали смотреть на служивых, как на холопов, потому что личной чести за ними и никогда не признавали. А служивые и сами никакой чести за собой никогда не числили, потому и в холопов обратились без внутреннего напряжения.
А русские богатыри? Илья Муромец очень похож на странствующего рыцаря. Он держит себя с князем очень независимо, его представления о личном достоинстве не оставляют даже лучшего желать, он видит свою главную задачу в защите земли русской, его легко представить в роли защитника «вдов и сирот». Илья Муромец – самый мощный русский миф, в нём трепещет наша народная душа. И всё-таки Илья – не рыцарь. Наш богатырь не являет собой звено иерархии, он не связан никакими нитями ни с кем, он не привязан к земельному наделу. Рыцарь – суверен, на этом и основано его достоинство. Илья – нет. Это казак, то есть свободный человек на службе, которую в любой момент готов бросить. Он не видит никакой чести в сохранении верности князю.
Проходили столетия, Русь замкнувшись в себе, всё-таки поглядывала время от времени в сторону Запада, во всяком случае, это делали наиболее образованные её представители, к каковым, безусловно, принадлежал Иван Грозный. Опричнину часто сравнивали с рыцарским орденом. Например, современный исследователь АЕ. Мусин пишет: «Сама организация опричного войска с клятвенными обетами, чёрной одеждой из грубой ткани, запретом на общение с земщиной, специальной атрибутикой, ритуалами богослужебного характера часто рассматривалась, как подобие монашеского ордена».
Похоже, Иван Грозный вполне сознательно хотел создать некое подобие военно-монашеского ордена, ведь он был хорошо знаком с устройством Ливонского ордена. И всё-таки рыцарского ордена из опричнины не получилось по одной простой причине – опричники не были рыцарями по самой природе своей, по ментальности. Опричники – царевы холопы, даже о руководителей опричнины царь мог легко вытирать ноги, они не возражали, им даже нравилось. Илья Муромец – человек наделённый личным достоинством, но органично не связанный с князем. Малюта Скуратов – человек органично связанный с государем, но начисто лишённый личного достоинства. Опричнина – хороший пример того, что получается, когда пытаются создать орден, не имея рыцарей.
Опять прошли столетия, и вот в России появилось нечто весьма напоминающее рыцарский орден, хотя на сей раз никто таких сравнений не делал. Это подразделения Белой армии, сплошь состоящее из офицеров, которые замещали там рядовые должности. Офицерские роты – уникальный военно-психологический феномен, какого мировая история не знала ни «до», ни «после». Это и есть то самое «войско из одних эмиров», о котором писал Сергей Смирнов. У Смирнова юный Саладин недоумевает: «Такого войска не может быть… Не бывает эмира без собственного войска, которым он предводительствует. На то он и эмир, чтобы иметь войско, хотя бы малое. Каждая вершина имеет под собой гору и неизбежно отделена от другой вершины значительным расстоянием. Если десять вершин собрать в одно место, то они перестанут быть вершинами и превратятся всего лишь в груду камней».
Рыцарь Онфруа Торонский с удовольствием подхватывает это сравнение: «Теперь представь себе, славный воин, что десять вершин в одночасье срываются вниз. Какова мощь такого падения?».
Поэтому так страшны были атаки офицерских рот. Здесь никого не надо было поднимать в атаку, потому что каждый привык поднимать в атаку других. Здесь невозможно было выбить офицеров – все рядовые были офицерами, и любой из них готов был командовать ротой. Здесь у каждого было представление о личной чести, не позволявшей по огнём сделать ни шагу назад. Как это похоже на тамплиерские атаки! Воистину, идти парадным шагом на пулемёты способны были только тамплиеры.
К началу XX века русское дворянство впитало в себя уже достаточно предсталений о чести и личном достоинстве. Малюту Скуратова Иван Грозный мог приказать хоть на конюшне выпороть. Но даже до последнего подпоручика старший по званию не смел и пальцем коснуться. Подпоручик мог и полковника на дуэль вызвать, потому что они оба – дворяне.
Конечно, Корниловский полк – не Корниловский орден, там до ордена ещё многого не хватало, но уже стало заметно, то между русской и европейской военной элитой нет непроходимой пропасти. Впрочем, в советскую эпоху стало заметно, что родимые пятна торгашества – плебейство и холопство могут оказаться во всю рожу.
Вывод приходится сделать такой: отсутствие на Руси рыцарства было связано с причинами экономическими, политическими, социальными, но нет ни малейших признаков того, что этот пробел обусловлен причинами духовными. Иными словами, рыцарский идеал ни в чём не противоречит православию.
Да, надо признать тот факт, что русский национальный характер сформировался в условиях господства откровенно антирыцарской психологии. Никакие рыцари на Руси не могли появится ни при Владимире Святом, ни при Иване Грозном, ни при Петре Великом. Ментальное наследие наших предков торгашей мы очень отчётливо ощущаем в себе до сей поры. Но разве национальный характер – нечто раз и навсегда данное, не подлежащее никаким изменениям? Разумеется, в одночасье не переломить того, что складывалось веками, но к настоящему времени мы уже четвёртое столетие весьма активно поглощаем плоды европейской культуры. Не только гнилые плоды либерализма, на которые русский организм реагирует рвотой, но и здоровые плоды европейского христианства, многие из которых наш национальный организм очень хорошо усваивает.
Может ли сегодня появиться настоящий русский орден? Не раньше, чем в России появятся рыцари. Для начала же должны появится люди, очень точно знающие, что такое рыцарство, и способные честно ответить на вопрос, насколько их внутренняя душевная организация соответствует рыцарскому психотипу.
Так возможно ли появление русских рыцарей, если учесть, что они не будут иметь опоры в национальной традиции? Да, возможно. Хотя Русь не имела школы классического феодализма, но русские люди вполне способны впитывать ценности им порождённые. Почему мы не может жить согласно тем законам, открыть которые нам помешали исторические условия?
Русский народ по основному своему призванию – народ-хранитель. Хранитель прежде всего православия, но так же и всего того, что православию не противоречит, а может быть и поддерживает его. Запад отрёкся от рыцарских идеалов, втоптав их в грязь. Русские люди могут эти идеалы подобрать, отмыть от либеральной грязи и сделать своими. И тогда русский народ станет последним в мире хранителем рыцарства.
Диакон Андрей Кураев сказал как-то, что русские – староевропейцы, то есть мы нисколько не напоминаем современных европейцев, но весьма похожи на их славных европейских предков. Представьте себе, что родной сын достойного человека отрёкся от отцовских идеалов, а приёмный сын стал ближе родного, потому что продолжил дело его жизни. Русские – приёмные дети Хлодвига и Карла Великого. Теперь это наши предки. Осознание этого факта сделает нас духовно богаче.
Русским патриотам надо бы основательно вдуматься в слова славянофила Ивана Кирееевского: «Всё прекрасное, благородное, христианское нам необходимо, как своё, хотя бы оно было европейское».
Зачем России рыцари?
Остаётся, конечно, вопрос – нужны ли России рыцари? Жили же без них. Но всегда ли и во всём ли хорошо мы без них жили? У русских людей есть одна очень глубокая и очень тяжёлая ментальная проблема. Это наше отношение к власти. Русским совершенно чуждо представление об «общественном договоре», то есть о наёмном характере власти. Мы воспринимаем власть, как нечто подавляющее народ, и наша власть охотно подтверждает такое о себе представление. Русская власть на протяжении многих веков постоянно унижала людей, относилась к своему народу, как к чужому, как к некой биомассе, на которой удобно паразитировать. Отсюда две русские тенденции отношения к власти. Первая – анархическая, то есть отрицание любой власти, как заведомо враждебной к человеку, вторая – холуйская, то есть готовность охотно унижаться перед властью, ползать на брюхе даже перед самым маленьким начальником. И власть наша в упор не видит человека, который не ползает перед ней на брюхе. Это очень тяжёлая проблема, уходящая корнями вглубь истории на тысячу лет, когда власть наша формировалась, как не привязанная к земле, не видевшая в людях «своих», и смотревшая на них не как на объект защиты, а как на способ «кормления».
Нездоровое отношение к власти, равно как и нездоровое отношение власти к гражданам, русским людям надо сейчас выравнивать. Вот этому-то и могло бы способствовать развитие в нашем народе рыцарского начала. Рыцарь органично связан с властью, то есть легко признаёт над собой руководство тех, кто выше его на иерархической лестнице. Вместе с тем, рыцарь совершенно чужд холуйскому и раболепному отношению к власти, рыцарь перед начальством никогда не заискивает. Рыцарь уважает власть и требует равного уважения к себе. Рыцарь – не солдат, ему нельзя отдать приказ, противоречащий его представлениям о чести, он такой приказ не выполнит, при этом всегда будет готов пожертвовать жизнью во имя высшей цели.
Развитие в русском народе рыцарского начала поможет нам скорректировать некоторые дефекты национального характера. Конечно, таких людей не может быть много. Рыцарских полков никогда не будет и не надо. Но и несколько настоящих рыцарей могут значительно повлиять на судьбу Отечества.
Так появятся ли настоящие русские рыцари? Да они уже появились, только они и сами об этом пока не знают. Современные русские рыцари – это потеряшки, люди, которые не вписываются в систему, живут против общих правил, не знают на чём утвердить свои правила и в каком направлении развиваться. Русских рыцарей не надо изобретать и придумывать, им только надо помочь с самоопределением, а дальше всё само пойдёт.
Второй Царьград
Мне не нравится идея «Москва – третий Рим». В чём она нас убеждает? То, что Москва приняла эстафету центра православной империи от Константинополя – это не вызывает сомнений, и это очень важно для нас. Та мысль, что Русская держава является преемником Византии, отражает величие судьбы русского народа. Это преемство духовное и суть его – в охранении и сохранении Вселенского Православия. Но скажите, при чём тут первый Рим, то есть собственно Рим? У него-то мы что унаследовали и какие из «римских ценностей» намерены сохранять?
Когда-то воздвигнутая гением императора Константина новая столица империи получила название второго Рима. Но это ничего не означало, кроме смещения центра власти на Восток, это был всего лишь факт политический, даже технический, не имевший никакого духовного значения. То, что в Римской империи появился новый центр власти отражает лишь перипетии борьбы за власть, то есть нечто временное, преходящее. Вечных ценностей новый Рим от Рима древнего отнюдь не унаследовал, и в этом смысле никак не является его преемником. Константинополь не принимал от Рима эстафету хранения истины, не принимал веру. К моменту появления на востоке нового политического центра Рим был языческим и в плане религиозном новой столице ничего приличного завещать не мог, а христианизация западной и восточной империй шла одновременно.
Логика инока Филофея, впервые возопившего про «третий Рим» была, видимо, такова: поскольку Москва (Русь) приняла веру от Константинополя, а он есть Рим второй, то Москва, соответственно, третий. Этим умозаключением наш инок доказал, что умеет считать за трёх, но отнюдь не продемонстрировал способности отличать факты политические от фактов духовных. Преемственность Константинополя от Рима – явление политическое. Преемственность Москвы от Константинополя – явление духовное. Цепочки не получается. Чтобы спаять эти три звена, надо увидеть в них факты исключительно политические и тогда почему бы не обрести четвёртый Рим, например, в Вашингтоне? Либо надо увидеть в них факты религиозные, мистические, и тогда получается, что Москва – наследник древнеримского язычества.
История тысячелетнего Рима – это история язычества. Императоров-христиан Рим знал лишь в период упадка. Не они создали славу Рима, они эту славу угробили. И вот теперь попытайтесь объяснить, почему для Москвы так важно вести свою родословную от языческого Рима?
У идеи «Москва – третий Рим» есть одна нехорошая особенность. Она исключает из числа наших духовных предшественников христианский Запад. Как бы получается, что сначала были Октавианы и Траяны, потом – Константины и Юстинианы, а следом за ними – Иваны. Вы заметили, что Карлам здесь места нет? А хорошо ли это? Правильно ли?
Решительно невозможно понять, почему Октавиан Август нам ближе и дороже, чем Карл Великий? Почему Луций Анней Сенека нам роднее, чем Франциск Азиский? Почему Марк Тулий Цицерон нам свой, а Бернар Клервосский – чужой? Карл был православным императором, а мы предпочитаем ему язычника? Франциск и Бернар, конечно, католики, и уж, наверное, не все мысли у них правильные, с этим разбираться надо, но неужели у языческих мыслителей правильных мыслей больше?
Вот такие шокирующие, скандальные даже вопросы перед нами неизбежно возникнут, если мы примем идею «Москва – третий Рим». Почему же славянофилы так охотно подхватили и раскрутили эту не самую умную мысль инока Филофея? Похоже, им как раз нравилось, что из этой цепочки выпадает великая история христианского Запада.
Мне совершенно непонятна мысль Тютчева: «Что такое история Запада, начавшаяся с Карла Великого и завершившаяся у нас на глазах? Это история узурпированной империи». Что узурпировал Карл? Он был с Юстинианом одной веры – православной. Он создал первую на Западе христианскую империю, связанную с христианскими идеалами изначально, генетически, в отличие от древней римской империи, христианизированной, но не успевшей преодолеть свою генетическую связь с язычеством. Наследники Юстиниана не имели ни малейших сил утверждать христианские идеалы на территории Западной Европы. Каким, интересно, законным правителям должен был уступить свою власть Карл, чтобы не быть узурпатором? Нам не нравится, что Карл провозгласил себя императором, когда в Константинополе уже был император? Но вам не кажется, что это опять же вопрос политический, то есть вопрос властных амбиций, а не религиозный, не духовный вопрос, если учесть, что Церковь тогда была единой?
Совершенно непонятна мысль, которую высказывают некоторые современные патриоты – дескать, настоящая империя может быть только одна. А почему не быть двум империям, если один император не в состоянии удержать власть над огромной территорией? Опять же получается, что империя Нерона и Калигулы – настоящая, поскольку единственная, а империя Карла Великого – не настоящая, поскольку вторая. Мысль не только странная и ни на каких разумных доводах не основанная, но и крайне вредная для современного русского сознания.
Откуда же в русских патриотах эта неисстребимая энергия отрицания христианского Запада? Мне кажется – от обиды. Дело в том, что Запад Россию и русских не любит, никогда не любил и никогда не будет любить. Это факт бесспорный, тут даже доказывать нечего.
Ещё Тютчев вполне справедливо писал:
Как перед ней не гнитесь, господа,
Вам не снискать признания Европы.
В её глазах вы будете всегда
Не слуги просвещения, а холопы.
Презрительное отношение европейцев к русским крайне болезненно задевает наше национальное самосознание. И мы по-детски обижаемся на Европу: «Да наплевать нам на ваше признание, потому что сами вы дураки, и ничего у вас там хорошего нет, одна только зараза». Если бы Европа млела от любви к России, осыпая русских комплиментами, нам было бы не только легко, но и приятно сказать: «И вы тоже неплохие ребята, и у вас немало хорошего». Но на презрение нам очень хочется ответить презрением, то есть на европейскую глупость мы отвечаем своей русской глупостью, ни чуть не меньшей.
Как же тут быть? Объяснить европейцам, что мы хорошие и у нас тоже немало ценного, чему бы Европа могла поучиться к большой для себя пользе? Достоевский так и думал. Он полагал, что придёт время, когда «европейские братья» «перестанут смотреть на нас столь недоверчиво и высокомерно, как теперь ещё смотрят». И русский народ обязательно «скажет окончательное слово великой всеобщей гармонии».
Тут Фёдор Михайлович проявил большую наивность, столь свойственную порой гениям. Может быть, в его эпоху и можно ещё было предаваться подобным мечтаниям, но в наше время уже окончательно ясно, что никогда русские не скажут такого слова, которому Запад будет внимать с восхищением и благодарностью. Русские сегодня могут сохранить свою народную душу, но «великая гармония» между нами и Европой окончательно стала химерой.
Европейцы всегда будут презирать русских и за реальные, и за вымышленные грехи. Нам не простят ни православной империи, ни большевистской революции. Ни плохих дорог, ни нарушения прав человека. Ни технической отсталости, ни недостатка демократии. Европейцы будут презирать русских даже за то, в чём сами виноваты больше нас. Они будут пьянствовать и презирать нас за пьянство. Они закроют у себя все храмы и будут презирать нас за то, что мы – неправильные христиане. Они уничтожат у себя всякий намёк на образованность и будут презирать нас за отсталую систему образования. К сожалению всё актуальнее становятся слова Тютчева: «Пропаганда католическая и пропаганда революционная, друг другу противоположные, но соединённые в одном общем чувстве ненависти к России». А мы едва ли от счастья не пляшем, когда хотя бы несколько европейцев скажут о русских хотя бы несколько добрых слов.
Больно? Если честно, то очень. Так как же быть? Выход один. Быть хорошими христианами, то есть жить по заповедям Христа. Господь призвал любить врагов, призвал благословлять ненавидящих нас. Это очень трудно, но это совершенно необходимо. Хватит ли у русских духовных сил любить великую христианскую историю Европы, которая нас, русских презирает? Для русских это вопрос выживания, потому что альтернативы такой любви к Европе, не только убоги, но и губительны для нас. Мы либо будем вечно ползать перед Западом на брюхе, по-холуйски стремясь добиться хотя бы некоторого расположения, либо будем истощать свои силы в проклятиях Западу, фанатично отказываясь заимствовать то, что на Западе было прекрасного и возвышенного.
Русские сегодня – самый духовный народ Европы. Только этим мы и сильны, но это надо подтверждать каждым своим словом и вздохом. Если русские патриоты останутся на позициях тотального отрицания всего западного, этим они докажут только свою бездуховность, то есть неспособность благословлять проклинающего и любить ненавидящего.
Может быть, именно русские православные рыцари окажутся способными взять у Запада всё лучшее, что там было и при этом не попасть к Западу в интеллектуальный плен. Наши рыцари откажутся от холуйского подражания Западу, но одновременно и от узколобой ненависти ко всему западному. Очень похоже, что русская православная душа нуждается сегодня в укреплении мужественными идеалами рыцарства, идеалами благородства и великодушия. Рыцарство – это достоинство без гордыни, смирение без раболепства. Всё это и без рыцарства есть в православии, но есть ли это в достаточной мере в наших душах? Может быть, стать настоящим рыцарем, это значит стать настоящим православным? Похоже, что католицизм мешал полному раскрытию рыцарских идеалов. Так не должны ли православные поднять упавшее знамя?
***
В русском народе сегодня можно обнаружить самые лучшие черты европейских народов. В России вы найдёте и «острый галльский ум» и «сумрачный германский гений», и латинскую ясность мышления, и греческую богословскую глубину.
Настоящим русским людям в равной степени дороги великие фигуры как европейской, так и национальной истории. И Хлодвиг, и Рюрик. И Карл Великий, и Ярослав Мудрый. И Ричард Львиное Сердце, и Александр Невский. Где они ещё могут встретиться, кроме русской души?