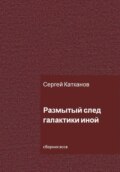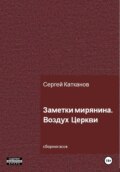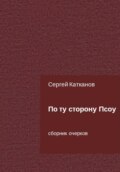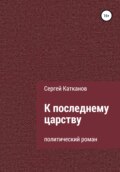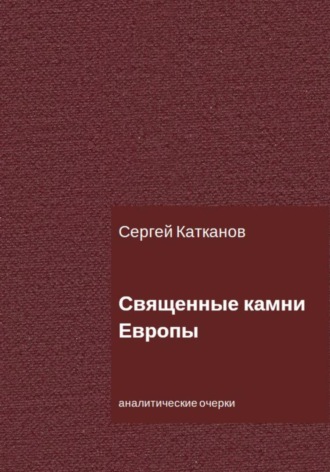
Сергей Юрьевич Катканов
Священные камни Европы
Рождение рыцарства
Вопрос о том, когда рыцарство появилось на свет, не так уж прост. Рыцаря называли либо латинским словом «милес» – воин, либо французским «шевалье» – всадник, но воины и всадники раннего средневековья далеко ещё не соответствуют классическим представлениям о рыцарстве. Значение слов, обозначающих рыцаря, развивалось и усложнялось до тех пор, пока не породило новое качество. А историю смыслов проследить куда сложнее, чем историю фактов. Можно относительно точно сказать, когда у франков появилась тяжелая кавалерия, но сказать, когда она стала рыцарством гораздо сложнее. Рыцарство – это не только определенный образ боя, и даже не только определенная этика. Рыцарство – это прежде всего определенная ментальность. А историей ментальностей у нас всерьез никто не занимался.
Рыцарство, как уникальный тип мировосприятия, формировалось в течении 5-6 столетий в результате взаимодействия самых разнообразных факторов. Первый из них -в V веке Европа оказалась почти без власти. Многочисленные германские вожди держали за собой столько земель, сколько им позволяла их сила. Между собой эти вожди, как правило, находились в состоянии вражды, общего управления не было. Полный хаос не может длиться долго, вожди пытаются договариваться, вырабатывать ну хоть какие-то принципы взаимодействия, примерно, как бандиты на сходняках. А договариваться они могли только как абсолютно равноправные суверены.
Франки не могли заменить римскую государственность на свою германскую государственность. У них никогда не было государства, они очень смутно представляли, что это такое. В противоположность римскому, германское общество – это община воителей, превыше всего ставящая боевую доблесть и владение оружием. В эту общину свободных людей доступ был открыт только через инициацию, включавшую клятву над обнаженным мечом. Власть и сила в сознании франка сливаются. Властью обладает тот, кто лучше всех владеет мечом, в силу чего сможет подчинить себе максимальное количество воинов, с помощью которых будет контролировать максимальную территорию. Каждый владеет тем количеством земли, которую может удержать при помощи собственной вооруженной силы.
И вот тут происходит слияние двух реальностей, которые никогда не сливались в римском мире – земельный собственности и власти над этой землей. Римлянин мог владеть на правах собственника сколь угодно обширными землями, но он не был на своих землях сувереном, не обладал властью. Суверен в римском мире был только один – римское государство. Между тем, самый мелкий вождь франков обладал полной властью над той землей, которую контролировал с помощью собственной вооруженной силы. На своей земле он был маленьким государем, сувереном, даже если контролировал всего с десяток гектар. Вот уже и прозвучал первый звоночек, возвестивший о рождении рыцарства, до которого, впрочем, оставалось ещё полтысячи лет. «Человек с мечом» заменил собой органы государственного управления. Хорошее владение мечом само по себе давало власть, аналогичную государственной.
Как ни странно, франки среди прочих германских племен меньше всего ценили кавалерию. Они воевали преимущественно пешими, и все свои победы в Западной Европе они одержали при помощи пехоты. Но этот народ оказался талантливым подражателем. Став господами Галлии, франки постепенно развивают у себя кавалерию. Развивают до того, что слово «дворянин» и слово «лошадь» стали отличаться у них только одной буквой («шевалье» и «шеваль») Уже у Карла Великого мы видим тяжелую кавалерию, прототип рыцарской, которая постепенно стала основным родом войск. Это ещё далеко не рыцарство, но это уже второй звоночек, возвестивший о его грядущем рождении.
Служба в тяжелой кавалерии требовала безумно дорогого вооружения и коня особой породы, тоже весьма недешевого. Особая манера ведения боя требовала длительных тренировок, начинать которые лучше всего с раннего детства. Эти обстоятельства способствовали превращению тяжелой кавалерии в аристократическую элиту. Самый мелкий вождь франков и без того имел самоощущение абсолютного монарха, ибо не знал над собой ни какой власти, потому что её в общем-то и не было. И всё-таки в бою разница между пешим вождем и его пешими подданными была не столь уж велика. А если вождь на коне в безумно дорогих доспехах, которые никто из подданных не может себе позволить, а даже если бы кто-то из подданных и спер доспехи, он всё равно не может в них воевать, разница между вождем и подданными многократно возрастает, и представление вождя о собственном достоинстве возрастает пропорционально. Он, может быть, и правит всего парой-тройкой деревень, но все крестьяне этих деревень, собравшись вместе, не смогут одолеть в бою его одного.
Самая низовая, мелкая аристократия ещё больше суверенизируется, начинает чувствовать свою отдельность, обособленность, начинает воспринимать себя, как людей другого качества. Если у римлян слово «милес» означало просто солдата, теперь оно означает уникального воина – всадника. Но это по-прежнему ещё не рыцарство.
Когда чуть ли не каждый сотый человек в стране имеет самоощущение монарха, государству очень трудно появиться – идет обратный процесс. Территория дробится на всё более и более мелкие сеньории. Единственным реальным центром власти становится замок, а в нем отряд вооруженных людей. Количество замков резко возрастает, потому что реально можно осуществлять власть лишь над окрестностями замка. Личность рыцаря суверенизируется ещё больше. Он и так уже – крепость на коне, благодаря своим доспехам, а теперь вокруг его личности возникает второй кокон – крепкие стены замка. Теперь полноценный рыцарь – это шателен («шатель» – замок).
Е. Ефимова пишет: «Рыцарский замок – это особый мирок, который живет на своей скале совершенно обособленной жизнью, почти не общаясь с другими такими же мирками. Один-два раза в год наезжают сюда вассалы и гости, а остальное время обитатели замка проводят в затворничестве. Поездка в гости представляет целый военный поход, так как дороги опасны, непроходимы и кишат разбойниками. При такой затруднительности сношений между различными местностями и почти при полном отсутствии торговли, всё изготовляется дома, руками своих мастеров, которые жили в замке. Крестьяне обрабатывали поля и платили оброк».
В таких условиях постепенно формировалась средневековая аристократия. Она не просто не похожа на римскую аристократию, в её основе лежит принцип диаметрально противоположный римскому. В Риме даже сенатор из древнего рода – не более, чем винтик государственной машины, сам по себе он – никто. Перестав быть частью государственной машины, он теряет всю свою силу и всё своё достоинство, даже если сохраняет огромные богатства. В Средние века даже самый мелкопоместный рыцарь – это суверенный правитель, осуществляющий на своей территории высшую власть. В Римском мире вообще нет фигуры, равной по достоинству рыцарю. Рыцарь выше даже римского императора, потому что императорская власть черпала силу в совокупной силе всей империи, а власть рыцаря в замке на скале черпала силу только в самой себе. Император не может существовать без империи, а власть рыцаря не претерпит вообще никакого ущерба, даже если провалится под землю весь мир в радиусе пяти миль от его замка. Такого феномена в истории Европы не существовало ни «до», ни «после».
Менталитет формируется очень медленно. Века уходят на то, чтобы определенные условия сформировали определенный психотип. И вот примерно к XI веку процесс формирования рыцарской ментальности был почти завершен. В этой ментальности всё взаимообусловлено, и всё уходит корнями в глубь веков. И рыцарская этика, тот «кодекс чести», о котором так много говорят – это производная от рыцарской ментальности, о которой не говорят вообще ни чего.
Взять хотя бы рыцарскую верность слову. В мире, где все обманывают всех, невозможно просто собраться, договориться и сделать так, чтобы с завтрашнего дня уже никто не обманывал никого. На формирование представлений о том, что слово чести дороже золота и крепче стали уходят века. И если мы отмотаем ситуацию на века назад, то вдруг увидим, что «слово чести» было просто необходимым условием выживания посреди всеобщего хаоса. В условиях государства обманщика карает государство, олицетворяющее собой общий для всех закон. А если нет закона и нет государства? Если воля человека с мечом и есть закон? В таких условиях мир не может существовать вообще, потому что воля, то есть закон, может меняться каждый день. Для того, чтобы придать миру хотя бы относительную стабильность, надо придать слову человека с мечом большой вес. Сила однажды произнесенного слова должна стать такова, чтобы её не мог преодолеть тот, кто это слово произнес. В любой корпорации, не имеющей возможности опираться на силу государства, удельный вес произнесенного слова становится очень высок. Такой корпорации не на что опереться, кроме нерушимости данного обещания, и любого, кто не держит слова, она карает изгнанием из своих рядов.
И представление о том, что рыцарь должен быть защитником слабых – это не из книжек, не из нашептываний прекраснодушных гуманистов, это даже не влияние Церкви. Это продиктовано неумолимыми условиями выживания, это требование крайней жизненной необходимости. В нашем мире – каждый сам за себя, а государство – за всех, оно и призвано защищать слабых, опираясь на общий для всех закон. Но когда закона нет, а есть только право сильного, либо сильные будут защищать слабых, либо все перережут всех за пару лет. Отсюда требование крайней насущной необходимости: человек с мечом должен защищать человека без меча.
Рыцарский кодекс чести -это не выдумка поэтов, это заменитель уголовного кодекса. Нет писаного закона – должен действовать неписанный, иначе все дружно накрываются медным тазом. Не бывает прав без обязанностей, не бывает власти без ответственности. Не потому что это хорошо, а потому что иначе – ни как. Когда нет специальных сил правопорядка, каждый человек с мечом не просто обязан, а вынужден защищать «вдов и сирот». Он может делать это плохо, но вовсе этого не делать не может. Конечно, в том мире полно было скверных рыцарей, осуществлявших насилие исключительно в личных интересах (как и сейчас полно таких ментов и копов), но вся корпорация не могла бы отказаться от своей социальной ответственности уже хотя бы из соображений самосохранения – в полном хаосе не выжил бы никто.
Таково, на мой взгляд, происхождение «рыцарской чести». Свод правил поведения, первоначально осознанных, как требование насущной необходимости, постепенно становится главной ценностью корпорации. За полтысячи лет эти правила растворяются в рыцарской крови. И тогда (только тогда!) рождается рыцарство. Честь становится уже не просто личной добродетелью, но моральной ценностью рода. Каждое поколение должно хранить и приумножать это коллективное достояние. Славное поведение предков морально принуждает следовать поданным примерам. Таков итог этого чрезвычайно сложного и длительного процесса.
В 1098 году Гийом Рыжий, взяв в плен множество рыцарей из Пуату и Ле-Мана, обращался с ними уважительно, велел развязать им руки, чтобы они могли достойно поесть. Его подчиненные высказали сомнение в разумности такого послабления, он им резко возразил: «От меня далека мысль, что истинно доблестный рыцарь может нарушить данное слово. Если бы он такое сделал, то стал бы навсегда презренным существом, поставленным вне закона».
В XIIвеке европейская аристократия имела уже достаточно интеллектуальных сил для того, чтобы четко сформулировать интуиции минувших веков. Джон Солсбери пишет: «Обязанность рыцарства состоит в том, чтобы оберегать Церковь, карать вероломство, охранять слабых от несправедливости, обеспечивать мир в стране и проливать кровь свою за братьев своих…» И это не благое пожелание, а отражение реальности. Рыцарство не могло не играть эту роль.
Итак, рыцарство родилось из ментальности франков, а так же особенностей общественного бытия и характера власти в V-XIвеках. Но! Параллельно с процессом осознания вождями франков своей роли в этом мире, шел ещё один процесс: воцерковление Европы. Эти два процесса совпадают по времени, они тесно переплетаются, они не отделимы один от другого. Рыцарство родилось из переплетения этих процессов, слившихся в один.
Когда Хлодвиг в V веке отверг арианство и принял православие, мягко говоря, ни чего не изменилось. Перемена церковной юрисдикции и исполнение других обрядов ни на что не повлияли в душах франков и ещё очень долго не могли повлиять. Потребовались века на то, чтобы христианство, уже во многом определявшее внешнюю сторону жизни, начало определять внутреннюю жизнь души. Как рыцарский кодекс чести, долго оформлявшийся в коллективном сознании воинов франков, ещё дольше растворялся в их крови, так же и Евангелие, сначала принятое формально, потом осознанное разумом, постепенно растворяется в крови, и эти люди уже не просто делают то, что велит Церковь и не просто думают так, как предписывает Церковь, они уже и дышат так, как это свойственно христианам, они воспринимают реальность по- христиански.
Бесчисленное количество современных авторов с простодушной наивностью далеких от Церкви людей демонстрируют полное непонимание глубины этого процесса. Человек может быть крупнейшим знатоком средневековья, но если это человек нецерковный, он так ни чего в средневековье и не поймет, потому что будет иметь дело лишь с внешними проявлениями тех процессов, внутренний смысл которых ему не доступен. Если, скажем, группой людей движет вера во Христа, человек, во Христа не верящий, не может понять, что происходит, он объяснит действия этой группы причинами, ему понятными, но не имеющими к делу никакого отношения. Внутренняя логика поступков христианина может быть понятна только христианину, а таковых среди современных авторов, прямо скажем, не лишка.
К примеру, Жан Флори пишет о том, что военную идеологию германских племен «Церковь постаралась обуздать, поставить под свой контроль и направить в желательном направлении». Дело представляется так, что хитрая и ловкая церковь сумела заарканить дикого и буйного жеребца рыцарства, напела ему в уши сладких слов, заставила ходить под церковным седлом, и теперь этот жеребец хоть и по-прежнему диковат, но всё же управляем. Церковь и рыцарство представляются здесь, как две принципиально различных силы, одна из которых подчинила себе другую. Принципиальная порочность этого представления в непонимании того, что рыцарство было частью Церкви, а не силой от неё отдельной. Представьте себе барона 20 поколений предков которого молились Господу Иисусу Христу. Такой барон может быть куда лучшим христианином, чем иной аббат, и его действия ни как не определяются тем, что поет ему в уши аббат, он делает то, к чему призывает его Христос.
Флори продолжает: «Рыцарство появилось на свет, как плод слияния двух совершенно несовместимых идеалов, формально противоположных, но тянущихся один к другому – идеала христианской веры и военного идеала германского язычества».
Это утверждение звучит почти комично. Несовместимые идеалы потому так и называют, что их невозможно совместить, если же они оказались совмещены на практике, значит, они никогда и не были несовместимыми. Потому рыцарство и не появилось в VI-VII веках, что воины франки, формально приняв христианство, в душе оставались язычниками. А в XII веке, когда рыцарство окончательно сформировалось, в душах французов от германского язычества уже и близко ничего не было. А в военном идеале как таковом нет ничего несовместимого с христианством. Честь и вера не просто совместимы, глубоко и тонко понимаемая честь – это часть веры. Противоречат христианству лишь искажения воинского идеала, так же как и воинскому идеалу противоречат лишь искажения христианства.
Жан Флори продолжает настаивать: «Из элементов, взятых в разное время в разных пропорциях и под разными именами, складывается идеал, предлагаемый рыцарю прежде всего Церковью, которая настойчиво распространяет свою собственную идеологию, затем светской аристократией, которая связана с рыцарством кровными узами, и в противостоянии церковному влиянию выдвигает на первый план свойственные только ей способы чувствования, действия и мышления».
Вот как бы объяснить этому медиевисту, что христианин и аристократ – это один человек, а не два разных человека. Ни какой «светской аристократии» в средние века не существовало, вся аристократия была христианской, а христианин не станет противостоять церковному влиянию, если не страдает раздвоением личности.
Разумеется, Евангелие и рыцарский кодекс чести – не одно и тоже, но это собственно о разном под одним и тем же углом зрения – надо быть нормальным человеком, а не скотиной. Конечно, каждый профессионал приходит в Церковь, имея личные психологические особенности, сформированные его профессией, так же и рыцари. Но что в рыцарских особенностях может быть противоречащего Евангелию? Антихристианских профессий не бывает. Бывают профессиональные болезни души, но это именно болезни, а не профессиональные идеалы.
Итак, одним из факторов, сформировавших рыцарство, как военно-властную корпорацию, было христианство, а не «Церковь», понимаемая, как сумма попов. Меч – отец рыцарства, Церковь – его мать. Сам факт наличия двух родителей не несет в себе противоречия. Разумеется, мужское начало заметно отличается от женского, но без союза этих двух начал, извините, ничего не рождается.
Рыцарство – едва ли не единственная в истории человечества корпорация, которая не только никогда не была нехристианской, но и не может быть нехристианской даже теоретически. Дело в том, что развитие рыцарского психотипа шло по пути суверенизации личности, но, если этот процесс довести до полного логического завершения, мы получим классического сатаниста – существо максимально суверенизированное. Но сатанизм по сути своей деструктивен, лишен созидательного начала. Ни сатанинского общества, ни сатанинского государства существовать не может. А ведь рыцарство было главным гарантом стабильности в средние века и худо-бедно справлялось с этой задачей. Так вот это только благодаря следующему факту: в архитектуру рыцарской души было изначально вмонтировано христианство, которое четко обозначило пределы суверенизации личности.
Империя может существовать без Христа, мы знаем тому множество примеров. Рыцарство без Христа существовать не может, потому что быстро превратится в разрозненных маньяков-сатанистов, ни один из которых не может думать ни о чем, кроме себя. Такие особи не способны создать устойчивую группу даже из трех человек, не то что контролировать всю Европу.
Рыцарство находится в центре между двумя полюсами: крайняя десуверенизация личности, олицетворяемая стадом баранов или армией зомби-рабов, и крайняя суверенизация – разрозненные одиночки-деструкты. Только христианство не позволяет рыцарству окончательно скатиться во вторую крайность, а без этого «держателя» рыцарство и появиться не могло.
Даже рыцарские ритуалы носят «чисто светский» характер лишь до тех пор, пока рыцарства-то собственно и не было. Когда же рыцарство оформляется, его ритуалы уже христианские.
После строгого поста и нескольких дней, проведенных в молитве, кандидат в рыцари исповедался и причащался. Потом он одевался в белые одежды и шёл в церковь, при этом на шее у него висел меч, который священник благословлял, а затем возвращал кандидату. Получив «рыцарский удар» от посвящающего рыцаря, кандидат слышал: «Во имя Господа нашего, архангела Михаила и святого Георгия, делаю тебя рыцарем. Будь отважен, учтив и верен».
С конца XIвека рыцари получают свой меч с алтаря, на котором его предварительно освящают. Рыцарю говорят: «Прими с Божьего благословения этот меч, да обретет он с помощью Духа Святого такую мощь, чтобы ты мог противостоять всем противникам Святой Церкви с помощью Господа Иисуса Христа».
Рыцарь дает обет служить алтарю и давать Богу ответ за свой меч. Этот ритуал не был строго кодифицирован, он мог варьироваться, но христианский смысл его был неизменен.
Изначально фрагмент литургии, когда рыцарь приносил клятву, что поднимет оружие лишь в битве за правое дело, входил составной частью в церемониал коронации королей, но постепенно он достался всему рыцарству. Это очень важный факт – рыцарю сообщалось достоинство, равное монаршему.
***
Итак, рыцарство родилось в XI в. В конце этого века мы уже отчетливо его видим, но и в первой половине века встречаются фигуры, бесспорно наделенные рыцарскими чертами. Вот, например, герцог Нормандии Роберт Дьявол. Милое прозвище, не правда ли? Времена тогда были жестокие, дикими выходками трудно было кого-то удивить, и чтобы заслужить такое прозвище, надо было постараться. Его обвиняли, например, в отравлении своего брата Ричарда и других столь же скверных деяниях.
И вот, как поется в русской народной песне: «Вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил». Угрызения совести заставили Роберта совершить паломничество в Святую Землю, он прибыл туда, сопровождаемый большим количеством рыцарей и баронов, с котомкой и посохом в руках, босоногий, в «саване покаяния». Роберт говорил, что он ставит бедствия, испытываемые им за Христа, выше лучшего города в своём герцогстве.
В Константинополе он отказался от подарков императора и от роскошного приёма, который ему приготовили, прибыв ко двору простым пилигримом. Когда в Малой Азии он заболел, то отказался от услуг своей свиты и позволил нести себя на носилках только сарацинам. Один нормандский пилигрим, встретив его, спросил, не хочет ли герцог передать что-либо своим подданным? Роберт ответил: «Иди сказать моему народу, что ты видел, как дьяволы несут христианского князя в рай». На наш вкус, религиозность герцога Роберта была малость диковата. Человеку, заслужившему прозвище «Дьявол» вряд ли стоило кого-либо называть дьяволами, а его уверенность в том, что он уже едет в рай выглядит преждевременной. Но это уже искренняя религиозность, пусть ещё очень несовершенная.
Прибыв к воротам Иерусалима, Роберт нашёл там толпу пилигримов, которые не имели средств заплатить пошлину мусульманам за вход в Святой Град. Роберт заплатил за каждого из них по золотой монете и вступил в Иерусалим посреди восторженной толпы христиан. Во время своего пребывания в Иерусалиме он отличался благочестием и особенно щедростью, которая распространялась даже на мусульман.
Герцог умер на обратном пути в Европу, в Никее, занятый мыслями исключительно о мощах, которые он вывез из Святой Земли, и сожалея о том, что не окончил своих дней в Иерусалиме. Было это в 1035 году.
Кстати, наследовавший герцогу Роберту его внебрачный сын – знаменитый Вильгельм Завоеватель, отличался верностью в браке, воздержанностью и искренней набожностью. Вильгельм много воевал, но всегда был чужд бессмысленному кровопролитию и жестокости.
***
По-настоящему и окончательно рыцарство родилось в первом крестовом походе. Европу тогда охватил невероятный религиозный подъем, ставший закономерным результатом духовного развития европейской цивилизации за последние полтысячи лет.
Современник тех событий, аббат Гвиберт Ножанский, писал: «Мы видели, как волновались все нации и, закрыв своё сердце для всех других влияний, привычек и привязанностей, устремились в изгнание, чтобы ниспровергнуть врагов имени Христова, причем с таким жаром и радостью, какие никогда не обнаруживаются людьми, отправляющимися на пиршество или торжественный праздник… Никто не обращал внимания ни на почести знатных, ни на владение замками и городами, пренебрегали самыми красивыми женщинами… При этом внезапном изменении воли, каждый охотно предавался предприятию, к которому никто не мог принудить силой… Ни один священник не имел надобности говорить в церквях, чтобы воодушевить народ к походу, ибо каждый давал обет отправиться в путь дома или на улице и ободрял других своими речами и примером. Все выражали один и тот же жар. Люди, лишенные всяких средств, находили их так же легко, как и те, которые, продав свои огромные имущества, запасались большими средствами.
Так исполнились слова Соломона: «Саранча не имеет царя, а ходит строем». У крестоносцев не было короля, ибо каждый верный считал Бога своим руководителем и смотрел на себя, как на Его союзника. Никто не сомневался в том, что Господь ему предшествует, поздравляли себя с тем, что путь предпринимается по Его воле, и радовались в надежде иметь Господа Помощником и Утешителем в нужде…
Графы были заняты той же мыслью, что и простые рыцари, даже бедняки были до того воспламенены рвением, что никто не обращал внимания на скудость своих доходов и не спрашивал себя, может ли он оставить свой дом, виноградники и поля. Всякий считал долгом продать лучшую часть имущества за ничтожную цену, как будто он находился в жестоком рабстве или был заключен в темницу и дело шло о скорейшем выкупе.
Христос сильно занимал умы всех, Он разрушил оковы жадности. То, что казалось дорого в спокойное время, продавалось по самой низкой цене, когда все тронулись с места для предпринятия этого пути. Так как многие стремились окончить свои дела, произошло удивительное явление – внезапное и неожиданное падение всех цен: за денарий можно было купить семь овец. Дорого покупалось всё, что необходимо для дороги, а то, чем следовало покрыть издержки продавалось весьма дешево. В прежнее время темницы и пытки не могли вырвать того, что теперь отдавалось за безделицу.
Многие из тех, которые не имели намерения отправиться в путь, смеялись над теми, кто продавал свои вещи так дешево и утверждали, что им предстоит жалкий путь, и что ещё более жалкими они вернутся домой, а на другой день эти же самые люди, одержимые внезапно тем же самым желанием отдавали всё свое имущество за ничтожные деньги и шли вместе с теми, над кем только что смеялись.
Все жаждут мученичества, на которое они идут, чтобы пасть под ударами мечей… Девушки говорили: «Вы, юноши, вступайте в бой, а нам будет позволено послужить Христу своими страданиями…»»
Конечно, в том, что описал Гвиберт Ножанский много нервной взвинченности и слегка болезненной экзальтации – Запад есть Запад – у каждого свои недостатки. И всё же любой христианин почувствует в крестоносном движении такой искренний религиозный порыв, такое безудержное стремление к Небу, какое не часто случалось в истории человечества. Кажется, только первые христиане так же массово и с таким же воодушевлением, отреклись от всего земного, шли на смерть за Христа. Сколько в этом было чистой детской веры! А ведь главным движителем крестового похода было рыцарство. Духовные изменения, которые количественно накапливались в течение нескольких веков, в те годы привели к рождению нового качества. Рыцари окончательно осознали себя рыцарями веры – вассалами Христа. Иными словами, тяжелая кавалерия стала рыцарством.
Что чувствовали тогда эти удивительные и уникальные воины? Что происходило в их душах? Они сами рассказали об этом в «крестоносных песнях».
Граф Тибо Шампанский писал:
Я покидаю дом, но меч держа,
Горжусь, что послужу святому храму,
Что вера в Бога сил в душе свежа,
Молитвенно летя вслед фимиаму
Владычица! Покровом окружа,
Дай помощь! В бой иду, тебе служа.
За то, что на земле теряю даму,
Небесная поможет Господа.
А вот что писал немецкий рыцарь Гартман фон Ауэ:
Ты плащ с крестом надел
Во имя добрых дел
Напрасен твой обет,
Когда креста на сердце нет
Зовет воителей отвага
Под сень креста
Где рыцарям своим на благо
Любовь чиста.
Эти стихи пронизаны такой верой, которую ни с чем не перепутаешь. Их не стыдно было бы приписать Персевалю или Галахаду, образы которых вдруг начинают выглядеть вполне реально, жизненно.
А вот что писал неизвестный рыцарь-трувер уже в XII веке: «Вы, которые любите по-настоящему, проснитесь! Жаворонок своей песней возвещает, что пришёл день мира, который Бог в своей доброте дает тем, кто возьмет крест из любви к Нему и будет терпеть боль день и ночь. Тогда убедиться Он, кто истинно любит Его…»
Вы думаете, что так воспринимали мир только рыцари-поэты? Если бы «крестоносные песни» не были чрезвычайно популярны среди рыцарства, они не могли бы дожить до наших дней. Трубадуры и труверы выражали в красивых словах то мироощущение, которое было присуще всему рыцарству. Не верят в это только те, кто не верит в Бога.
Виктор Смирнов писал: «Тысячи юношей бросили свою жизнь в горнило крестовых походов, избирая небесную любовь, взамен земной. Великий и судьбоносный очистительный огонь пронесся над XIIвеком. В этом пламени выковался высочайший религиозный романтизм, чувство религиозной чести, возродились идеи бескорыстия и милосердия, вспыхнула мистическая одухотворенность личного благочестия, сформировалась та рыцарская традиция благородной любви, отголосками которой мы питаемся по сей день».
***
Бернар Клервосский, рассказывая о тамплиерах, провозгласил рождение «нового рыцарства». Его «Похвалу…» традиционно понимают, как противопоставление обычных рыцарей и рыцарей-монахов, которым он отдает предпочтение. Но это по сути не так и противопоставление тут другое.
Бернар писал на латыни и рыцаря называл латинским словом «милес», которое означает просто «воин», «вооруженный человек». В Риме этим словом называли любого рядового легионера. И в раннем средневековье, когда собственно рыцарства ещё не существовало, словом «милес» называли любого вооруженного человека. Бернар по сути возвещает о появлении «новых воинов», то есть о появлении собственно рыцарства, как такового, а не о «новом рыцарстве». Его любимые рыцари-монахи лишь наиболее ярко выражали рыцарский идеал, но не являлись единственными его носителями. И противопоставляет он по сути не светское и монашеское рыцарство, а рыцарство настоящее и не настоящее, хорошее и плохое. Он говорит про «новый род рыцарства (воинства), неведомый прошедшим векам». А ведь мы знаем, что в «прошедшие века» никакого рыцарства в нашем значении слова вообще не существовало. Поэтому, читая Бернара в русском переводе, всегда надо помнить о том, какое слово стоит у него там, где мы читаем «рыцарь».
«Каков же конец или плод сего мирского рыцарства или скорее мошенничества? Что, как не вечная смерть для побежденного или смертный грех для победителя? Какова же, о, рыцари, та чудовищная ошибка, что толкает вас в битву, с такой суетой и тяжестью, цель которых есть смерть и грех? Вы покрываете коней своих шелками и украшаете доспехи свои не знаю уже каким тряпьем, вы разукрашиваете щиты свои и седла, вы покрываете упряжь и шпоры золотом, серебром и драгоценными камнями, а после во всем этом блеске мчитесь навстречу своей погибели со страшным гневом и бесстрашной глупостью. Что это – убранство воина или скорее женские побрякушки? Неужто вы думаете, что мечи врагов ваших отвратятся вашим золотом, пощадят каменья ваши или не смогут пронзить шелка? Столь рискованное дело вы предпринимаете по столь незначительным и пустяковым причинам. Что же ещё причина войн и корень споров между вами, как не безрассудное желание ухватить чьи-либо мирские владения? Воистину, небезопасно убивать и рисковать жизнью за такое дело».