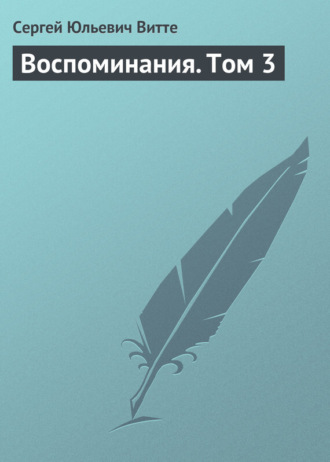
Сергей Юльевич Витте
Воспоминания. Том 3
Гучкова я лично совсем не знал, знал, что он из купеческой известной московской семьи, что он университетский, бравый человек и пользовался в то время уважением так называемого съезда общественных (земских и городских) деятелей. Я после узнал, что это тот самый Гучков, которого я уволил из пограничной стражи восточно-китайской дороги, года два или три до моего с ним знакомства. По-видимому этот эпизод оставил в Гучкове довольно кислое ко мне расположение.
Стаховича я ранее порядочно знал. Это очень образованный человек, в полном смысле «gentilhomme», весьма талантливый, прекрасного сердца и души, но человек увлекающейся и легкомысленный русскою легкомысленностью, порядочный жуир. Во всяком случае это во всех отношениях чистый человек. Он также все время участвовал в съезде общественных деятелей до 17 октября и после, до первой Думы, куда он был выбран от Орловской губернии членом. Зная и рассчитывая, что он будет выбран, он от всякого правительственного поста в разговоре со мной отказался, но все время участвовал в совместных совещаниях сказанных общественных деятелей со мною. Вероятно, у того или другого из этих деятелей есть мемуары о нашем совещании, с объяснениями, почему мы разошлись.
Очень жаль, что я их не прочту, ибо я старее их летами.
Князя Трубецкого я тоже лично знал, но он был брат другого профессора князя Трубецкого, который Государю сказал прогремевшую речь и стал этим весьма популярен. Я говорю о речи, сказанной им, когда он с некоторыми общественными деятелями, в том числе Петрункевичем, был принят Государем уже во время диктаторства Трепова.
Трепов имел наивную мысль, что, если Государь примет им выбранных из числа бунтующих рабочих после гапоновской истории, a затем таких же бунтующих общественных деятелей и скажет им по шпаргалке речь более или менее такого содержания:
«Я знаю ваши нужды, мною будут приняты меры, будьте покойны, верьте мне, тогда все пойдет прекрасно», то бунтующие растают, публика прольет слезы и все пойдет по старому; что подобные слова могут заставить забыть всю ужасную войну и всю мальчишескую политику, к ней приведшую, политику исключительного Царского произвола: «Хочу, а потому так должно быть».
Этот лозунг проявлялся во всех действиях этого слабого Правителя, который только вследствие слабости делал все то, что характеризовало Его царствование, – сплошное проливание более или менее невинной крови и большею частью совсем бесцельно…
Независимо от престижа брата, князь Трубецкой и лично пользовался в университетской среде прекрасной репутацией. Когда я затем, перед совещанием с вышепоименованными общественными деятелями в первый раз увидел и познакомился с князем Трубецким, сделал ему предложение занять пост министра народного просвещения и начал с ним объясняться, то сразу раскусил эту натуру. Она так открыта, так наивна и вместе так кафедро-теоретична, что ее не трудно сразу распознать с головы до ног.
Это чистый человек, полный философских воззрений, с большими познаниями, как говорят, прекрасный профессор, настоящий русский человек, в неизгаженном (союз русского народа) смысле этого слова, но наивный администратор и политик. Совершенный Гамлет русской революции. Он мне, между прочим, сказал, что едва ли он, вообще, может быть министром и, в конце концов, и я не мог удержать восклицания – «кажется, вы правы».
О князе Трубецком я, конечно, ранее слышал, но о князе Урусове совсем не слыхал. Князь Н. Д. Оболенский, уже назначенный обер-прокурором святейшего синода, мне его усиленно рекомендовал в министры внутренних дел. Я расспрашивал о его карьере, она оказалась без каких бы то ни было изъянов, если не считать изъяном невозможность ужиться с бессовестно-полицейскими приемами Плеве, но у меня явилось сомнение в том, может ли он занять столь ответственный пост, как министра внутренних дел и полиции, в виду полной неопытности его в делах полиции, особливо русской полиции, особого рода после всех провокаторских приемов, насажденных Плеве и Треповым, которые теперь начали проявляться (шила в мешке не утаишь), т. е. выплыли наружу (Азеф, Гартинг), несмотря на все желание Столыпина эти скандальные истории затушить.
Я высказал мои сомнения кн. Оболенскому, прося его не говорить кн. Урусову, что ему я намерен предложить именно пост министра внутренних дел, хотя князь Оболенский старался парировать мои сомнения соображением, что кн. Урусов очень тонкий человек и сумеет овладеть деликатным полицейским делом в Империи, преимущественно полицейской, а при теперешнем конституционном режиме Столыпина – Империи архи-полицейской, ибо суд окончательно подчинился полиции.
Я решил всех вышеупомянутых деятелей вызвать сразу, дабы иметь общее собеседование, что и поручил сделать князю Оболенскому, но приезд их замедлился, так как некоторые отсутствовали из их постоянного местожительства, а затем забастовка железных дорог задержала (например, князя Урусова, который оказался в Ялте) съезд на несколько дней.
Когда князь Урусов приехал и я с ним познакомился, он на меня произвел прекрасное впечатление, но мое предположение о том, что он не может сразу занять в такое трудное время пост министра внутренних дел, подтвердилось из разговоров с ним. Было ясно, что он не будет иметь достаточный авторитет.
Я очень мало встречался с кн. Урусовым во время моего премьерства (он принял пост товарища министра внутренних дел), а после моего премьерства я его ни разу до сего времени не видал, но я не знаю ни одного до сего времени факта, который бы дурно рекомендовал его – князя Урусова. Я его считаю человеком порядочным, чистым, очень не глупым, но несколько увлекшимся. Но разве он один увлекся?..
По крайней мере он увлекся не эгоистично, а идейно и остался верным себе. А г. Гучков, ведь он исповедывал те же идеи, был обуян теми же страстями, как и кн. Урусов, и проявлял их более демонстративно, как до 17-го октября, так и после, а как только он увидал народного «зверя», как только почуял, что, мол, игру, затеянную в «свободы», народ поймет по своему, и именно прежде всего пожелает свободы – не умирать с голода, не быть битым плетьми и иметь равную для всех справедливость, то в нем – Гучкове, сейчас же заговорила «аршинная» душа и он сейчас же начал проповедывать: «Государя ограничить надо не для народа, а для нас, ничтожной кучки русских, дворян и буржуа-аршинников определенного колера».
Итак, я был лишен возможности составить новое министерство, сочувствующее 17-му октябрю или, по крайней мере, понимающее его неизбежность в течение ближайших недель, что, конечно, содействовало общей неопределенности, растерянности власти в ближайшие 10–12 дней после 17 октября. Я это предвидел, что ясно из изложения моего, как появилось 17-ое октября.
В сущности, я должен был в это время один управлять Россией – Россией поднявшеюся, революционировавшеюся, не имея в своих руках никаких орудий управления сложным механизмом Империи, составляющей чуть ли не ⅙ часть всей земной суши с 150 миллионным населением. Если к этому прибавить, что забастовка железных дорог, а потом почты и телеграфа мешали сообщениям, передаче распоряжений, что 17-ое октября для провинциальных властей упало, как гром на голову, что большинство провинциальных властей не понимало, что случилось, что многие не сочувствовали новому положению вещей (например, Одесский градоначальник Нейдгардт), что многие не знали, в какую им дудку играть, чтобы в конце концов не проиграть, что одновременно действовала провокация, преимущественно имевшая целью создавать еврейские погромы, провокация, созданная еще Плеве и затем, во время Трепова, более полно и, можно сказать, нахально организованная, то будет совершенно ясно, что в первые недели после 17-го октября проявилась полная дезорганизация власти, как говорится, «кто шел в лес, а кто по дрова», одним словом, можно сказать, действовала сломанная неорганизованная власть, которую потом окрестили растерянной властью.
Я, с своей стороны, знаю, что я был безвластный, а затем все время моего премьерства, с властью, оскопленною вечною хитростью, если не сказать, коварством Императора Николая II, но никогда, ни во время моего министерства (с 20-го октября 1905 г. по 20-ое апреля 1906 г.), ни после его, когда правые организации не без ведома Царского Села, если не Императора, организовали против меня охоту, как на дикого зверя, посредством адских машин, бомб и револьверов, ни в настоящее время я себя не чувствовал и не чувствую растерянным.
Я теперь себя чувствую серьезно нервно расшатанным – расшатанным вследствие разочарования во многих из тех знаменоносцев, которые ныне держат знамена, которым мои предки и я всю свою жизнь служили, и которым я не изменю до гроба, несмотря на все горькие и стыдные чувства, которые возбуждают во мне эти знаменоносцы и, главнейше, их Царственный Глава.
Еще до 17-го октября у меня был товарищ министра внутренних дел Дурново (Петр Николаевич), который мне высказывал, что, покуда будет у власти Трепов, будет произвол, покуда же будет произвол, будут все революционные выступы. То же он счел нужным высказать и немедленно после 17-го октября, когда, вследствие оставления поста Булыгиным, он начал самостоятельно заведовать теми частями министерства внутренних дел, которых не касался Трепов или, вернее говоря, которых он считал возможным не касаться. При этих свиданиях он мне намекал, что единственно, кто мог бы удовлетворить требованиям для поста министра внутренних дел, это он. Он действительно прошел службу, давшую ему обширный опыт. Будучи сперва морским офицером, при преобразовании судебных учреждений в России, он сделался судебным деятелем и дослужился до товарища прокурора судебной палаты в Киеве. Я сам несколько раз слышал от графа Палена, который был министром юстиции в самые лучшие времена новых судебных учреждений, в первое десятилетие после их постепенного введения, что он уже тогда, в семидесятых годах, хорошо знал судебного деятеля Дурново и ценил его способности и энергию.
В начале восьмидесятых годов он – Дурново – был назначен директором департамента полиции вместо Плеве, назначенного товарищем министра, того Плеве, который еще не износил свою либеральную шкуру, в которой он преклонялся перед графом Лорис-Меликовым, хотевшим положить начало народного представительства, и затем перед графом Игнатьевым, носившимся с идеею земского собора, что в наши времена (после преобразований, начиная с Петра Великого) означает заведомый или наивный самообман.
Я очень мало, даже почти совсем не знаю деятельности Дурново, как директора департамента полиции, я имел лишь несколько раз случай слышать от лиц, имевших несчастие поделом или невинно попасть под ферулу этого заведения, что Дурново был директором довольно гуманным, но знаю по слухам причину его ухода. Дурново имел и до сего времени сохраняет некоторую слабость к женскому полу, хотя в смысле довольно продолжительных привязанностей. Будучи директором департамента, он увлекся одной дамой довольно легкого поведения и затем употребил своих агентов, чтобы раскрыть измену этой дамы с испанским послом посредством вскрытия из ящика стола сего посла писем этой дамы к послу. Затем, конечно, он сделал сцену этой особе, находившейся у него на содержании. Все это осталось бы неизвестным, если бы в данном случае дело не касалось испанского посла, который возьми да и напиши об этом Императору Александру III, и если бы не царствовал такой Император, который имел отвращение ко всему нравственно нечистому. Император написал такую резолюцию, обозвавши виновного соответствующим данному случаю эпитетом, что тот должен был немедленно покинуть место директора департамента полиции, с каковым положением связана большая власть и значительные денежные средства в безотчетном распоряжении.
Министр внутренних дел Иван Николаевич Дурново (совсем не родственник Петру Николаевичу) еле-еле уговорил Государя не увольнять его совсем, а назначить в Сенат. Таким образом, он – П. Н. Дурново – был довольно долго в Сенате и все время отличался между сенаторами разумно-либеральными идеями; особливо, Дурново являлся всегда в Сенат защитником евреев, когда слушались дела, в которых администрация старалась софистическими толкованиями сузить и без того крайне узкие и несправедливые законы для еврейства.
Таким образом, П. Н. Дурново являлся в Сенате сенатором, на которого обращали внимание и с логикой которого считались. Я же его лично не знал впредь до следующего эпизода. Как то раз, уже тогда, когда министром внутренних дел был Сипягин, мне докладывают, что сенатор П. Н. Дурново просит меня его принять. Я его принял, и он сразу, в первый раз меня увидавши, отрекомендовавшись мне, просил меня выручить его из большой беды.
Он играл на бирже и проигрался: чтобы его выручить, ему нужно было безвозвратно шестьдесят тысяч рублей. Я ему ответил, что сделать это не могу и не имею никакого основания просить об этом Его Величество. Он меня на это спросил, как я поступлю, если ко мне обратится с подобною просьбою министр внутренних дел Сипягин. Я ему сказал, что, несмотря на наши добрые с ним – Сипягиным – отношения, я ему откажу и советую, если он – Сипягин – обратится к Его Величеству, тоже меня оставить в стороне, ибо я буду противиться и Государю.
На другой день я встретился с Сипягиным, и он меня спросил, как я отношусь к П. Н. Дурново; я ему ответил, что к деятельности его в Сенате я отношусь с уважением, как к деятельности толкового и умного человека, а так, вообще, я Дурново не знаю. Затем он меня спросил, что я думаю, если он пригласить Дурново в товарищи; я ему на это ответил, что Дурново должен отлично знать министерство, что ему – Сипягину – необходимо умного и деятельного, а также опытного товарища, но я ему не советовал бы поручать Дурново дела полиции и вообще такие дела, в которых есть вещи неконтролируемые, делаемые не на белом свете. На это мне Сипягин ответил: «Это я знаю».
Вскоре после сего разговора были назначены товарищами министра П. Н. Дурново и генерал-майор князь Святополк-Мирский, причем последний был командующий корпусом жандармов и в его ведении был департамент полиции, посколько сим департаментом не занимался сам министр Сипягин. Кроме того, остался товарищем министра князь Оболенский, бывший товарищем, и весьма влиятельным, при Горемыкине. Сипягин был на ты с кн. Оболенским и был с ним весьма дружен, но ему не доверяли он говорил, что Оболенский прекрасный честный человек, но очень уже любящей делать карьеру.
Что же касается Дурново, то Сипягин с ним советовался тогда, когда нуждался в том или другом совете, но специально поручил ему почты и телеграфы, и Дурново ведь хорошо Главное управление почт и телеграфов. Относительно выдачи какой бы то ни было суммы Дурново, Сипягин ко мне никогда не обращался и после мне сознался, что он выдал Дурново, чтобы покрыть его потерю на бирже, из сумм департамента полиции. Во время Сипягина Дурново вел себя совершенно корректно. Когда Сипягин заболел и начали против него интриговать, и князь Оболенский пожелал иметь личные доклады у Его Величества, вероятно, рассчитывая на характер Государя Императора, то Дурново отнесся к этим интригам, как весьма корректный человек.
Затем вступил министр Плеве; они друг друга, ненавидели; Дурново занимался только почтами и телеграфами и вел себя корректно. Когда же убили Плеве, министром стал кн. Мирский.
Дурново остался товарищем и при Мирском и держал себя совершенно корректно.
Наконец, когда ушел Мирский, назначили Булыгина – Трепова, Дурново держал себя совершенно корректно относительно первого и весьма критиковал Трепова.
При обсуждении мер, предуказанных указом 12 декабря, что было поручено комитету министров, а я тогда был председателем сего комитета, Дурново держал себя в высшей степени корректно, и когда замещал в комитете министра, высказывал мысли разумные и либеральные. Все изложенное послужит затем объяснением, почему я решился в конце концов взять в мое министерство министром внутренних дел Петра Николаевича Дурново, и это при тех обстоятельствах, при которых я очутился, было одною из существенных моих ошибок, которая значительно способствовала ухудшению и без того трудного моего положения, как председателя совета министров.*
Глава тридцать шестая
Трепов и великий князь Николай Николаевич
* Как только я стал председателем совета, в первые же дни генерал-губернатор, товарищ министра внутренних дел, а в сущности диктатор Трепов выразил мне желание оставить свой пост и удалиться (это было выражено по телефону, а потом подтверждено письмом). Я не давал решительного ответа по причинам вышеизложенным.
Дней через 10–14 после 17 октября он меня уже официально просил его освободить, я ему ответил по телефону, что его не удерживаю. На другой день утром я еду на пристань, чтобы сесть на казенный пароход и ехать к Государю с докладом, в котором между прочим хотел доложить и о просьбе Трепова. На пароходе застаю Трепова. Говорит, что едет в Петергоф. Я говорю: – «Вы вернетесь со мною?» Он мне отвечает: – «нет, я больше совсем не вернусь, я остаюсь в Петергофе, будучи назначен дворцовым комендантом». Меня это крайне удивило, во-первых, потому, что я об этом совсем и никем не был предупрежден, а во-вторых, что его выезд имел характер какого-то бегства из Петербурга. Действительно, он там и остался, туда были привезены его вещи и на другой день был опубликован Высочайший приказ о его назначении, для его ближайших подчиненных совершенно неожиданно.
При докладе Государю я между прочим сказал, что хотел доложить о прошении Трепова, но Трепова застал на пароходе, который сообщил мне, что он – Трепов – уже назначен дворцовым комендантом. Я прибавил, что с своей стороны очень рад этому назначению, так как единственная задача дворцового коменданта есть охрана жизни Его Величества, и что Трепов вероятно теперь приобрел такую полицейскую опытность, что успешно разделить этот труд и ответственность со мною и министерством. Государь на это ничего не ответил, замял этот разговор.
Во время царствования Императора Александра III-го, когда вещи называли своими настоящими именами, была должность начальника охраны Его Величества, которому подчинялись военные части, специально охраняющие Государя, и в руках которого находилась вся секретная полиция, непосредственно охраняющая Государя и Его Августейшую семью.
При Николае II-ом, сейчас же по Его вступлении на престол, было признано как бы неудобным иметь начальника охраны, кто на такого Императора, как Николай II-ой, может покуситься?.. Должность начальника охраны была упразднена, но одновременно создана новая должность дворцового коменданта, как бы только начальника внешнего порядка. В действительности же получилась только разница в том, что прежде должность начальника охраны занимали такие сравнительно крупные лица, как граф Воронцов-Дашков, генерал-адъютант Черевин, а при Николае II такие сравнительно ничтожные люди, как Гессе, князь Енгалычев, наконец, и роковой Трепов, а теперь той же категории комендант Дедюлин; прежде военная охрана была гораздо малочисленнее, а теперь значительно возросла; прежде и полицейский штат был несравненно меньший и, наконец, при Александре III-ем охрана Его Величества занималась только охраной Его Величества, а при Николае II-ом обратилась кроме того в «черный кабинет» и «гвардию» секретной полиции.
Вслед за Треповым ушел директор департамента полиции министерства внутренних дел Гарин и был, несмотря на молодость и малую службу, прямо назначен сенатором, вопреки заключении министра юстиции, почтеннейшего Манухина.
Это тот Гарин, который теперь стреляет дробью мелкую интендантскую сошку, это обыкновенный прием столыпинского министерства, чтобы наивным показать – вот мы какие, но конечно, эта охота на интендантскую сошку тем и кончится и не коснется никого не только из высокопоставленных, но хотя бы из среднепоставленных лиц для того, чтобы не делать недоброжелателей. Затем сенатор Гарин начал жить в резиденциях Государя, там где дворцовый комендант Трепов, и в самом непродолжительном времени сделался неофициальным статс-секретарем генерала Трепова в новой его роли постоянного охранителя, советника и помощника Государя Императора в текущих делах.
Уже через несколько недель после 17 октября я почувствовал совсем другой тон многих Высочайших резолюций, тон канцелярский с длинными мотивами и канцелярско-хитрыми заключениями. Помню, например, подобные резолюции, конечно, всегда написанные собственноручно на журналах и мемориях совета: – «это мнение не согласно с кассационным решением сената от такого-то числа, такого-то года, по делу такому-то, разъясняющим истинный смысл такой-то статьи, такого-то тома, такой-то часта закона». Я недоумевал, в чем тут дело? Но скоро я узнал, что почти все доклады, кроме прямо касающихся дипломатии и обороны государства, передаются генералу Трепову; генерал Трепов при помощи находящегося у него в качестве делопроизводителя сенатора Гарина пишет проекты резолюций, которые затем представляются Государю и Государь ими пользуется. Тогда мне стало ясно, в чем дело, ибо Государь всю свою жизнь и по сие время никогда не открыл ни одной страницы русских законов и их кассационных толкований, да наверное и до сего времени не разъяснит, какая разница между кассационным департаментом сената и другими его департаментами.
По психологии Государя сенат это коллегия высоких чиновных лиц, Им назначаемых по заслугам, симпатии и протекции, и которые, как более опытные люди, решают по справедливости и к благу государства, а следовательно прежде всего Его и Царской семьи, наиболее важные дела.
Министр же юстиции это своего рода инспектор, докладывающий Ему по всем делам, касающимся правосудия, когда же нужно творить уже совершенно явное неправосудие, то тогда нужно обращаться к другому Его докладчику, главноуправляющему комиссией прошений или попросту сказать главному делопроизводителю одного из отделений Его канцелярии.
Когда я оставил пост председателя совета и образовалось министерство Горемыкина, то один из моих приятелей, очень преданный и любящий Государя, спросил министра двора прекраснейшего барона Фредерикса: «Ну, какое же на Вас производит впечатление совет при новом министерстве?» – На это он получил ответ: «Вы знаете, я графа Витте весьма уважаю и ценю, но министерство Горемыкина как-то спокойнее заседает и относится как-то более сердечно и почтительно к резолюциям Его Величества. Вот вчера в совете читались резолюции Государя с целым рядом указаний на различные статьи закона и после заседания Горемыкин мне со слезами сказал, что он поражен памятью и знанием Его Величества законов». Я сказал моему приятелю: «а вы спросили барона, что, чиновник-сенатор Гарин делопроизводительствует ли до сих пор при вице-Императоре Трепове или нет?»
Понятно, что Трепов, товарищ министра внутренних дел, петербургский генерал-губернатор, начальник петербургского гарнизона, более или менее официальный диктатор, значительно способствовавший к приведению внутреннего состояния России в то положение, в котором она очутилась к концу 1905-го года, оставив все эти официальные посты и в один прекрасный день переехавший в аппартаменты, находящееся около покоев Его Величества, заняв по-видимому скромное, не политическое положение дворцового коменданта, а в сущности положение совершенно безответственного диктатора, род азиатского евнуха европейского правителя, неотлучно находящегося при Его Величестве, еще больше приобрел влияние нежели то, которым он пользовался до 17-го октября.
Вообще на всякого человека естественно может оказывать наибольшее влияние тот, кто его чаще видит, кто при нем постоянно находится, в особенности человек с столь наружными решительными аллюрами, которыми отличался Трепов, но на людей слабовольных, у коих характер заменяется упрямством, конечно, это влияние было подавляющее. К тому же вся охрана Государя была в его распоряжении, необходимые суммы тоже в его бесконтрольном распоряжении, все советы, прошенные и не прошенные, могли исходить от него, он был посредником между всякими конфиденциальными записками, подаваемыми на имя Его Величества, а Император Николай с самого начала своего царствования оказался большим охотником до всяких конфиденциальных и секретных записочек, а иногда и приемов.
Это у него своего рода страсть, явившаяся может быть из чувства забавы. А тут еще в такое бурное время да при таком политическом столпе, как Трепов, полицейском генерале свиты Его Величества, родившемся так сказать от полиции и в полиции воспитавшемся. Понятно, что всякие проекты, критики, предположения начали сыпаться в новую главную полицейскую квартиру Его Величества, а от Трепова зависло, что хотел – подать Государю, особенно рекомендовать Царскому вниманию, а что хотел – смазать, как недостойное Государева внимания. (Государю ведь действительно и без того столько приходится читать.) А если записок и проектов на желательную тему, например, такого содержания – как хорошо было бы такого то министра прогнать – нет, то ведь всегда такую записку можно заказать и она будет прекрасно написана, литературно и до слез патриотично.
Само собою разумеется, что при таком положении вещей, как только стало ясным, что благодаря 17-му октября потрясенный трон укрепляется, что о возможности Царской семье покинуть Россию не может быть речи, что интеллигентная часть общества впала в своего рода революционное опьянение не от голода, холода, нищеты и всего того, что сопровождает жизнь 100-миллионного не привилегированного русского народа или, точнее говоря, голодных подданных русского Царя и русской Державы, а в значительной степени от умственной чесотки и либерального ожирения (Морозов, Набоков, князья Долгоруковы, Пергамент и пр., и пр.), в то опьянение, которое страшно испугало имущих и по непреложному закону вызвало страшную реакцию, когда явились всё эти обстоятельства, которые вызвали в глубине души сожаление, для чего я подписал 17-ое октября, то естественно явилась попытка если не аннулировать напрямик, то по крайней мере косвенными путями (не мытьем, так катаньем) стереть или протереть 17-ое октября.
Для такого дела генерал Трепов преподходящий деятель, ибо он вмещал в себе сосуд всяких государственных противоположнейших возможностей и ультралиберальнейших и ультраконсервативнейших. Вся стая тех людей, которые делают себе карьеру через великосветские будуары, через приемные высокопоставленных лиц, которые вообще ищут взобраться на лестницу мимолетной известности более житейскими приемами, нежели внутри их содержащимися достоинствами, конечно, всячески искали возможности попасть в приемные Трепова в дворцовых домах Царского Села и Петергофа; некоторые делали это из политических целей, видя в этом возможность повлиять на Государя в смысл своих идей; наконец, вся клика иностранных корреспондентов добивалась этого прямо по долгу своей службы – это их обязанность.
Трепов не порвал своих связей и с департаментом полиции, так как душа этого департамента Рачковский, ведший при Трепове всю секретную часть департамента полиции, хотя и был удален новым министром внутренних дел Дурново из высокого положения, которое Рачковский занимал в департаменте полиции, но остался по особым поручениям при новом министре и, следовательно, он мог пользоваться всеми своими связями, созданными как при начальствовании в департаменте полиции при Трепове, так в особенности при более чем пятнадцатилетнем заведовании всей секретной русской полицией заграницею, когда он имел главную квартиру при нашем посольстве в Париж.
Новый министр внутренних дел старался давать Рачковскому поручения вне Петербурга и как то сетовал мне на то, что Рачковский неохотно берет эти поручения. Рачковский же будучи в Петербурге без текущих дел дневал и ночевал у нового дворцового коменданта Трепова. Поэтому были возможны, например, такие случаи. Уже в январе или феврале 1906 года, т. е. месяца через 2–2½ после 17-го октября Лопухин, бывший при Плеве директором департамента полиции и в некоторой степени начальство бывшего московского обер-полицеймейстера Трепова, а потом Ревельским губернатором и уже при моем министерстве, по настоянию Вел. Кн. Николая Николаевича и при сочувствии дворцового коменданта, но помимо меня уволенный от этой должности и назначенный состоять при министре внутренних дел, просил меня его принять.
Я не уважал Лопухина, потому что он был директором департамента полиции в самое политически бессовестное плевенское время. Будучи тогда министром финансов, затем председателем комитета министров, я видел, что Лопухин человек политически недобросовестный, и имел основание даже с личной точки зрения относиться к нему неприязненно, но что касается увольнения его с поста Ревельского губернатора, то находил, что к этому не было достаточных оснований, но, конечно, нисколько не дорожил таким губернатором. Увольнение его произошло приблизительно по следующим обстоятельствам.
В Ревеле кроме губернатора живет другое важное лицо – начальник дивизии. После 17 октября в прибалтийских губерниях и в том числе в Ревеле было очень неспокойно. Мне не было известно ничего, что показывало бы, что губернатор Лопухин как бы сдал власть – испугался, но губернаторы часто находятся в натянутых отношениях с начальниками войск, один гражданский начальник, другой военный и оба независимые. Понятно, что после 17-го октября явился жгучий материал для недоразумений между двумя начальствующими петухами. Начальник дивизии донес главнокомандующему войсками петербургского военного округа Вел. Кн. Николаю Николаевичу, что губернатор из трусости крайне либеральничает и сдал власть революционерам. Великий Князь сейчас же донес Государю, а Государь потребовал от Дурново увольнения Лопухина. Другой министр может быть отстоял бы своего подчиненного, но Дурново оказался не из таких, хотя он сам мне после говорил, что поторопились увольнением Лопухина и что он докладывал Государю, что нужно ранее разобрать дело на месте, но что Его Величество не захотел.
После увольнения Лопухина до меня из военных сфер дошли сведения, что ревельский начальник дивизии после 17-го октября сидит запершись у себя на квартире и охраняется часовыми. Я как то сказал об этом Великому Князю. Великий Князь ответил, что это не может быть, что он хорошо знает этого начальника дивизии. Но почему то в скором времени он послал одного генерала (кажется Безобразова, бывшего командира Кавалергардского полка) произвести ревизию в Ревеле и оказалось, что то, что я слыхал о сказанном начальнике дивизии, в известной мере было правильно. Он тем же Великим Князем был устранен от ревельского поста.







