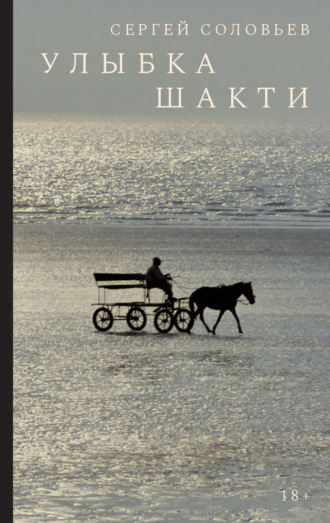
Сергей Соловьёв
Улыбка Шакти
Индия – королевская кобра, та, что вьет гнездо для родов, как птица. Та, что ест соплеменниц. Та, в которой пять метров яда, но сделает все, чтоб уйти от конфликта с чужеродным. Та, что, взметнувшись к лицу человека, будет стоять, глядя в глаза и по губам читая все, кем ты был и уже не будешь. Это Наг.
Индия – это умбристый олень самбар, у которого на груди проступает пятно – мокрое, неизъяснимое, словно кровоточащее, как стигмат. И особенно у взрослеющих женщин. Это Лакшми.
Индия – это тигр, царь. Тот, кто живет один. Тающий как закат, последний. И тот, кто стоит в ступоре, глядя поверх растерзанного человека, не понимая, как это случилось, но чувствуя, что уже никогда не вернуться в свои очертанья.
Индия – это нильгау, голубой призрак, в профиль похожий на единорога. В брачных турнирах самцы опускаются на колени и чокаются лбами. Это Нанди.
Индия – черная пантера, неприручаемая. Холодная ярость и «презрение к огнестрельному оружию», как на знамени Лермонтова. Это Кали.
Индия – это лангур с лицом из сгоревшей бумаги и лампадками глаз, сидящий недвижно на ветке, медитируя на заходящее солнце. Хануман.
Индия – это птица-носорог, та, что летит долгими взмахами, скрипя уключинами, или как сказочный раскладной диван. И держит инопланетную ягодку в желтом полумесяце клюва. А потом замуровывает свою суженую в дупле дерева, оставляя крохотное окошко для свиданий и передач. И если что случается с ним – ни ей, ни детям его уже не выбраться. Гаруда.
Индия – это баньян, где ветви уходят и в небо, и в землю, и в стороны света и тьмы, переплетаясь и образуя рощу как мир без центра и края, как круговую поруку родства: тат твам аси, саб куч милега – ты есть то, и все возможно. Тримурти.
Индия – это Маугли, в начале времен увидевший у ручья – ее, наполнявшую кувшин, ту, у которой имен было больше, чем капель в ручье: Шакти, Дурга, Сарасвати, Сати… и ушедший за ней, покинув лес и создав то, что мы назовем индуизмом.
#10. Почта
– Ты, по сути, ушел в монастырь – лучший из возможных, и благодать с тобой. А противоречие в том, что из монастыря не приходят в мир, не пытаются разделить свой метафизический опыт с «до востребования», и не может здесь быть соучастников, да и зрителей много быть не может. Это одиночный путь, его даже вдвоем невозможно проделать, потому что да, он требует отказа от мира, аскезы, а наградой – свобода и счастье. Этот разговор многое делает понятным – главным образом, в отношении твоего возможного будущего. Непонятно одно: о каких же ты собеседниках сетуешь, если, по сути, они давно тебе не нужны. Все твое там: и дом, и родина, и семья. Осталось сделать последний шаг – завершить все мирские дела здесь. Но думаю, что пытаться как-то сблизить и свести эти два мира – ошибка.
– Как удивительно и уже давно не: в ту самую секунду, как звякнуло твое письмо, я отправил в фб вот это: «Об этом нельзя говорить. И здесь, и вообще. Сказал бы мне кто-нибудь лет пятнадцать назад, куда меня занесет, я б не поверил. Не с кем говорить о по-настоящему важном, ближайшем. В своей культуре, на родном языке не с кем. Так меня исподволь отнесло от этих берегов и несет все дальше. Чтоб находить мнимый приют этим чувствам и речи где-то на краю света, в безмолвии, с чужими людьми, которые ближе сердца. И в этом все твое счастье с прикрытыми глазами, зная, что открой их – и все далеко не так. Но и не вернуться уже к тем берегам, где ты жил литературой и был среди подобных себе таким – как это будет по-русски? – коммуникабельным. Что же ты говоришь, уже не с собой даже (а с кем?), когда давно уже смысл покинул тебя вместе с вопросом «кто ты?». Детский парадокс в том, что чем больше ты с миром, тем меньше с людьми. И ведь все это будет еще расти и расти». Все так, люба, как ты говоришь, и было бы совсем так, если бы за всем этим «счастьем» не стояла едва прикрытая им отчаянная горечь и почти безысходность в этом движении спиной вперед…
#11. Перешептывающиеся окна
Годом раньше, перемещаясь из Харнай на юг, добрались до Тамилнада. Казалось, впереди необъятная жизнь, вот и имя ее – Масинагуди, деревушка в тигрином заповеднике Мудумалаи, земля дравидов, голубые горы Нилгири.
Сняли жилье у самой кромки джунглей и озера, к которому выходили слоны, медведи и другие обитатели леса, а само озеро было облюбовано колонией аистов-епископов, сидевших на высоких, с четырехэтажный дом, кустах бамбука, которые вихрасто расходились перевернутым конусом к небу, но чаще наоборот, образуя интровертные пирамиды, а то и объединяя обе фигуры в виде песочных часов. Этой бамбуковой симфонией было оторочено все озеро с тенистыми прогалами, где звери выходили к воде.
Змей, несмотря на воду и заболоченность, благодаря аистам там не было. Ну почти. Однажды в шаге от меня вскинулась кобра, но тут же скользнула под куст. Еще разок нам с Таей переползла дорогу крысиная змея, метра два с половиной, а может, это была и кобра, хотя великовата для нее, быстро скрылась, не успели определить. Я потом полез в кусты, пытаясь ее обнаружить, Тая ненастойчиво удерживала, зная, что бесполезно – не в первый раз.
Там, за нашей спиной, стоит ближний к озеру, но все же поодаль от него, курортный комплекс, всегда пустынный, называется «Перешептывающиеся окна». Пальмы, сказочный сад, роскошные номера, фигуры будд и индуистских богов под деревьями. Прихрамывающий сторож и семенящий за ним карликовый бульдог по кличке Зеро. Сторожа, оказалось, недавно цапнула гадюка Рассела, одна из самых ядовитых змей. Их немало тут. Третья, по числу смертей, после кобры и крайта. Но в отличие от них агрессивна – не уползает, заслышав приближение, а затаивается и бросается без предупреждения. Такую полутораметровую гадюку вытащил из-под крыльца Праба – тот, к которому мы переселились, на его крыльце мы любили сиживать, завтракая или просто созерцая дали. Выволок и убил. Потому как трое детей у него, и все босиком бегают, да и Праба с женой своей, красавицей Ладой, учительницей английского, тоже не в ботинках. Как и мы с Таей. Конечно, так нельзя. В каждой деревне есть змеелов или сообщество добровольцев. Обнаружив змею у себя в доме, люди знают, кому позвонить, чтобы поймали и выпустили в лес. Обычно змееловы совмещают это с основной работой. В Харнай это портной на рыночной улочке, чья лавка сразу за закусочной нашего друга Баблу. В Боре, на хуторе – школьный учитель.
Здесь, в Масинагуди, змеелова зовут Мурли, напористо-жизнерадостный парень, которого змеи непрерывно кусают, его увозят в больничку, а через несколько дней он возвращается и, поймав очередную, демонстративно разгуливает с ней и с песнями по деревне, изображая натруженного подвигами героя. И несет ее выпустить в лес, и снова его увозят в больничку. К нам с Таей, когда мы жили у Рахуля, он пришел с коброй и вытряхнул ее из мешка к нашим ногам, мы как раз завтракали на веранде. За ним во двор потянулась ватага детей. Он напоказ устраивал танцы с ней, но она с неприятием уклонялась. Кстати, и эта его цапнула, когда выпускал в лесу, видимо, напоследок решив ответить ему белым танцем. Мурли на хинди – флейта.
Того сторожа из «Перешептывающихся окон» укусила за мизинец ноги гадюка Рассела, когда он ночью обходил территорию. После ее укуса у человека есть минут сорок или немногим больше. Ночь, безлюдная окраина деревни, он один, не считая Зеро. В самой деревне только медпункт для бедных, там сыворотки нет, надо везти в Гудулур, это часа полтора-два, или в Гундальпет, который в соседнем штате. Месяц спустя сторож вернулся, прихрамывает, размотал бинт, показывает мне черный древесный палец. Ничего, говорит, пройдет. То есть по-английски он ни слова, все жестами. А что за змея, спрашиваю. Он рисует палочкой на земле, Зеро обнюхивает. Он отгоняет его и дорисовывает овальные пятна на коже. А, говорю, понятно.
Однажды в этих безлюдных «Перешептывающихся окнах» мы с Таей, когда к Прабе гости приехали и нам нужно было ночь где-то перекантоваться, сняли номер. А перед тем я звоню хозяину, некоему махарадже, живущему в Ути в своем дворце, договариваюсь о цене, пытаюсь снизить, но он велеречиво так уводит разговор – туда, сюда, о жизни, о рисе, о женщинах, о доблестях, и опять о цене, и все никак. Сидит там во дворце, помахивая опахалом, танцовщицы девадаси перед ним струятся, ситар звучит, павлины разгуливают. Вы же поэт, говорит, то есть кавита, любимец богов, Хаям, Калидаса, почти Вальмики, что вам стоит набросить эти несчастные пару тысяч рупий для ничтожного шудры, даром что махараджа. И слышу – всхлипывает, войдя в роль. Потом высморкался и, погрубевшим голосом: ладно, недобрый человек, набрось хоть полторы, разделим страданье.
В том номере, наверно, годы никто не жил. Пятиметровая высота – нет, не потолка, а матового купола. Внизу в полутьме высилась царственная кровать с мерцающими огнями по периметру. Огромная ванная комната с – невероятно для Индии – чугунной ванной на звериных лапах. Всюду лежала вековая пыль. Внесли вещи, прикрыли дверь, я посмотрел на Таю, и мне вдруг так нестерпимо захотелось ее обнять, и не только, не только. Да, конечно, это уже бывало тысячу раз, но в этот происходило что-то необычайное. И ни номер здесь ни при чем, ни окна эти перешептывающиеся. Так нестерпимо, так гибельно, так до ослепления нежно. Не похоть, не страсть, не любовь даже. Нет, не исчезнуть в ней, не родиться… Стоит спиной ко мне, вещички раскладывает, обернулась: что-то не так? И такое лицо родное, невозможное, и такое красивое – как нельзя людям. И сквозящий холодок, тянущийся по ногам. А мы куда-то торопились тогда, считанные минуты были, но куда? Не помню, да и куда можно было там торопиться? Вот эти считанные и стали теми, от которых стареют, сгорают – может, так и случилось, но от тела ее еще исходило свеченье, и она, приходя в себя, растерянно озиралась, собирая одежду, разбросанную на полу, и тихонечко приговаривая: как странно, каждый раз у нас будто в первый… и в последний. Все эти годы. Дверь закрыли и, чуть растерянные, вышли в другую жизнь. Через перешептывающиеся окна.
#12. Амман
Сидел в саду, приводил ногти в порядок, что-то я запустил себя с этими ежедневными джунглями, Тая еще спала, низко кружил черный коршун, над ним тянулась к озерцу вереница аистов-епископов. Лесная белка замерла у ног, заинтересовавшись поблескиванием ножниц. Из деревни доносился отдаленный бой барабанов. Стриг ногти и вспоминал, как в юности кочевал с цыганами. Стояли лагерем у безлюдного полустанка в Туркмении, ждали куцый трехвагонный поезд, пересекавший пустыню раз в неделю. Ей было пятнадцать, кажется. Ни слов, ни прикосновений, только краткие взгляды, в которых и жили, на большее не хватало сил, и тихо сходили с ума, даже во тьме видя друг друга, как днем. А потом мы сидели с бароном в дальнем конце вагона, где расположился их маленький табор, разговаривали. Я просил ее руки. Его условием было, чтобы я остался в таборе навсегда. Не уверен, что он говорил всерьез, но тогда, в течение этих нескольких дней, пока шел поезд, я мучительно жил этим – то решаясь, то отступая. И сейчас, вдруг вспомнив об этом, подумал: что-то в ней было от Таи, ранней, призрачной, почти невидимой в той цыганке, чье лицо теперь уже и не вспомнить, только чувство.
Бой барабанов доносился все ближе. Пришел Праба, спросил его, что там происходит. Амман, говорит, начался, разве не знаешь? Знаю, но ведь рано еще, вроде бы через две недели. Нет, говорит, это в прошлом году так, а в этом по лунному календарю – сегодня.
Годом раньше я уже был на мистерии Амман в Бокапураме. Но тогда пропустил начало и финал. Взял камеру, поспешил в деревню. Там всего одна улочка, спускающаяся к речке, за которой джунгли, заповедник. Они шли сверху, группами по двадцать-тридцать человек, с расстоянием в сотню шагов. Мужчины, женщины, дети, пританцовывая, неся на головах тяжелые цветочные пирамиды в металлических горшках, мурти богини Амман. У многих щеки проткнуты спицей или тришулой – трезубцем Шивы. У других – приоткрытый рот заткнут лаймом, одним из символов богини. Или просто пучок листьев бетеля, торчащий изо рта. Шли уже не первый день и ночь. С музыкантами и барабанщиками, которые колошматили так, что не было видно рук, и, замедляясь, отращивали их.
Вернулся к Тае, подзарядили батареи в камерах, взяли запасные, едем в Бокапурам, может, говорю, останемся на ночь. Автобусы переполнены, дорога лесная, однополосная, пробка, вышли на полпути, идем с паломниками по заповеднику, полиция держит периметр – видимо, от слонов и других животных, на случай.
Культ Амман, или, как ее еще называют, Мариамман, не так на виду, как культ Шивы, Вишну, Ханумана, Ганеши и многих других. Возможно, еще и потому, что культ это низовой, народный, и не очень поддерживался браминской традицией. Соответственно, не попадал в активное поле внимания за пределами Индии. Амма – мать, мари – дождь, а при другом ударении – смерть. На заре индуизма этот культ, вероятно, как-то переплетался с ним, отсюда взаимовлияние Амман и Дурги, сидящей на тигрице, и, конечно, Амман и Шакти. В Тамилнаде тысячи храмов Амман и миллионы ее последователей. Еще недавно этот обрядовый праздник проходил более аутентично, сейчас к нему присосежена бурная ярмарка – колесо обозрения, передвижной цирк, аттракционы, полевые кухни, еда, сласти, ремесленники с товаром, шарлатаны с попугаями и прочее. Казалось бы, в таком профанном пространстве этот сложный, требующий огромных физических и душевных сил ритуал должен неминуемо утрачивать свою глубину, но нет – прямо посреди ярмарки, в ее гомоне, беспрерывно идет сосредоточенная духовная работа, включая радикальные практики на пределе сил.
Шли с Таей в толпе паломников, я рассказывал ей то немногое, что знал. Вернее, что помнил из разрозненного. Когда-то, говорят, не возводилось храмов этой богине, просто посреди деревни насыпали небольшой холм в виде ее головы, украшали желтыми бархатцами, и телом Амман становилась вся деревня с ее жителями. Вот такой живой храм, где каждый человек, куст, дом – часть Амман, так оно во многом и осталось до наших дней, такие храмы наряду с каменными еще можно видеть повсюду.
Цветочные пирамиды на головах – своего рода ноша, называется кавади, а ритуал инициации – карага. Щеки вместе с языком проткнуты трезубцем Шивы, и лайм во рту – знак безмолвного повиновения богине. Некоторые обуты в деревянные колодки с гвоздями острием вверх.
Деревенские общины будут в течение трех дней и ночей ходить вокруг храма под бой барабанов в трансовом танце, прерываясь для истязаний кнутом. Для этого в каждой общине есть человек для этой роли. Становятся в круг и под особый бой барабанов по одному выходят в центр, где получают удары развихриваемым в руке медиума кнутом. И мужчины, и женщины, и даже дети. Количество и сила ударов зависят от наносящего их. При этом руки у подверженных испытанию подняты, жестом ладоней они дают понять: бей еще, я держу контроль, я держусь! Удары наносятся по ногам и пояснице. Сильные, в некоторых случаях до крови. И это повторяется примерно через каждый час в течение трех суток. Никаких наркотических снадобий во время ритуала никто из них не принимает.
Начинается праздник с коллективной пуджи. Потом денный и нощный трансовый танец с истязаньем кнутом. На третий день мурти богини выносят в паланкине из храма и осыпают шквалом рисовой сечки. А в ночь зажигают огни в горшочках и несут их на головах под бой барабанов. Утром четвертого дня процессия движется в джунгли к священному месту, перед ними на землю ложатся ничком те, кто нуждается в исцеляющем благословении Амман. Идущие касаются голой ступней их спин. Это то, что я не видел в прошлом году. У священного дерева, на веками намоленной поляне совершается выход из транса, из одной реальности в эту, здешнюю. В стороне забивают и разделывают жертвенных козлов. Ставят на костры огромные чаны. Завершается все у лесного храмового шалаша с музыкой и общей трапезой на полтысячи человек.
Понятно, что это не отсвет каких-то изначальных верований, не пережиток, ставший неким театрализованным календарным событием, вроде нашей Масленицы или дня Купалы. Похоже, это происходит ровно так, как и тысячи лет назад. Для них это не ритуал в нашем понимании, а самая что ни на есть реальность – такая же очевидная, как собственная кожа. И Амман – не где-то в трансцендентном, а здесь, в этой боли от ударов кнута, которым испытывает их Шива и черная Кали, одна из ипостасей Амман, испытывает через медиума, проводящего через себя ее энергию. Она, Амман, в пятках и пальцах ног, которыми касаются распростертых на земле взрослых и детей ставшие проводниками ее энергии мужчины и женщины, прошедшие этот изнурительный и очищающий ритуал, кто выстоял в этой магической инициации, кто стал с ней единым.
Конечно, не все и не этими словами я ей говорил, идя в бурной толпе паломников в уже спустившихся сумерках, оступаясь от слепящих встречных фар и гудящих автобусов, кренящихся в рытвинах обочин. Да и ожидая в ответ на мои слова ее обычное: я знаю. Ну кое-что она и знала, так что особо тут стараться было не нужно. И главное – уже через полчаса она все это увидит сама. Да и я, и все оно будет, конечно, другим.
Легко говорить. На любую тему. Увлеченно и даже порой с ощущением подлинной глубины. Говорить. И может возникнуть иллюзия, что я тут что-то понимаю. Нет, и не обольщаюсь. Наверное, и эти крестьяне не в таких уж тонкостях знают происходящее, но они дома, и дом этот не только снаружи, но и внутри. Можно и помолчать.
Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу. Что ж тут скажешь? Что понимание вторично? Что знание, по Платону, – припоминание? Что жизнь не интеллигибельна, с ироничным сквознячком гибели в этом слове, а, скорее, коан? Но насколько мы готовы к этому? В любви, в творчестве, в разговорах о трансгрессии…
Как же они называются, эти одержимые женщины, пожизненные девственницы из низшей касты, благословляющие руганью и плевками? Наверно, мы увидим их и здесь – со вселившейся в них Амман.
Ярмарка в разгаре. Толпы, толкотня, не протиснуться. Крутится колесо в огнях, из репродукторов гремит музыка, смешиваясь с боем барабанов. По земляной арене цирка бегут верблюды и пони, над ними девочка взбирается по канату, в торговых рядах сверкает посуда, ножи, секиры, бижутерия, подсвеченные иллюминацией от тарахтящих генераторов, повсюду жарится, парится и варится на плитах и кострах, многие ходят с красными арбузными ломтями у рта, присоленными по-индийски. Вспомнил: матанги их называют, тех одержимых женщин.
Храм переполнен, на подворье под огромным навесом сидят паломники, поют, прихлопывая в ладоши, за ними – спящие под одеялами. Дальше – шатры, шатры, образующие лабиринт с переулками. Вокруг храма идут с барабанами те же, кого видел в деревне, и другие. Становятся в круг, свист кнута. Молодая, высокая девушка выкручивает себя из земли к небу, кнут ополовинивает ее, она выпрямляется, подает знак: еще, еще! Этот кнутовод, похожий на кузнеца-цыгана с длинными опущенными усами, пышными бакенбардами и залысиной, пригнулся и проворачивается вокруг себя, как воркующий голубь, и, распрямляясь, раскручивает кнут, толпа отступает, освобождая ему пространство. Барабанщики заходятся в дроби. После серии ударов он подходит к девушке, касается ладонями ее ступней, за ним несколько человек из зрителей подбегают к ней и успевают проделать то же. Раскручивает кнут, перед ним уже следующая.
Из-за угла храма появляется другая община, впереди идет рослый худой, с высоко поднятой головой и взглядом, кажущимся стеклянным. Щеки проткнуты длинным – метров пять – трезубцем. Перед ним – смотрящий, он раздвигает толпу, чтобы края трезубца никого не задели. Образуют круг. В круге – он и второй, ему до груди, и трезубец поменьше. Начинают танец: первый, пригнувшись и поддерживая раскинутыми руками трезубец, меряет аршинными шагами пространство вокруг второго, подергивающегося в центре, ниспадающего на колени, тело заваливается назад, затылок касается земли.
В этой же группе – две молодые женщины, они идут в паре. Одна – в сером дыме волос, другая – в смоляных крыльях до плеч, одно из них перекрывает пол-лица. Выгнутый рот и глаз, который, похоже, останется навсегда в моей памяти. Глаз, глядящий в себя. У первой полные губы, между которыми зажат трезубец, и пятна красной краски на щеках и лбу. Вторая – с тонкими чертами лица, желто-белые пятна, куркума и мел. И смоль волос. Первая – взвинченно приходит в движение, мотая головой, отталкивая от себя руками воздух, и замедляясь, когда энергия кончается. Другая – идет с тихой гипнотичной внутренней сосредоточенностью, но какой-то обреченной. Нет, тебя обрекающей на неотрывный взгляд на нее. Ток от нее исходит. Слабый, еле ощутимый, но кажется, что он куда сильней того, что убивает. И она это знает и с этим живет. Она, подумал, – смерть и есть, а первая – любовь.
Чуть в стороне, у доморощенного алтарика, встав на колени, распласталась на земле призрачная старуха с седыми ветхими волосами. Руки держит подвернутыми назад и что-то ртом выуживает из земли, приникая то одной щекой к ней, то другой. Несколько женщин суетятся вокруг, помогая ей. Обносят ее блюдцем с огнем. Наконец она оборачивается, вывернув голову: изо рта торчит маленький банан, опоясанный беззубым ртом.
Тая фотографирует девочку, блаженненькую, одиноко сидящую поодаль с бритой наголо и окрашенной куркумой головой, она играет на сопелке, верней, извлекает один и тот же жалобный звук. Рядом, но спиной к ней, стоит грузный человек с посохом и пучком травы во рту. На ногах у него деревянные колодки с гвоздями острием вверх. Идет, не сходя с места, перебирая ногами под ритм барабанов.
В центре – мистерия, а по краям внахлест – луна-парк, бурлящий рынок, цирк и бог знает что – одновременно. И за всем этим – десятки шатров, они же маленькие храмы, они же ночлежки, они же… Бой барабанов, свист хлыста. И горбун со светящимся домиком на спине, идущий сквозь расступающуюся толпу.
Тая присела к бородатому факиру в красной рубахе: попугай вразвалку прохаживается перед разложенными перед ним картами судьбы и выбирает твою.
У края ярмарки, за которой начинаются джунгли, развернута полевая кухня с жаровней и котлами, где беспрерывно готовится бесплатная еда для тысяч паломников. Небольшая очередь, быстро обслуживаемая, каждый отходит со своей листвяной тарелкой тали. На поляне, освещенной прожектором, в этот час сидело немного – человек триста, в основном семьями. Мы тоже взяли еду, сели на землю, только начали есть, и вдруг – крики, паника, все бегут с поляны. Слон, одинокий самец с большими гнутыми бивнями, стоит у края леса – в том месте, куда бросали мусор и объедки, перебирает хоботом гору листвяных тарелок. Набежали полицейские, издали светят на него фонарями, кричат, кидают камни. Он не обращает внимания, отправляет тарелки в рот, но не подряд, выбирает. Таю теснят вместе с последними смельчаками, я увернулся и спрятался в темноте за деревом, снимаю вблизи на камеру. Повар хватает из костра полено и, подбежав к слону, швыряет в его сторону. Тот неторопливо берет последнюю тарелку и уходит.
Нашел Таю, углубились в переулки шатров, там своя жизнь, нас зазывают к себе за пологи. В одном из шатров как раз ужинают, усадили и нас у костра. Две девушки и парень танцуют в дальнем углу под музыку, доносящуюся снаружи. Тая присоединилась к ним, ритм барабанов ускорился, они закружились с пением и вскриками. Если чуть расфокусировать взгляд, уже и не найти среди них Таю – три девушки из племени ирула.
Вернулись к храму. Было уже за полночь, людей становилось все больше. Они зажигали огонь в глиняных горшочках и несли их, подняв над головой – тысячи огней. Все это, смешиваясь с гремящей ярмаркой, похоже на пляшущие перепутанные кольца ада, рая и чистилища, посреди которых вертится горящее колесо сансары. Сели в одну из лодочек колеса, я хотел снять на камеру все это сверху. Тая спросила, скоро ли мы поедем домой, она переполнена, уже через край. Я бы, говорю, остался тут, и не только на эту ночь. Смотри, кроме нас, тут никого пришлых, другого раза не будет, даже если случится, ты же знаешь. Знаю, говорит, ты оставайся, я завтра утром приеду.
Проводил ее, посадил на автобус, отдала мне свою запасную карту памяти для камеры, обнялись во тьме, постояли так, чуть покачиваясь. Найди, говорит, где хоть пару часов подремать, не изнашивайся, впереди еще три дня, я буду рано утром.
Уже начало светать, а я все кружил там, присаживался в лавках попить чаю, перекусить, но вскакивал, оставляя все на столе почти нетронутым, возвращался к храму, в гущу людей, и с какой-то настойчивой частотой сталкивался с теми двумя – любовью и смертью, они все наматывали круги, идя впереди своей группы, хотя многие уже сошли с круга – передохнуть в шатре. В который раз я пытался снять на камеру эту тихую смерть. Любовь рядом с ней взвинчивалась, заходясь, и обессиливала. А эта шла затравленно, но и несгибаемо, с недвижным взглядом и приоткрытыми, чуть выгнутыми, как у Таи, губами, худенькая, как она, с желтыми и белыми пятнами краски на лице, оплывшей от испарины, создающей впечатление какой-то неведомой страны на старинной выцветшей акварели, наполовину закрытой по диагонали черным крылом волос, с этим единственным тихим глазом, в который тебя втягивает всего, со всей твоей жизнью, как в космическую дыру.
Под утро я оказался в шатре, где обосновалась община из Гудулура. Это ближайший к нам городок, куда я ездил менять деньги в турагентстве у Асифа, молодого мусульманина, неизменно сидевшего у экрана компьютера в пустом офисе. Когда-то, впервые зайдя к нему с улицы, я предложил оставить у него двести евро с тем, чтобы он через год помог взять на них билеты на поезд для группы моих друзей. Без всяких расписок, просто оставил, зная его всего десять минут. И никаких общих знакомых, в этом городке я был тогда проездом. Через год написал ему по электронной почте, на следующий день билеты были у меня, а когда еще через полгода я зашел к нему на те же десять минут, он вернул мне сдачу. Это про индийцев. Вернее, про отношения. Или Вики, водитель из Масинагуди – после первой поездки с ним на его джипе я дал ему, сколько он назвал. Хотел сказать ему, что это многовато, и уже открыл рот, но передумал, остался только взгляд. Наутро он пришел ко мне, говорит, что не спал, что на душе нехорошо у него, вот лишние деньги, которые он взял. Вики. Он привезет Таю через пару часов, я позвонил ему с вечера.
Надо немного вздремнуть, вот здесь, рядом с барабанами, сложенными в углу. Говорят, что в глубинке слишком навязчивый интерес к туристам. Ровно наоборот. Чем дальше от туристических мест, тем целомудренней отношение. Шатер, ночь, джунгли, заповедник, Амман, многие тут вообще в настолько другом измерении, что и себя не сразу признают, а тут марсианин входит к ним в шатер, где спят, едят, баюкают детей… И что? Хоть бы кто навязчиво посмотрел в мою сторону. Или пытался завести разговор. Нет, только незаметно поставили чашку чая рядом. Но если б дал им понять, что нуждаюсь в общении, уж точно в отклике не было недостатка. А так – кивнул, сел в углу, а теперь и прилег уже, прикрыл глаза.
Из нескольких часов съемки, похоже, есть минут десять стоящих. Это немало. При том что снимать в такой толчее почти невозможно, еще и в полутьме и лучах прожекторов, направленных в объектив, куда ни повернись.
Бархатцы повсюду рассыпаны на земляном полу, веснушки Амман. Странно, но я так редко дарил ей цветы. Несколько раз в Севилье, Мюнхене, где-то еще порывался, но как-то она удерживала, и потом – все время дорога, переезды. Как маленький стоп-сигнал мигает в памяти. Темно-красная роза, которой нет. И лежащая спиной к ней Тая, полупроявленная под простынкой… В тот год мы решили попробовать добраться из Харнай до Мумбаи вдоль океана. Рыбаки отговаривали нас – дороги смыты сезонами дождей, сообщение лишь между ближайшими деревнями, и то не всюду. Но я думал: всего-то двести с лишним километров и пять дней до нашего самолета, уж наверное доберемся. Едва успели. При том что ехали и ехали дни напролет, переправлялись бесконечными паромами, ждали попуток в пропаще безлюдных краях и ночевали уж где придется. А потом, на подъезде к Мумбаи, последний городок со странным именем Пен, куда добрались уже затемно и поселились в первой попавшейся гостинице, оказавшейся дремучей ночлежкой со спящими на полу в коридорах и на ступенях лестниц фигурами, в которых с трудом узнавались люди. Комната была такой, что лучше не описывать. Сказал Тае: идем отсюда, но она так устала, уже засыпая на ходу, что только махнула рукой: здесь. Я добыл вторую простыню, которой она потом укроется с головой, а пока уговорил ее все же выйти – что-нибудь перекусить. Поселок был похож на такую же ночлежку, еще и свет отключен повсюду, шли какими-то мрачными переулками, тошнотворными подворотнями и где-то во тьме я взял из протянутой руки старухи без лица эту розу и вложил в ее ладонь деньги, тут же растаявшие вместе с ладонью. Тая несла ее бутоном вниз, держа за край длинного стебля, чуть помахивая рукой при ходьбе, будто никакой розы там не было. Ее и не было. Там, на кровати. Она оставила ее на столе в какой-то распивочной харчевне, где присели и не смогли есть. Не было, но я ее вижу на простыне. Где Тая спит на краю, спиной к ней. А я все не могу лечь рядом, маюсь, ищу чем занять себя, смотрю карту. Середина ночи, стук в дверь. Отряд полицейских, ломятся в комнату. Головы обмотаны шарфами, небритые лица с красными глазами. Допотопные ружья за плечом. Проверка документов. Кричат, напирают. Она и не слышала, как приходили. И роза лежала за ее спиной на простыне. Лежала, хотя ее не было. Так оно нередко и происходит. С людьми, событиями, чувствами. И с Таей.
Невысокий парень в желтой рубахе и желтых, зауженных книзу штанах с орнаментом по бокам… какое лицо необычное… Не потому, что набеленное. Стоит, покачиваясь, обхватив шею ладонями. Как акробат на пирамиде, когда один на плечах другого, а он – вверху, предпоследний… Почему предпоследний? Бог его знает. Какая-то пружина в нем замедленная, что-то происходит в нем… Надо поспать. Тая, наверно, уже седьмые сны смотрит. Тая, Тая… Я понять тебя хочу, смысла я в тебе… Ищу ли? Не заговаривайся. Эк, ду, тин, джар, панч, вышел зайчик, вышел зайч…
Два дня спустя ранним утром мы шли по лесной тропе к священной поляне. Процессия растянулась так, что не видно было ей конца. Мы с Таей все время теряли друг друга, идя по разным сторонам этого исхода. Сопровождавших, кроме нас, было не много: несколько женщин и детей, они ложились ничком поперек движения, чтобы участники процессии, переступая их, коснулись босой ступней. Остальные, как оказалось, ждали на поляне, готовились.




