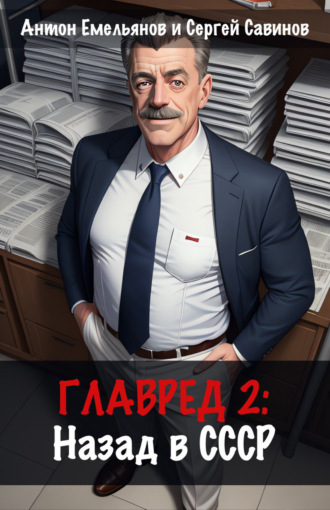
Сергей Савинов
Главред: Назад в СССР. Книга 2
Глава 3
Газета ушла в печать по графику, а Громыхина попросила меня зайти к себе в кабинет. Однако разговор у нас с ней все-таки состоялся раньше – когда мы ехали в лифте на четвертый этаж.
– Скажу прямо, Евгений Семенович, – Клара Викентьевна смотрела на меня поверх стекол очков, – ваша выходка с моей подписью обескураживает. Но при этом… вы меня восхитили, как бы это ни прозвучало.
– Чем же? – я удивленно поднял брови.
– Решимостью, – мгновенно ответила парторгша. – Вы и вправду очень изменились. В лучшую сторону. Подделка подписи – это лишь форма. Я верю, что вы это сделали из лучших побуждений. Но на будущее прошу: не делайте столь поспешных движений, чтобы не наломать дров. Лучше для начала поговорить.
– Согласен, – кивнул я. – Простите меня, Клара Викентьевна.
– Вы меня тоже, – улыбнулась Громыхина, правда, улыбка получилась довольно грустной. – Мне кажется, я слишком передавила…
Странная фраза. Но уточнить я ее не успел. Мы как раз доехали до нужного этажа, дверцы кабины разъехались, и мы вышли в опустевший коридор. Пожилая уборщица возила серой тряпкой по полу, пахло слегка хлорированной водой. Пропустив нас, женщина улыбнулась, поправила косынку и продолжила свой нелегкий труд.
– Кофе? – предложила Клара Викентьевна, когда мы вошли в ее кабинет, и я плотно затворил дверь.
– Не откажусь, – кивнул я.
Пока Громыхина хлопотала у небольшого столика, я еще раз обвел взглядом помещение. Клара Викентьевна определенно любила читать, это я подметил уже давно. Вот только если раньше мне бросались в глаза хорошие, но довольно типичные для полок парторга книги, то сейчас я заметил явное обновление. «Три мушкетера» Александра Дюма, собрания сочинений Марка Твена, Антона Павловича Чехова и… «Большая медицинская энциклопедия», «Гражданская оборона» под редакцией Алтунина, уже известная мне книга маршала Василия Чуйкова. Этого раньше точно не было.
– Прошу вас, Евгений Семенович, – Клара Викентьевна поставила передо мной чашку с ароматным напитком и села в свое кресло. – Заметили обновление в моей библиотеке? Да-да, я тоже всерьез занялась этим вопросом.
– Скажите, почему вы не сразу одобрили материал? – я задал вопрос, интересовавший меня сильнее всего.
– Мне кажется, это и так теперь стало понятно, – она удивленно пожала плечами. – Чтобы проверить, насколько это для вас на самом деле важно, искренне ли вы верите в свои слова или просто нашли новый способ сделать карьеру. Только я все же думала, что вы просто будете более настойчивым, сможете убедить меня, где-то пошли бы на компромисс…
– Но зачем так сложно? – я отреагировал слишком эмоционально, даже едва чашку с кофе со стола не смахнул. – Почему нельзя было просто сказать?
– Это не сложно, – Громыхина внимательно посмотрела на меня и покачала головой. – Редактор районной газеты должен быть уверен в своей правоте и должен уметь договариваться. А не бежать подделывать подписи.
Мне стало стыдно. Теперь по-настоящему. С одной стороны, я терпеть не мог таких витиеватых схем, когда тебя фактически поддерживают, но прямо об этом не говорят. А с другой, я и впрямь выбрал сомнительный путь. Да, своего добился. Но какой ценой? Мы ведь еще даже не все обсудили.
– А что Анатолий Петрович? – мне очень хотелось, чтобы Громыхина рассказала больше, чтобы не оставила сомнений, объяснила все.
– Понимаете, он не хотел скандала, – ответила Клара Викентьевна. – Советский Союз столкнулся с настоящим бедствием, и сейчас меньше всего нужны разного рода инсинуации… В западной прессе уже вовсю муссируется тема нашего разгильдяйства.
– Так поэтому ведь и нужно обо всем этом говорить! – возмущенно воскликнул я, даже привстал со стула.
– Сядьте, Евгений Семенович, – легким жестом остановила меня Громыхина. – Анатолий Петрович консультировался по этому поводу в обкоме, его просили… гм, не педалировать этот вопрос. Сейчас к теме Чернобыля приковано слишком много внимания тех, кому знать о нем нежелательно.
Я посмотрел на раскрытую книгу, лежащую по левую руку от Громыхиной. Судя по разноцветному рисунку на развороте, это географический атлас. Клара Викентьевна изучает на досуге политическую карту мира?
– США? – уточнил я. – Великобритания?
– Весь коллективный Запад, – подтвердила Громыхина. – Но вам, товарищ редактор, следует помнить, что помимо врагов внешних существуют враги внутренние. Агенты влияния. Диссиденты. Подпольные антисоветские организации. Для них проблемы чернобыльцев станут лакомым кусочком, если мы неправильно их преподнесем. Это же будет удар по советскому строю. Понимаете?
Я прекрасно уловил мысль Клары Викентьевны. Восьмидесятые стали переломной эпохой в истории СССР, и тот же Чернобыль уже скоро будет считаться одной из точек невозврата. Своего рода катализатором развала. Во-первых, это огромные финансовые затраты на ликвидацию последствий. А во-вторых, результаты той самой гласности – люди были шокированы масштабом происходящих в стране событий. Афганистан, Чернобыль, маньяки Чикатило и Фишер, крупнейшие катастрофы на транспорте[6]. Все это подкосило людей, осознавших, как много от них скрывали. Масла в огонь подлили неизвестные дотоле факты из истории СССР вроде Новочеркасского расстрела[7], Куреневской трагедии в Киеве[8] или радиационной аварии на уральском комбинате «Маяк»[9].
Если бы во всех этих случаях власти признали ошибки, а сами события не прятали под гриф «Секретно», все могло пойти совсем по-другому. И дело тут не в подпольных организациях и агентах влияния, о которых говорит Громыхина. Больше всего вреда стране принесли те, кто боялся рассказать о том же Чернобыле, кто скрывал правду о расстреле рабочих в Новочеркасске и глушил «вражеские голоса» вместо того, чтобы вступать с ними в дискуссию и побеждать аргументами. Причем в реалиях Союза, когда не было единой платформы вроде Твиттера или Ютьюба, созданных на Западе и готовых в любой момент поменять правила под себя, это действительно мог получиться разговор на равных. Когда каждая из сторон вынуждена следовать правилам и играть не на эмоциях и скандалах, а на фактах. Невероятная ситуация для моего будущего и вполне возможная в рамках идеальной советской идеи… Но такого слона нужно начинать есть по кускам. Иначе подавишься.
– Понимаю, – я кивнул в ответ Кларе Викентьевне. – И еще я так же хорошо понимаю, что если не будем говорить правду мы, то люди узнают ее от «вражеских голосов». Как думаете, это нужно стране и партии?
– Не пытайтесь вывести меня на полемику, Кашеваров, – Громыхина с улыбкой покачала головой. – У нас с вами одна цель – просвещать советских читателей, только передо мной, как парторгом издания, вдобавок стоит задача не навредить. Останавливать вас и, если нужно, даже резко осаживать.
– Поэтому вы сказали, будто я завербован? – я припомнил парторгше неприятные слова.
– Извините, – как мне показалось, искренне сказала Громыхина. – Издержки профессии.
– Я рад, что у нас теперь стало больше взаимопонимания, Клара Викентьевна, – я сделал последний глоток и отставил в сторону чашку. – А теперь скажите мне, только честно. Краюхин статью запретил?
– Скажем так, он ее крайне не рекомендовал, – мягко ответила парторгша. – Помните, я вам говорила, что в статье были его правки, а не мои?
– Помню, – кивнул я. – Решил убедиться. Думал, тоже проверка… То есть, если что, вы вместе со мной на эшафот?
– Как весело, отчаянно шел к виселице он, – грустно улыбнулась Клара Викентьевна, – в последний час в последний пляс пустился крошка Джон[10]. Ничего, Евгений Семенович, мы еще повоюем. Я в вас верю.
– Спасибо, – я не знал, что еще можно было сказать. Порой обычной благодарности бывает вполне достаточно. – А теперь предлагаю разъехаться по домам. Газета в типографии, все разошлись, а утреннюю планерку никто не отменял.
Парторгша не стала спорить, все уже и так было выяснено. Громыхина извинилась, причем дважды, еще и выразила решимость разделить ответственность вместе со мной. И это было сильно. Я все же недооценивал эту женщину. А вот Анатолий Петрович… За неполные две недели в этом времени я искренне зауважал Краюхина, и тут вдруг такое странное изменение отношения с его стороны. Неужели он и вправду решил перестраховаться, фактически подставив меня и Громыхину? Ведь коснись чего, и отвечать нам действительно придется вдвоем с ней.
Обо всем этом я думал уже в машине – вопреки обыкновению я сегодня воспользовался служебным транспортом. Клара Викентьевна, понимая, что я больше не расположен к беседе, всю дорогу молчала. Мы только вежливо распрощались с ней возле нашего общего дома и разошлись по подъездам. Очень хотелось упасть в кровать без душа, но я пересилил себя.
А потом уснул прямо перед телевизором, едва началась программа «Время».
* * *
Утром события понеслись как бешеная кобыла, убегающая от живодера. Началось все с того, что горожане, как и в прошлую среду, толпились у стенда на автобусной остановке и обсуждали свежий номер газеты. Естественно, я не мог пройти мимо.
– Я же говорил, что от Чернобыля мы еще наплачемся! – тряс головой высокий очкарик с немытыми волосами и в длиннополом сером плаще.
Он явно пытался привлечь внимание к своей персоне, но его особо не слушали. Народ обсуждал факты, приведенные в статье, рассказы знакомых и совершенно дикие слухи, непонятно откуда взявшиеся. Я жадно ловил каждое слово, каждую фразу, пытаясь понять, насколько мне удалось достучаться до людей.
– Пашка Садыков? Он же с моим Витькой в одном классе учился!
– Лучевая болезнь, говорят, заживо изнутри сжигает…
– У зятя знакомый есть, а у того друг, так вот он рассказывал, что в Припяти анаконды завелись…
– Теленка с двумя головами видели…
– Думаете, зачем военные сборы объявили? По атому стрелять? Да там нечисть из-под реактора прет!
– Да ну вас с вашими байками! Вы почитайте лучше, что Кашеваров пишет!
– А военные там зачем? А? зачем?
– Вы ИМР на фотографии видите? Вот, смотрите! Это инженерная машина разграждения, их на случай атомной войны делали. Вот и пригодились…
– У военных техника, ресурсы. Это ж если всю армию туда отрядить, они быстро порядок наведут. Но границы ведь тоже охранять нужно.
– Всем миром навалиться хотят…
– По-другому никак, вот Кашеваров и пишет. Стране брошен вызов, люди плечом к плечу… И забывать их нельзя, вот в чем смысл!
– Да-да, он об этом и пишет! У нас тут все отлично, а они оттуда живыми мертвецами возвращаются!
– В Америке, я слыхал, за два дня такое излечивают…
– И наши научатся!
– Мой сосед – тоже чернобылец. Плох совсем.
– А у меня сын там был. И ничего…
– Товарищи, ну вы что такое несете? Люди нас с вами защищали своими телами, как в войну! А вы бред какой-то рассказываете! Телята с двумя головами, анаконды… Тьфу!
– Ну, про мутации и в научных книгах пишут…
– Да о чем вы! Тут про наших парней, им помогать надо!
– Верно говоришь, сынок! Мой племянник там был, сказывал, что страшное дело творится!.. Все, как в статье! За душу тронул!
– И не говорите!
Я слушал, затаив дыхание. Если отбросить откровенный трэш, как это будут называть в будущем, люди обсуждали подвиг ликвидаторов и сочувствовали их судьбе. То, что нужно! То, чего я хотел добиться! И пусть я пропустил уже несколько автобусов, плевать, когда тут самый настоящий живой отклик! Кстати, я был не единственным, кто опаздывал – люди периодически спохватывались, глядя на часы, и буквально впрыгивали в салон. Причем толпа у газетного стенда не уменьшалась, а только росла. Присмотревшись, я понял, как это происходит – из соседних домов выходили те, кому не требовалось бежать на работу. Пенсионеры, люди на больничном бюллетене, мамы в декрете. Кто-то видел столпотворение из окна, другие интересовались у бегущих соседей, что происходит, и тоже, одевшись, шли к остановке.
– Здорово, Семеныч! – меня окликнули, и я, обернувшись, узнал Петьку Густова, соседа-афганца.
Он был в легкой саржевой куртке, из-под расстегнутой молнии красовался десантный тельник. На голове ветерана красовался лихо заломленный голубой берет.
– Привет, – мы обменялись рукопожатиями.
– О чем в этот раз написали? – улыбнулся Густов и, аккуратно растолкав нескольких зевак, пробился поближе к стенду.
– Про Чернобыль, – ответил я, и Петька нахмурился, но ответить мне не успел.
– Говорят, водка от радиации хорошо помогает, – послышался чей-то явно нетрезвый голос.
Я повернулся на звук. Точно – мужик в засаленной телогрейке с лицом ценителя этиловых паров. На него возмущенно зашикали, кто-то пристыдил, посоветовав пойти проспаться, и пропойца, смутившись общественного мнения, решил было прислушаться к гласу народа. Но тут на сцене вновь появился очкарик в сером плаще. Он подошел к пьянчужке и, похлопав его по плечу, заговорил неожиданно громким голосом:
– А ведь он прав, граждане! – люди принялись оборачиваться, а я, посмотрев с тоской на очередной «ЛиАЗик», решил понаблюдать за происходящим. – Думаете, почему в стране объявили сухой закон? Потому что знали об аварии! Заранее знали и ни о чем нас не предупредили!
– Правильно! – осмелел алкоголик и тут же покраснел, но точно уже не от выпитого, а от испуга.
На него, раздвигая словно бульдозер толпу, надвигался Петька Густов с налитыми кровью глазами. У меня внутри было все упало, однако мой сосед, хоть и оказался экспрессивным, в руках себя держать мог. Он подошел ближе к странной парочке, смерил пропойцу небрежным взглядом и повернулся к очкарику.
– Расскажи-ка мне, где связь между Чернобылем и запретом на водку, – твердо потребовал Петька.
– Посмотри на этого несчастного! – громко заговорил очкарик, ничуть не испугавшийся афганца. – Он вынужден пить одеколон, пока весь алкоголь идет в зону!..
Люди на остановке возмущенно загалдели, но осуждали они не правительство, запустившее антиалкогольную кампанию, а провокатора в сером плаще. Я не понял, чего тот пытался добиться, зачем нес откровенную околесицу, но мой мозг из будущего быстро провел параллель с городскими сумасшедшими, которых я в своей прошлой жизни видел немало. Такие, как этот парень с немытыми волосами, долгое время осаждали редакции, пока не набрали бешеную популярность соцсети и телеграм-каналы. И тогда вдруг некоторые такие люди возомнили себя журналистами, рассказывая своим подписчикам «всю правду». Плоская Земля, инопланетяне, заряженная вода, заговор рептилоидов, тайная война с демонами из параллельного мира, гомеопатия, зомбирующее излучение…
Помню, одна такая дама позвонила в редакцию «Любгородских известий», когда я еще был неопытным журналистом. Красиво и правильно складывая слова в предложения, женщина пожаловалась мне, что ее преследуют. Профессиональная жилка во мне тут же заиграла, и я принялся выпытывать подробности у собеседницы. Она охотно отвечала на мои вопросы, приводила слова известных правозащитников, которые «разводили руками», едва услышав о ее ситуации. «Против вас работают такие силы, что не подступиться», – сетовали, по словам женщины, топовые адвокаты. А когда я спросил, за что же ее преследуют, дама невозмутимо ответила: мол, за то, что она сторонница действующего президента. И когда я, оторопев, поинтересовался, как так может быть, услышал многозначительную фразу:
– А вот то-то и оно!
Это было мое первое знакомство с такими людьми. Впоследствии я уже знал, как с ними общаться, а наши секретарши Кристина и Ольга ловко отсеивали правдорубов и городских сумасшедших, получив один раз втык от Рокотова, нашего генерального. Кто-то из них, уже не помню, кто именно, дал некоему доморощенному конспирологу номер его личного телефона. Одного раза оказалось достаточно, и наш холдинг облегченно выдохнул. А потом и большинство городских сумасшедших ушли в онлайн.
Мои размышления и напряженный спор между Густовым и очкариком прервали сирены. К остановке подкатил милицейский «уазик», а следом за ним – «рафик» скорой помощи с дополнительной надписью «Специальная».
– Вы не вернете тридцать седьмой! – вдруг закричал очкарик, оттолкнув с непонятно откуда взявшейся силой Густова. – Карательная психиатрия – это политическое преступление! Горбачев объявил гласность!
Из «рафика» вышли два рослых парня-санитара и вежливо, но уверенно, приняли буянящего парня из рук милиционеров. Тот моментально успокоился и дал проводить себя в автомобиль «скорой». Взволнованные горожане рассосались по соседним домам и автобусам, некоторые благодарили парней в погонах. И тут я услышал интересную фразу:
– Опять у Лехи осеннее обострение.
Из глубин памяти всплыл до боли знакомый образ, и я понял, с кем мне сейчас довелось познакомиться. А странный день еще только начинался.
Глава 4
Вместо привычного «ЛиАЗика» мне попался редкий в моем городе ЛАЗ-695, еще ранних выпусков с большой буквой «Л» спереди. Основной поток пассажиров схлынул, и мне даже удалось присесть рядом с пожилым ветераном с тросточкой. Я откинулся на спинку сиденья, посмотрел на часы, посетовал, что опаздываю, и задумался.
Без последствий теперь уже точно не обойдется. Пусть Громыхина на моей стороне и согласна разделить ответственность, сомнительно, что нас просто поругают. Я уже думал о том, что моя карьера может завершиться печально, и был к этому готов. В конце концов, останусь тем же корреспондентом в родной газете, а когда цензура падет, вновь добьюсь места главреда. Но это вовсе не значит, что я не буду бороться сейчас. Еще как буду!
А потом… Гласность в ее привычном понимании наступит уже в марте следующего года, тысяча девятьсот восемьдесят седьмого. Именно тогда на страницы газет хлынут исторические откровения и политический плюрализм, а концу десятилетия и вовсе возникнут первые советские свободные СМИ. Ну, как свободные – скорее независимые от действующей власти. Но сейчас, осенью восемьдесят шестого, я с трудом выпустил свой второй в жизни номер газеты. А встреченный мной на остановке одиозный персонаж пока еще не набрал достаточно сторонников.
Звали его Алексей Котенок, с ударением на последнем слоге, и был он широко известным в узких кругах андроповским диссидентом. Учился на журналиста, но с работой у него не срослось – парень оказался идейным антисоветчиком и первую свою акцию протеста провел еще в школе. Наотрез отказался вступать в ряды пионеров. Вопреки распространенным уже в будущем стереотипам его никто не кошмарил – просто не выдали красный галстук. Мне еще мама потом рассказывала, что у нее в классе тоже был такой мальчик. Не захотел быть пионером, его и не заставляли. Но для Котенка это было делом принципа.
Уже в конце восьмидесятых он организует собственное общественное движение, соберет подписи в поддержку возвращения Андроповску исторического названия, будет защищать Любицу от загрязнения, а тех же чернобыльцев – от произвола отдельных чиновников. Так что здесь мы с ним в какой-то мере даже союзники. Однако при всем этом Алексей Котенок жутко ненавидел советскую власть и боролся с ней всеми доступными ему методами, даже работал в конце восьмидесятых и начале девяностых над созданием антикоммунистической городской газеты. Издания грязного, вовсю использовавшего технологии черного пиара. Фактически мой будущий конкурент на информационном поле Андроповска-Любгорода. Что любопытно, на момент моей гибели в две тысячи двадцать четвертом году Котенок по-прежнему оставался видным оппозиционером местного разлива – даже избирался в региональное Законодательное собрание от района, но не набрал достаточно голосов. Зато очень активно вел социальные сети, делая это, стоит признать, довольно-таки грамотно. Даже свою газету время от времени выпускал, хотя уже не настолько грязную, как в переходный период.
– Евгений Семенович, как хорошо, что вы все-таки пришли! – испуганная Валечка выскочила из-за стола, едва завидев меня, ввалившегося в приемную после утреннего приключения.
– Сильно я опоздал? – я посмотрел на висящие на левой стене часы. – Пять минут, все равно неприятно… Все уже собрались?
– Евгений Семенович, – секретарша заметно нервничала, даже чуть не сбила со своей блузки нарядный галстук-бант, размахивая руками. – Планерка для журналистского коллектива перенесена, а вас ждут в ленинской комнате. Давайте я ваш плащ повешу.
– Спасибо, Валечка, – поблагодарил я, понимая, что пахнет жареным. Впрочем, как оно и ожидалось.
Я отдал секретарше верхнюю одежду, вышел в коридор и, свернув направо, сделал несколько шагов в сторону ленинской комнаты. Той самой, которую в будущем станут использовать как конференц-зал. А сейчас я открыл дверь и вошел в просторное помещение с большим столом. В дальнем конце комнаты стоял большой гипсовый бюст Ильича, знамена, кубки, вымпелы и целая галерея почетных грамот. А посреди всего этого великолепия, сидя за столом, выделялись Громыхина и Краюхин. Был в их компании и некто третий – пожилой седовласый мужчина с идеальным пробором и почти брежневскими бровями.
– Проходи, Евгений Семенович, – Анатолий Петрович указал мне рукой на стул. – Присаживайся.
– Доброе утро, товарищ Кашеваров, – вежливо, но с каким-то явным напряжением в голосе произнесла Клара Викентьевна. Я даже мысленно ей посочувствовал, ведь она фактически находилась между молотом и наковальней. Интересно, не сдастся в последний момент, не прогнется? Не переобуется в воздухе, повесив всех обезьян на меня?
– И вам здравствуйте, товарищи, – нарочито бодро ответил я. – Прошу извинить за опоздание, собирал мнения читателей газеты. И хочу заметить…
– Об этом мы с тобой сейчас и поговорим, – оборвал меня Краюхин тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Нет, не похоже было, что он испытывает ко мне личную неприязнь. Скорее тоже сейчас размышляет, что со мной делать с наименьшими потерями. Все-таки идейность в первом секретаре удачно соседствует с прагматизмом.
Я присел, чувствуя себя как на суде большевистской тройки. И особенно меня напрягал этот незнакомец в темно-синем костюме с отливом. Есть у меня такое ощущение, что этим балом правит именно он, а не Анатолий Петрович с Кларой. Как бы оба они ко мне ни относились, решать, похоже, будет этот бровастый.
– Ладно тебе, Краюхин, не перегибай, – неожиданно улыбнулся тот. – И так застращали бедного редактора, который наверняка ночь не спал, о своем поступке думал. Вон, опоздал даже. Вам ведь есть что нам рассказать, Евгений Семенович?
– Смотря о чем вы хотите услышать, – я пожал плечами с напускным равнодушием. – Если о подготовке нового выпуска «Андроповских известий», то планерки еще не было.
– Вот-вот, – опять улыбнулся незнакомый функционер, и в этой улыбке промелькнуло что-то фальшивое. – Именно о газете мне бы и хотелось услышать. Давайте так. Какова задача советского печатного издания?
– Информировать граждан о происходящем в Союзе и мире, – ответил я. – Давать четкую объективную картину.
– И доносить до читателей позицию коммунистической партии, – подсказала Громыхина, поправляя воротничок, будто ей невыносимо душно. Видимо, эта фраза ожидалась именно от меня, и так нашей Кларе Викентьевне было бы проще за меня заступиться. Что ж, мой прокол, сознаюсь.
– Правильно, – тем временем кивнул седовласый уже без улыбки. – Задача печатных периодических изданий состоит в идеологически правильном информировании советских граждан. А вы, дорогой Кашеваров, забыли о важности партийной составляющей. Вот что это?
Он брезгливо взял в руки газету, будто подобрал ее на помойке, и повернул в мою сторону разворот со статьей о чернобыльцах.
– Это материал о наших андроповских ликвидаторах, – невозмутимо ответил я.
– Я и сам вижу, – все еще спокойно усмехнулся функционер. – Но как она написана, а? Разве это советская статья? Ощущение, что ее написал журналист «Би-Би-Си», но точно не «Андроповских известий».
– Насколько я знаю, международные стандарты журналистики применимы и к «Би-Би-Си», и к «Правде», и к нашей газете, – парировал я, внимательно наблюдая за седовласым. – Каковы ваши конкретные претензии?
Мой оппонент на мгновение поморщился, словно попробовал лимон, однако сдержался. Опасный противник.
– Претензии, – повторил он, усмехнувшись. – Вы мне скажите, кто такие ликвидаторы? Любой советский человек ответит: герои. Так почему в вашей статье герои жалуются на жизнь? Где самоотдача и посыл молодым поколениям? Где направляющая роль партии? Почему этот ваш Садыков на фотографии не в орденах, а на больничной койке?
– Насчет орденов не ко мне вопрос, – ледяным тоном парировал я.
И вот тут все еще незнакомый мне партийный функционер не выдержал. Видимо, давно не сталкивался с общением на равных, привык давить молчаливых овечек и вдруг получил неожиданный отпор. Вся мнимая доброжелательность моментально слетела с его лица, и он перешел на повышенный тон.
– Вы забываетесь, Кашеваров! – лицо его перекосило от гнева. – Написали отвратительный пасквиль, а теперь еще подвергаете сомнению работу партийных органов! Не к нему вопрос, видите ли! Вы что хотели сказать своей цидулькой? Что в Советском Союзе не умеют лечить лучевую болезнь? Не заботятся о героях? Пытаются замолчать их проблемы?
– Я хотел показать как героическую сторону жизни ликвидаторов, так и последствия их тяжелой работы, – в отличие от моего визави я держал себя в руках, излучая уверенность и спокойствие. – Считаю, советское общество имеет право об этом знать. А сами герои могут просить о помощи.
– Молчать! – седовласый грохнул кулаком по столу. – Отличный подарок вы сделали на День комсомола, товарищ редактор! Это просто вредительство! Диверсия в пользу Запада! А вы? Прошляпили лиса в курятнике, товарищи коммунисты! Убрать его из газеты немедленно!
– Но Богдан Серафимович? – Краюхин изумленно повернулся к нему. – Мы ведь хотели только обсудить, проработать…
– А ты, Анатолий Петрович, в кресле своем не засиделся? – седовласый даже не посмотрел на первого секретаря райкома, продолжая буравить взглядом меня. – У тебя тут самая настоящая контра в редакции развелась, ты мне еще о проработках говорить будешь! Я что, по-твоему, Николаю Федоровичу[11] должен докладывать? О том, как у тебя в районе в День комсомола такая дрянь выходит?
Все это время я старался сдерживаться, но именно эти слова Богдана Серафимовича прозвучали словно пощечина. Стерпеть такое было уже невозможно.
– Дрянь? – возмутился я. – История парня, который возил ликвидаторов на автобусе? Или, быть может, дрянь – это комментарии ведущих врачей? Вы, извините, статью хотя бы читали или довольствовались заголовком и фотографией?
К такому седовласый оказался явно не готов. Он глотал воздух ртом, словно выброшенная на берег рыба, даже галстук ослабил.
– Да как ты смеешь, щенок! – наконец, процедил он сквозь зубы. – Я все прочитал, и не по одному разу. Всю твою филиппику в адрес советской власти!
– Это какую же? – усмехнулся я.
– Мракобесие! – функционер то ли уже не слушал меня, то ли сознательно избежал ответа. – В советской газете про колдовство пишут! Тьфу! А я за тебя, Кашеваров, перед Татарчуком, между прочим, лично краснел! И за тебя, Анатолий Петрович, тоже!
Богдан Серафимович только теперь посмотрел на Краюхина, а я зато вспомнил, наконец, кто он такой. Фамилия его была Хватов, и он возглавлял «Андроповские известия» в шестидесятых и семидесятых. Потом его перевели в областной центр, где он входил в редакционный совет «Калининской правды» и занимал не последнюю должность в обкоме. Что самое паршивое, районки формально подчинялись областному изданию, и опять же формально Хватов мог вмешиваться в работу моей газеты. Его портрет, к слову, тоже висел в нашей «галерее славы» наряду с Кашеваровым и другими редакторами. Только вот Бульбаша, кстати, там не было, я вот что еще вспомнил. Видимо, при составлении почетного списка решили не акцентировать внимание на Виталии Николаевиче из-за его пагубного пристрастия. А ведь несправедливо все-таки…
– В общем, так, Евгений Семенович, – тем временем Хватов немного успокоился и перестал брызгать слюной. – От своего поста ты пока отстраняешься, соответствующий приказ я подпишу, полномочия у меня на это имеются, как ты понимаешь. Но есть для тебя и хорошая новость. Все-таки до этих своих демаршей ты газетой нормально руководил, так что, учитывая твои былые заслуги, в редакции я тебя оставлю, так уж и быть. Переведу в старшие корреспонденты. А там посмотрим, кем тебя заменить. Есть перспективные-то, Клара Викентьевна?
– Арсений Степанович Бродов у нас числится одним из заместителей, – ответила Громыхина. – И Виталий Николаевич Бульбаш. Из молодых же…
Я внимательно слушал Клару Викентьевну, которая осторожно отметила, что молодежь пока еще не готова возглавить газету, а Евгений Семенович, то бишь я, высококвалифицированный и ответственный редактор. И, возможно, стоит дать мне шанс, взять на поруки, помочь направить энергию в мирное русло. А параллельно в моей голове укладывалась мягкой кошкой мысль: да, меня все-таки сместили, как я и опасался, но при этом оставили в редакции. Конечно, обидно, что старый хрыч Хватов уже подыскивает мне замену, однако еще не вечер. Была мысль прямо сейчас встать в позу и потребовать официальную бумагу из обкома, вот только я понимал, что он не блефует. Нет, мы пойдем другим путем.
– Ладно, посмотрим, – между тем, властно махнул рукой Богдан Серафимович, останавливая Громыхину. – Ты мне Кашеварова-то не защищай, он американские методы работы хотел в газету ввести. Хотел, Кашеваров?
И снова меня неприятно кольнуло внутри: Метелина. Вряд ли кто-то еще меня сдал, а старушка и впрямь зуб заточила. Интересно, и как она на Хватова вышла? Анонимку написала – мол, довожу до вашего сведения?..
Как бы то ни было, мне теперь надо что-то придумать. Я верю, что выкарабкаюсь, но пока что все валится, будто карточный домик – не только задуманный мной цикл статей о немирном атоме и текст про подвальные «качалки», но и, похоже, концерт в честь Дня комсомола. А ведь он, между прочим, уже сегодня. Интересно, зарубит Хватов заодно и мою инициативу с советским роком?
– Перерыв десять минут, полагаю, устроит, коллеги? – обратился тем временем седовласый к Громыхиной и Краюхину. – Отлично. Евгений Семенович, подготовьте, пожалуйста, передачу дел и попросите Варвару организовать сбор коллектива редакции. Всех, а не только журналистов, и здесь, в ленинской комнате.
– Ее зовут Валентина, – подметил я.
– Ну да, Валентину, – развел руками Хватов. – А я как сказал?
Я ничего не ответил и вышел в коридор. Внутри меня немного потряхивало, но снаружи я старался держаться. Может, швырнуть на стол партбилет и уволиться? Ну уж нет! Не для того я тут все организовывал, чтобы взять и бросить! Да и велика ли важность, редакторское кресло? Если Хватов поставит вместо меня Бульбаша или Бродова, стану серым кардиналом. А если нет…







