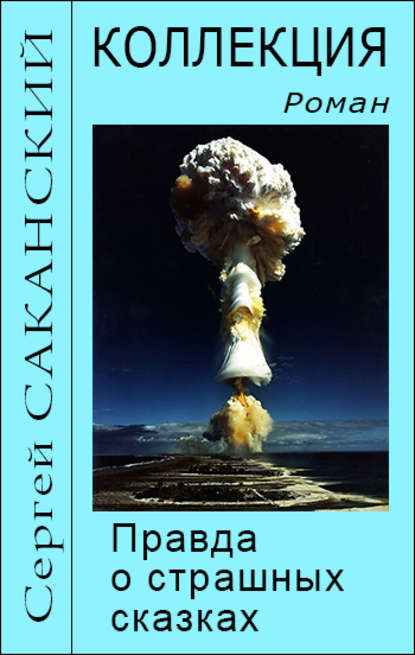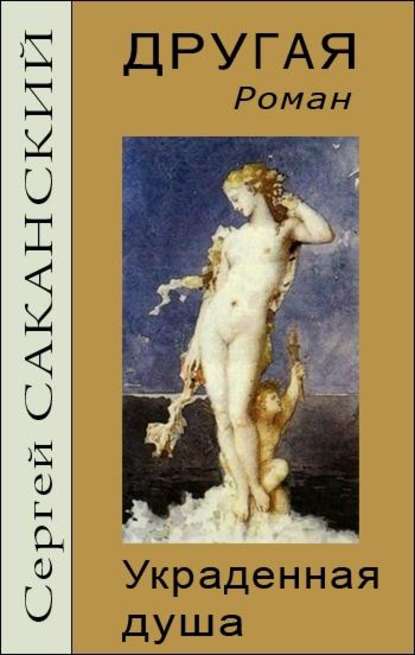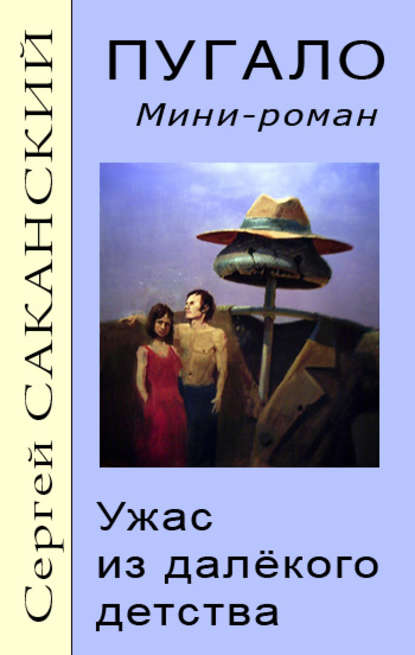Полная версия:
Сергей Юрьевич Саканский Сбор образа (сборник)
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Сергей Саканский
Книга 1
Сбор образа (сборник)
Сысоев день
1Ветер гремел какой-то неловкой жестью всю ночь почти, затем то ли ветер кончился, то ли жесть, наконец, в тихое место сдул… Снился мальчик. Сысоев проснулся, подошел к окну: снег.
Нет, не кончился ветер, только жесть с гаражей в укромное место сдул. Мальчик стоял на плоской битумной крыше гаража, сандалиями в битуме по-летнему залип, как насекомое в янтарной смоле. Мальчик руками изломанно махал.
Неудачно. Битум черный, а янтарь золотой. Разрушается и плывет, липкой патокой стекает с писательского стола сия нехудожественная речь.
Сысоев опять проснулся, словно у Гоголя, в настоящем, и тут уже не было ни ветра, ни лета… Сысоев сразу вспомнил всю свою жизнь и заплакал. Обычно у него было несколько минут с утра, но сегодня мальчик сразу перековылял прямо из сна, и Сысоев понял, что должен навестить могилку.
Он помолился, затем сварил перловую кашу.
– Сегодня мне опять снился мальчик, – сказал он, обращаясь к куклам на полке. – Сегодня я должен навестить могилку.
Куклы глядели тускло, и это было от пыли. Пока вода закипала, Сысоев протер каждую влажной тряпкой.
Затем сидел на кухне у окна, ел свою постную кашу с ячменной лепешкой и смотрел сверху на гаражи. Сысоевский, да еще два-три гаража не были расчищены от снега. Сысоев вдруг испугался, что у него отберут гараж. Он вспомнил, как осенью, когда он возился с ключами, запирая гараж, тормознула черная иномарка, и парень, высунувшись, крикнул:
– Эй, дед, продай гараж!
Сысоев закрыл гараж и молча пошел, а парень медленно поехал за ним, уговаривая:
– Слышь, ты, дед! Продай гараж. Продай, в натуре, а то даром возьму.
Сысоев свернул в узкую щель между гаражами и ушел от преследователя. За гаражами, на мусорной куче, лежала собака. Солнечный луч, встав под определенным углом, заставил сверкать ее мертвый глаз. Сысоев похоронил собаку под небольшой пушистой елью.
Работая сломанной лопаткой, найденной тут же, на загаражной свалке, он с горечью думал, что, может быть, ему зачтется сие доброе дело, когда вот уже скоро, через каких-нибудь несколько лет – а время в старости ускоряет свой бег – и это все равно, что завтра, совсем уже скоро, через каких-нибудь несколько дней по новому летоисчислению…
Где-то в Казани еще был племянник, возможно, и прочие родственники, бессвязно… Все свое имущество – квартиру, развалины автомобиля, Горбатого своего и гараж Сысоев завещал местному коммерческому монастырю, тайно: после смерти найдут его завещание, и покаяние, занявшее целую тетрадь бисерного почерка найдут. Года три назад приходили первые бандиты, хотели имущество отобрать, а Сысоева умертвить, но он копию завещания молча показал – отступились.
Вскоре другие пришли – наверно, кто-то из соседей упорно стучал – те оказались въедливые: привязали Сысоева к стулу, прозрачной липкой лентой с треском примотали, пустили воду в ванной, топить его будут, поставили чайник на плиту, кипяток в рот заливать.
– Чуешь, чем пахнет, дед? – спросил один.
– Жареным, пахнет, дед, – уточнил другой.
– Утюг, паяльник есть? – деловитым тоном осведимился третий. – Утюг, – он положил руку на сердце, – я тебе в живот провалю, а паяльник, – он поднял и сразу опустил палец, – в жопу, – пальцем будто через заборчик перемахнув.
– Яйца ему лучше подрежь! – сквозь зубы процедила девчонка, такая милая, с юным лицом. – Дыму не будет.
Она, как Сысоев понял, нотариусом была, молодой специалист, чистые бумаги и печать с собой принесла.
– Гляньте-ка, а он в куклы играет. Тащи-ка одну сюда.
Принес куклу Агнию, положил на бок табуретку, куклу к ножке той же прозрачной лентой прилепил.
– Смотри, дед, что с тобой будет. Хорошо смотри. Вот я твоей кукле паяльничек в жопу вставляю. Пластмассой жареной пахнет. А то мясом твоим пахнуть будет, усек?
– Ты ей глаз голубой выжги, – посоветовала девушка, прикуривая. – Все же меньше дыму.
Дым все же вился, и от Агнии, и от девушки, чья белизна и свежесть были воистину ангельскими.
– Ничего куколка была, – с неподдельной грустью вздохнула она, когда оба глаза Агнии превратились в оплавленные дыры.
– Ну что, будем колоться, партизан?
Сысоев вдруг широко улыбнулся, потом стал хохотать, запрокинув голову. Ему предложили именно тот конец света, которого он жаждал все эти годы, но почему-то было вполне ясно, что до конца они дело не доведут.
Развязали, ушли. Сысоев принял ванну. Он плакал, сидя в ванной, потому что в первый и последний раз – сорвалось, а другого такого шанса уже не будет.
2Сысоев был домашним монахом. Из своей двухкомнатной он создал маленький монастырь: в двадцатиметровую свез лишнюю мебель, книги и ковры, а восьмиметровая стала кельей – голые стены, оклеенные белой бумагой, тумбочка и топчан с больничной свалки. В углу – иконостас.
Сысоев питался хлебом, водой и кашей; с таким рационом его мизерной пенсии не только хватало на жизнь, но еще оставалось на литературу и свечи, и можно было подкопить на новую иконку, и даже были кое-какие смертные сбережения.
Единственной роскошью в его обители значились куклы. Девять кукол было найдено, три куплены, одна добежала из детства. Куклы сидели на кухонной полке – длинным неровным рядом. Последние годы Сысоев беседовал с ними, как обычно общаются с домашними животными – не предполагая ни понимания, ни тем более ответа… Когда куклы заговорят, думал Сысоев, это и будет отправная точка моего безумия. Проницательный читатель знает: ближе к концу повествования куклы непременно заговорят.
Сысоев не вполне честно соблюдал принятый им обет молчания. В ближайших магазинах, где его несправедливо считали немым, он просто указывал на нужные продукты перстом. Кое-где, например, в Сбербанке, порой приходилось произнести несколько слов. Да и молился он чаще всего вслух.
Обет молчания, скорее всего, был обетом одиночества. Немногие старые друзья давно похоронили Сысоева, соседи с грустью смотрели ему вслед, когда он, непоправимо согнутый и седой, нечеловечески тощий, шел, опираясь на палку – купить какой-нибудь еды.
Привычка разговаривать с куклами развилась уже на третий месяц молчания. Тогда Сысоев, размахивая деревянной мешалкой, произнес столь внезапную и длинную речь, что даже сгорела его перловая каша, а он все не мог и не мог остановиться…
– Быть человеком, – говорил Сысоев, – это значит – говорить. В начале было – что? То-то и оно… Не умеющий сказать подобен чванливому агнцу, который в отблесках пламени видит лишь собственные испуганные глаза. Именно Слово, зачатое в первородном грехе…
Он говорил долго, символизируя каждый вопросительный знак взмахом мешалки по направлению к куклам; его дух, кипевший прежде, как жидкость кипит в высоком сосуде с узким горлом, теперь уподобился бурной реакции открытого горшка… Сысоев кончил. Куклы улыбались сквозь золотистые солнечные лучи. Казалось, их лица ожили в обманчивом кружении пылинок.
С тех пор Сысоев и стал говорить.
3Он было собрался навестить могилку прямо сейчас, по утреннему солнышку, но разболелись ноги. Сысоев лег и углубился в чтение Афанасия Сарского.
Тикали ходики на стене. Солнечные полоски неумолимо ползли по ковровой дорожке, наглядно демонстрируя непрерывность времени и вместе с тем его дискретность, ибо взгляд, переведенный с книжной страницы на пол, всегда упирается в новую комбинацию света и тьмы.
– Вот! – возбужденно воскликнул Сысоев. – Вот-вот! Грех и покаяние составляют именно слои нашего бытия, подобно залеганию древних пород в глубине земли или свадебному пирогу… Прав, трижды прав старик Сарский!
Так, незаметно, время подползло к обеду. Сысоев налил в алюминиевую кастрюльку воды, затем промыл крупу. Когда вода закипела, он засыпал крупу в кастрюльку и шумовкой удалил выступившую пену… Простые и добрые, очень хорошие слова, читатель.
– Простит ли он меня когда-нибудь? – задумчиво пробурчал Сысоев, глянув на куклы через плечо.
Наконец, каша готова. Она напоминает какой-то сильно кратерированный ландшафт, вроде Луны или Меркурия. Глубокие, уходящие во тьму трещины наглядно отрицают как плоскость, так и кривизну поверхности планеты. Из трещин вырывается пар: вот-вот готов образоваться вулкан… Солнечные лучи, полные жемчужной пыли, не возбуждают жизни в пейзаже, мертвом до самого горизонта. Поле под слабым слоем снега исчерчено геральдическими следами тракторов. Гаражи на переднем плане слишком страшно похожи на развалины некрополя. Сысоев, таинственный монах, садится обедать.
Еда вообще была для Сысоева низменным физиологическим актом. Он глубоко понимал великих отшельников, медленно высыхавших на дне пещер. Сам по себе отказ от еды не был для них ни мукой, ни жертвой. Мукой было то наслаждение, которое дает отказ от наслаждений. Жертвой была вездесущая неизбежность наслаждения.
Кончив, Сысоев тщательно вымыл посуду.
– Я скоро вернусь, – кивнул он куклам и, замотавшись длинным розовым невообразимо давно покойной женой связанным шерстяным шарфом, вышел на воздух, на солнце, на свой крестный путь.
Надо было сперва дом обогнуть.
Обойдя, он приблизился к гаражу, достал из-за стенки фанерку, принялся откапывать от набежавшего снега дверь… И тут его сердце заколотилось бешено, испарина выступила на лбу, ноги его подкосились, поскольку увидел: на ржавчине двери, белая, прилеплена бумажка, а на ней – написано!
Очки для близи-то он не взял, глазами к бумажке приник, очки для дали то снимет, то наденет, голову то так, то эдак повернет… А на бумажке написано:
СНИМУ ЭТОТ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ГАРАЖ– Снимешь ты, снимешь, – злобно прошипел Сысоев, – жопу ты снимешь, прости, Господи, вырвалось, сука, прости Господи, вырвалось опять…
Он осторожно огляделся по сторонам. Улица была безлюдной. Неподалеку валялся кусок ржавой жести, тот самый, что гремел ночью на крыше, в сне… Сысоев с трудом отпер гараж и вошел внутрь.
Посреди гаража стоял Горбатый, соучастник и невольный пособник убийцы. Машина посмотрела на Сысоева из-под толстого слоя пыли. Хозяин подошел, провел безымянным пальцем по капоту, оставив полоску. Прошлая полоска уже подернулась пылью, как и предыдущая. Отметины прежних лет уходили в пыль, словно древние ступени в мутную воду.
Этот давно мертвый «Запорожец» был еще того архаичного дизайна шестидесятых, который предполагал явное сходство машины с круглым человеческим лицом. Горбатый был похож на ребенка, вот-вот готового разреветься, у него были выразительные, сложенные горьким пирожком губы.
Сысоев промокнул платком глаза, высморкался и, кряхтя, стал разбирать вещи, сваленные в углу. Он достал и встряхнул большую грибную корзину, затем сложил в нее детский совок, баночку черной нитрокраски, ацетон, маленькую деревянную скамейку и вьетнамский веник.
Как всегда, его поджидала местная галлюцинация, которую условно можно назвать призраком, потому что проявлялась она только здесь, в гараже. Теперь мальчик стоял сзади, туманно выглядывая из-за стекла. Если бы галлюцинация умела расти, подумал Сысоев, то голова давно бы уже возвышалась над крышей машины, уже не та белобрысая детская голова, а взрослого человека голова, за сорок уже, и наверняка лысого…
– На могилку иду, на могилку, – покойно сообщил Сысоев, кивнув.
Он недолго постоял у машины, внимательно разглядывая призрака, затем, опять же, кряхтя, полез в подвал.
Тусклая тридцатишестивольтовая лампочка освещала подземное помещение с кирпичными стенами, бетонным потолком и песочным полом. Налево были пустые ниши, направо – полусгнившие картофельные закрома.
Сысоев взял детский совочек, сел на скамеечку и принялся грести песок. Через несколько минут работы он расчистил небольшой жестяной лист, на котором показались блеклые буквы:
КРАСОВСКИЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ (МАЛЬЧИК) 1968–1977Все это было похоже на непомерно увеличенный в размерах, традиционный детский «секретик».
4Помолившись, Сысоев достал из корзины краску, затворил ее ацетоном и подновил надпись. В ожидании, когда краска высохнет, он сидел на скамеечке над могилой и вспоминал мальчика, который прожил здесь, на цепи, почти три месяца, питался сырой картошкой, срал в ямку. Казалось, что здесь до сих пор стоит этот неуютный запах застарелой канализации, именно от ямки, которую мальчик выкопал руками в углу.
Помнится, когда прошло пять недель с тех пор как мальчик исчез, Витька, его отец, вышел как ни в чем не бывало во двор – постучать в домино.
– На Кавказ забрали, точно на Кавказ, в рабы, – бодро объяснял он с папироской в углу рта. – Вот, вернется лет эдак через двадцать, женатый, лысый как я… – Витька стукнул себя по лбу ладонью, полной черных костей домино, и те вдруг рассыпались по всему столу, по земле…
Проиграв тогда сорок копеек, Сысоев зашел вечером в гараж.
– Дядь Саш, – попросил мальчик, – я никому не скажу, дядь Саш. Я скажу, что к тетке в Ковров убежал, а по дороге хулиганы напали. А ножка, ладно, я и без ножки дальше поживу, дядь Саш…
К тому времени Сысоев уже сорвал с мальчика ногти и вставил ему в мочеиспускательный канал бенгальский огонь. Три месяца, вероятно, показались мальчику значительно длиннее всей его предыдущей жизни. Сысоев приходил каждый вечер и занимался с ним около часа: больше они не выдерживали оба… Чтобы продлить мучения мальчика, Сысоев применял новокаин в ампулах, умело накладывал повязки с различными мазями… Мальчик был умным, он часто менял тактику поведения, испробовав все: то осыпал Сысоева проклятиями, угрозами, поминая даже весьма немодного в те годы Бога, то становился очень хорошим, покладистым – ни о чем не просил, делал все, что ему приказывали, даже подмахивал бритве или игле… Последние дни мальчик уже ничего не говорил членораздельно, а только выл, складывая свое негромкое «у-у» в популярные тогда мелодии: Жил да был черный кот за углом, Оранжевое небо, Солнечный круг…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.