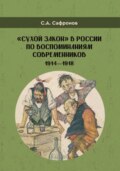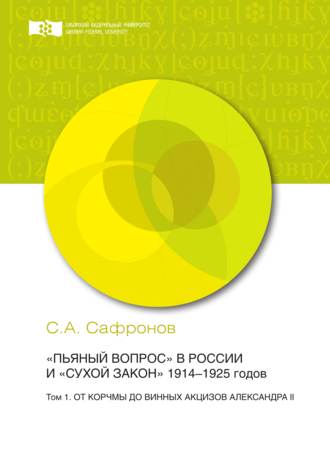
С. А. Сафронов
«Пьяный вопрос» в России и «сухой закон» 1914-1925 годов. Том 1. От корчмы до винных акцизов Александра II
Проведение пира определялось ритуалом: начинался он с возлияния в честь богов и священной песни. За каждого участника пили по кругу заздравную чашу, как бы подчеркивая таким образом равенство участников. Попойки, разгульные пиршества первоначально не допускались, хотя вина пили много. Но все же пристойным правилом считалось выпить столько, чтобы без сопровождающего дойти до дома. Пиры происходили на мужской половине дома (мегарон), свободнорожденные женщины, если пиры не носили семейного характера, на них не допускались. А когда присутствовали на трапезах, то в отличие от мужчин, которые пировали полулежа, сидели на стульях, возлежать замужним женщинам на трапезах считалось неприличным. Зато на пирах желанными были гетеры, которые вокруг стола возлежали вместе с мужчинами. Пирующие снимали обувь, рабы мыли им ноги, после чего гости сами или по указанию хозяина дома занимали места на ложах. Ложа ставились перед небольшими столиками. Перед едой рабы лили гостям на руки воду для омовения, эта процедура повторялась во время пира многократно, так как, обходясь без ножей, вилок и ложек, сотрапезники пользовались руками35.
Сначала пальцы вытирали обрезками хлеба, позднее, когда пиры стали более изысканными и утонченными, для вытирания пальцев подавали особую благоухающую белую глину. Хотя жена и дочери хозяина не участвовали в застолье, пирующие, как уже говорилось, не были лишены женского общества. В симпосий вносили разнообразие своим выступлением флейтистки, акробатки, танцовщицы, а гетеры, женщины образованные, остроумные и обаятельные, поддерживали беседу даже тогда, когда речь заходила о важных государственных вопросах. В Греции уже было достаточно развито кулинарное искусство, обычно повар не входил в штат слуг в доме. Когда приближалось время большого пира, хозяин дома сам закупал провизию, отправлялся на рыночную площадь и нанимал там профессионального повара. В меню пиров обязательно входили дары моря: макрель, морские скаты под соусом, сельдь, камбала, крабы, а также щука и лягушачьи лапки. Изощренными были и блюда из птицы: искусно зажаренные голуби, воробьи, жаворонки, фазаны, дрозды, перепела и даже ласточки, приправленные оливковым маслом и пряностями. Как видим, гурманы были за пиршественным столом не редкостью. Роскошными в то время были и пиры и вообще весь быт в целом у зажиточных слоев общества. Что касается поведения на пирах, то оно было достаточно регламентировано, причем не обычным, с современной точки зрения, образом. Судя по вазовой живописи, на пирах допускался откровенный секс, в том числе коллективный, и это не считалось непристойным. В то же время ряд поступков признавался недопустимым36.
Нормой было чуть более десятка человек, ритуалы пира не были очень строгими. Строгие же ритуалы соблюдались в пирах, которые устраивали члены религиозных союзов. Во время празднеств, пиров устраивались жертвоприношения в честь различных богов. Часть туши животного шла жрецу, часть отдавалась богам, остальное поступало на пиршественный стол. В обычной жизни греки мясо почти не ели, но во время пира оно употреблялось. На пирах этого периода (особенно в IV в. до н. э.) пища равномерно распределялась среди участников трапезы. Свойственная демосу идея равенства пронизывала практически все частные застолья.
В течение V–IV вв. до н. э. шло сознательное нарушение традиционных ритуалов, более того, их стали пародировать во время пиров в гетериях (своеобразных полулегальных объединениях). Когда они постепенно сошли на нет, появились молодежные маргинальные группы. Их члены воровали из жертвоприношений Гекате те части свиньи, которые было запрещено употреблять в пищу, и съедали их вопреки традициям: это был эпатаж, вызов.
Интересно, что в случае опоздания на пир опоздавший должен был заплатить штраф. Пиры устраивались по разным поводам: в честь бога, по праздникам и даже в случае погребения. Философы во время совместных пиров вели беседы. Пиры, как правило, были открытыми, т. е. двери, где проходило застолье, не запирались. В Афинах невозможно было отгородиться от толпы, и гулящие представители демоса сознательно пользовались таким способом попасть на пир37.
Постепенно пиры стали становиться самоцелью. В позднегреческий период ритуал восхваления богов и жертвоприношения уже полностью отсутствовали. Участники пира устраивали его так, как им хотелось. Иногда застолья устраивал один человек, в доме которого собирались пирующие, а иногда это делалось в складчину. Но элементы традиций – сохранялись: участники пира возлежали на ложах в венках. В этот же период появились пиры иного типа – царские и общественные. Царскому пиру была свойственна пышность, торжественность, а среди участников пира была заметна четкая иерархия. Царь приглашал на пир так называемых друзей. С конца III в. и во II в. до н. э. это уже был официальный титул, который мог дароваться придворным и тем нужным людям, которые жили далеко от дворца. «Друзей» этих было две категории: «просто друзья» и «первые друзья». «Первые друзья» получали право носить особую одежду, а когда прибывали на пир к царю, как первые друзья пили из золотой чаши. Тем самым на царских пирах, в отличие от пиров частных лиц, строго соблюдалась иерархия по чинам38.
Упадок Древней Греции начался в середине IV в. до н. э. и выразился в переоценке ценности коллективной морали, нравственного единства, потребности активного и добродетельного участия в политической жизни государства. На смену им пришла проповедь ценностей индивидуализма, всеобщей моральной свободы и равенства, политического безразличия, упадничества. Появилась поэзия, воспевающая вино, любовь, поиски удовольствий и наслаждений. Даже у жителей Спарты со временем умеренность в потреблении вина сменилась пьянством. Метаморфозы пьянства произошли и с дионисиями – поначалу достаточно строгими культовыми церемониями. Все чаще они превращались в массовые алкогольные эксцессы с пьянством и возлиянием вина на могилы. Постепенно вино проникло и в практику медицины. Правда, не так уж и много лечебных средств было в арсенале врачевателей тех времен, поэтому алкоголь (главным образом как обезболивающее средство) прочно вошел в различные рецептуры.
В результате к III в. до н. э. Греция представляла из себя разрозненные земли, объединенные лишь общей историей и наследием эллинской цивилизации. Греческие земли были формально независимы, но аристократия то и дело обращалась к римскому Сенату для решения своих проблем, чем давало повод для вмешательства в дела страны извне. В итоге Сенат пришел к выводу, что в Греции не будет ни устойчивого мира, ни порядка до тех пор, пока города не перейдут под власть Рима. В результате ряда войн Греция была окончательно превращена в римскую провинцию во главе с назначаемым Сенатом губернатором; только Афинам и Спарте (скорее не из милосердия, а отдавая дань их былому величию) было позволено сохранить свои законы. Греция исчезла из мировой политической истории на два тысячелетия.
В Древнем Риме отношение к алкоголю поначалу также было сдержанным, существовало много запретов и ограничений: запрещалось пить вино мужчинам, не достигшим 30-летнего возраста, а женщинам – всю жизнь. Каждый римлянин, заставший жену в пьяном виде, имел право убить ее. Но начиная с III в. до н. э. на римскую религию очень сильное влияние стала оказывать греческая религия. Римский пантеон никогда не оставался замкнутым, в его состав принимались иноземные божества, поскольку считалось, что включение новых богов усиливает мощь римлян. Завоевание многих заморских территорий, особенно греческих государств, познакомило римлян с и восточными богами, которые находили почитателей среди римского населения. Прибывшие в Рим и Италию рабы исповедовали свои культы, тем самым распространяя чужеземные религиозные воззрения. Либер (другое название – Дионис, Вакх) в римской мифологии был древним богом плодородия и оплодотворяющей силы, затем – виноградарства. В отличие от греческого Диониса, он имел женскую параллель – Либеру (по-латыни – «свобода»), иногда отождествлявшуюся с Ариадной. Для народа Либер был богом растительности и особенно виноделия, сравнительно недавно выделившимся из группы духов-силенов, сатиров, нимф и других, обладавших аналогичными функциями. Это обеспечило ему популярность среди сельского плебса, а затем – и городского. Для него Либер, видимо, был не только и не столько земледельческим богом, сколько богом-хранителем свободы во всех ее проявлениях, от гражданской до буйной свободы сельскохозяйственных праздников. В этих своих качествах он отчасти совпадал с греческим Дионисом, чем было вызвано их сравнительно легкое отождествление39.
Тяга к греческой культуре росла. Со всех концов греческого мира в Рим свозили картины и статуи, платили бешеные деньги за образованных греческих рабов. Римляне все больше привыкали к театру, черпая из пьес краткие афоризмы греческой философии. Рост вольнодумства сопровождался ослаблением старинных нравственных устоев. Перемены в образе жизни сильно повлияли на характер римлян. Побывав в Карфагене, Коринфе и Пергаме и насмотревшись на заморскую роскошь, люди не желали больше жить так, как их отцы; они полюбили комфорт, изысканный стол, увеселения. А здоровая крестьянская мораль и спартанские привычки прежних поколений забывались. Труд стал казаться презренным занятием, достойным лишь невольника. Знатная молодежь предавалась праздности, устраивала кутежи с музыкантами, певицами и дорогими винами, соперничала во всевозможных пороках, к которым Рим прежде питал отвращение. Исчезла хваленая римская честность: политики стали вероломными, воины помышляли больше о грабежах, купцы не брезговали ничем ради наживы.
Главным праздником Либера и Либеры в сельской местности оставалось время уборки урожая, которое праздновалось по всей Италии с большой радостью и необузданной веселостью, постоянно прерывая государственные и судебные дела. Варрон в трактате о сельском хозяйстве советует призывать 12 главных для земледельца богов и оговаривает, что это должны быть боги, наиболее важные для сельского хозяйства, среди них Церера и Либер, дающие пищу и питье. И знатные, и простые люди имели обыкновение предаваться радостям этого времени, что особенно относится к все еще очень веселой сельской местности, в которой сохранила свои права часть древних обычаев с подвешиванием на деревья осцилл (мраморных дисков, на которых были нарисованы или высечены мифологические сюжеты), маскарадами и закланием козла как традиционной жертвы отцу Либеру. Интересно, что и в Италии существовал обычай в праздник Либера на перекрестках качаться на качелях, подобный греческому обычаю, практиковавшемуся во время Малых Дионисий. Народное предание объясняло его поисками на земле и на небе исчезнувшего Латина – в римской мифологии сына Фавна (был богом-покровителем земледелия и скотоводства) и родоначальника племени латинов. Либералии, отмечавшиеся в городе, приобрели иной характер. Это был чисто городской праздник. Обычным жертвенным даром была так называемая liba, т. е. жертвенная пища из полбы, меда и масла, подносившаяся Либеру40.
В 186 г. до н. э. почти сразу после многолетнего нашествия карфагенского полководца Ганнибала на Италию культ Либера, по мнению Сената, стал угрожать римской государственности. Дело в том, что Ганнибал со своим войском находился в Италии много лет. Его имя переводится как «милость Баала». Баалом является финикийский древнейший бог, культ которого отправлялся в Карфагене и был во многом сходен с культами Либера и Дионисия. Жрецы устраивали ритуальные пьяные совокупления финикийцев без разбора полов. Мужчины оскоплялись. Дети приносились в жертву Баалу и Астарте (богине любви и власти) путем сжигания живьем. К ужасу членов Сената, поклонявшихся Юпитеру, выяснилось, что в культах Либера на территории Италии происходили противоестественные оргии и даже человеческие жертвоприношения. Было учреждено разбирательство. Им руководили консулы Спурий Постумий Альбин и Квинт Марций Филипп. Согласно рассказу древнеримского историка Тита Ливия, по результатам следствия им были сделаны следующие выводы: «Началось все с того, что в Этрурии объявился низкого происхождения грек, не сведущий ни в одной из благородных наук, с которыми познакомил нас, для совершенствования тела и духа, просвещеннейший из народов. Это был жрец и прорицатель, не из тех, кто во всеуслышание проповедует свою веру, и набирая себе платных учеников, пятнает людские умы заблуждениями, но руководитель тайных ночных обрядов. Сперва в эти таинства были посвящены лишь немногие, но затем наряду с мужчинами к ним были допущены женщины, а чтобы привлечь еще больше желающих, обряды стали сопровождать хмельными застольями. После того, как вино подогрело страсти, а ночное смешение женщин с мужчинами и подростков со взрослыми окончательно подавило чувство стыдливости, стал набирать силу всевозможный разврат, ибо каждый имел под рукой возможность удовлетворить тот порок, к которому больше всего склонялся. Но дело не ограничилось растлением женщин и благородных юношей: из этой кузницы порока стали распространяться лжесвидетельства, подделка печатей и завещаний, клеветнические доносы, оттуда же – отравления и убийства внутри семьи, не оставлявшие подчас даже останков для погребения. Много творилось подлогов, но еще больше насилий, причем последние долго удавалось скрывать, так как крики насилуемых и убиваемых, звавших на помощь, заглушались воплями и завываниями, грохотом барабанов и звоном литавр. Из Этрурии это тлетворное зло, словно заразная болезнь, просочилось и в Рим. Поначалу огромность столицы, дававшая простор и безнаказанность такого рода проделкам, помогала скрывать их, но слух о происходящем все же дошел до консула Постумия»41.
Далее Тит Ливий продолжал: «Сначала это было чисто женское таинство, куда ни один мужчина не допускался. В году было три установленных дня, когда еще засветло совершалось посвящение в Вакховы таинства, причем жрицами выбирали почтенных замужних женщин. Но когда жрицей стала Пакулла Анния, уроженка Кампаньи, то она, якобы по внушению свыше, изменила заведенный порядок, впервые допустив к обрядам мужчин и посвятив в таинства своих сыновей… С тех пор как состав вакхантов стал смешанным, а к смешению полов прибавилась и разнузданность ночных оргий, там уже нет недостатка ни в каких пороках и гнусностях. Больше мерзостей мужчины творят с мужчинами, нежели с женщинами. Тех, кто противится насилию или уклоняется от насилия над другими, закалывают как жертвенных животных. Верхом благочестия у них считается готовность к любому кощунству. Мужчины, словно безумные, во время обряда раскачиваются всем телом и выкрикивают пророчества, а замужние женщины, одетые словно вакханки, с распущенными волосами, с пылающими факелами устремляются к Тибру, окунают факелы в воду, и так как те начинены горючей серой с известью, вынимают столь же ярко горящими. Про тех, кого, привязав к театральной машине (устройство, с помощью которого спускали сверху), сбросили в подземные бездны, они говорят, что те взяты богами. Этими жертвами становятся те, кто отказался или вступить в их сообщество, или участвовать в преступлениях, или подвергаться насилию. Они составляют огромное множество, почти равное населению Рима, и среди них есть даже члены знатных фамилий, и мужчины и женщины. Последние два года стало правилом, чтобы в таинства посвящали лиц моложе двадцати лет»42.
Консул поместил обоих свидетелей в безопасное место и сообщил о происшедшем Сенату. Сенат был потрясен, однако поблагодарил консула, поручил ему вести дальнейшее расследование и пообещал свидетелям безопасность и вознаграждение. Жрецов этих таинств, будь то женщины или мужчины, было велено разыскивать не только в Риме, но по всем городкам и местам сельских ярмарок, и предавать в руки консулам. В столице был оглашен и по Италии разослан эдикт, запрещающий участникам вакханалий устраивать сходки и собрания для отправления этих таинств, а главное, привлекающий к ответственности тех, кто использовал эти собрания и обряды в безнравственных и развратных целях. Консулы поручили курульным эдилам (низшим магистратам) разыскать всех жрецов этого культа – и мужчин, и женщин и, арестовав, держать под стражей для последующего допроса. Плебейским эдилам (выбирались из лиц плебейского происхождения) было поручено следить за тем, чтобы эти обряды нигде не совершались при свете дня. Также было приказано расставить по городу караулы и не допускать в ночное время недозволенных сборищ, а для предотвращения поджогов в помощь им были приданы квинквевиры (чрезвычайные комиссии из пяти членов), ответственные за безопасность построек каждый в своем квартале.
Участников вакханалий, которые лишь приняли посвящение в таинства и повторили вслед за жрецом клятву готовности к злодеяниям и разврату, но не успели совершить ни над собой, ни над другими ни одного из проступков, к которому их эта клятва обязывала, – таких консулы оставляли под стражей. Тех же, кто обесчестил себя развратом и убийствами, запятнал лжесвидетельством, подделкой печатей, подлогом завещаний и другого рода мошенничеством, консулы предавали смерти. Казнено было около 6 тыс. человек. Женщин, осужденных на смерть, передавали их родственникам или опекунам, чтобы те казнили их приватно; если же не находилось подходящего исполнителя казни, то их казнили публично. Затем консулам было поручено уничтожить капища Либера сначала в Риме, а потом и всюду в Италии, за исключением тех, где имелся старинный алтарь или культовая статуя этого божества. Наконец, был принят сенатский указ, запрещающий впредь отправлять таинства Либера где-либо в Риме или в Италии. Кто считал для себя этот культ обязательным и не мог от него отречься, не совершив святотатственного греха, тот должен был заявить об этом городскому претору, который, в свою очередь, был обязан поставить в известность Сенат. Если Сенат в присутствии не менее сотни сенаторов разрешал такой обряд, то участвовать в священнодействиях могло не более пяти человек (не более двух мужчин и не более трех женщин) и при условии, что они не будут иметь общей кассы, руководителей священнодействий или жреца.
Культ Либера был поставлен под государственный контроль. Карфаген, поклонявшийся Баалу, был не просто разрушен, а полностью сожжен, земля вспахана и посыпана солью. Либералии сначала были запрещены, но потом возобновлены уже в измененном виде под контролем чиновников. Незаконные обряды Либера еще сохранялись в подпольном нелегальном виде долгое время в Южной Италии. Несмотря на подобные меры, Рим не смог сохранить древнее благочестие. Поэтому худшие культы были возвращены в оборот. Яркой иллюстрацией положения дел были крайние бесчинства императора Гая Юлия Цезаря Августа Германика (по прозвищу Калигула – по-латыни – «маленький сапог») (12–41 гг. н. э.), праправнука знаменитого Юлия Цезаря, первого императора Рима. Был период, когда императором стал даже жрец Баала Гелиогабал (218–222 н. э.), который официально вернул в Италию человеческие жертвоприношения. Гелиогабал был сыном Юлии Соемии, которая была замужем за сирийцем Секстом Варием Марцеллом, и ее сын носил сперва имя Авита Вария Бассиана, а затем уже принял имя Марка Аврелия Антонина, выдаваемый матерью и бабкой за незаконного сына императора Антонина Каракаллы. Сенат при нем был совершенно унижен включением в его состав массы азиатов; магистратура сделалась достоянием вольноотпущенников и слуг. Официальной римской религии был нанесен сильный удар.
По мнению христианского теолога и философа, проповедника и епископа Гиппонского Аврелия Августина (434–430 гг. н. э.), культ Либера («которому они (римляне) приписывают власть над жидкими семенами, а потому не только над жидкостями плодов, между которыми своего рода первое место занимает вино, но и над семенем животных») постепенно дошел до такой мерзости, что «на перекрестках Италии некоторые частности культа Либера совершаются с такой отвратительной свободой, что в честь его почитается срамной мужской член, – почитается не с сохранением сколько-нибудь стыдливой тайны, а с открытым и восторженным непотребством. Так, этот гнусный член, положенный в тележки, в дни праздника Либера с великим почетом вывозится сначала в деревнях на перекрестки, а затем ввозится и в город. В городке же Лавинии Либеру посвящен был целый месяц, в продолжение которого у всех на языке были похабнейшие слова, пока этот член не провозили через площадь и не прятали в своем месте. На этот почтенный член почтеннейшая из матрон должна была открыто возложить корону! Так, изволите ли видеть, надо было склонять к милости бога Либера ради урожая; так нужно было удалять язву с полей: нужно было принудить благородную женщину сделать публично такое, чего не позволила бы себе сделать в театре и блудница, если бы зрительницами были благородные женщины»43.
В культуре Древнего Рима, как и в Древней Греции, пиры занимали важное место. Правда, у римского пира были некоторые особенности, которые сами по себе не обладали знаковым содержанием, но постепенно приобретали его, становясь выражением низкой нравственной культуры, грубости и цинизма. Глубокая пропасть между богатством и бедностью стала бросаться в Риме в глаза в последнее десятилетие республики, но особенно – в эпоху империи. Это становилось очевидным, стоило только бросить взгляд на трапезу римлянина. В первые века существования великого города его обитатели обходились самыми скромными блюдами из морских продуктов. Кулинарное искусство в Риме начало развиваться лишь в III в. до н. э., но затем под влиянием оригинальной моды на пищу при расширении контактов с другими странами и обогащении граждан быстро превратилось в изощренную, расточительную кухню и привело к разгулу чревоугодия44.
Мясо использовалось свиное и козье, говядину ели только тогда, кода быков приносили в жертву богам. Охота доставляла к столу дичь, в основном зайчатину; высоко ценилась рыба, которую привозили с Сицилии, с Черного моря. Богачи имели в своих поместьях пруды, где разводили рыб ценных пород для пиршественных столов, в садках выращивали улиток и устриц. На виллах в птичниках помимо обычной домашней птицы разводили фазанов, цесарок, павлинов, которых съедали на пирах; при императоре Августе стали готовить блюда из аистов, при Тиберии дошла очередь до певчих птиц, даже до соловьев.
Вино было принадлежностью и повседневных трапез, и тем более пиров, сорта вин менялись с течением времени; их пили все. Затем появились законы, запрещавшие пить вино женщинам. Возможно, здесь решающую роль сыграли этические соображения. В провинции этот закон соблюдался, но в самом Риме женщинам разрешалось пить вино, но очень слабое, из виноградных выжимок или изюма. Но в целом пьющая женщина не только пользовалась дурной репутацией, но и подвергалась таким же наказанием в суде, как и та, что изменяла своему мужу. Как и у греков, у римлян важным было вести беседу за пиршественным столом.
В малых людских сообществах это удавалось сделать, небольшая группа легко поддерживала разговор на общую тему. Но в Риме у богатых людей, вельмож и императоров бывали пиры с огромным количеством приглашенных, и вести общую беседу было просто невозможно. Сам пир или большой парадный обед протекал в специальном пиршественном зале, который располагался в задней части дома, примыкающей к саду богатых особняков. В середине его стоял стол, с трех сторон окруженный массивными ложами, на которых, по трое на каждом, лежали пирующие. Это называлось «триклинием». В триклинии царила теснота. Тесно сидящие друг к другу люди, хотя и одетые очень легко, разогретые едой и вином постоянно потели, и чтобы не простужаться на сквозняке открытых из-за духоты дверей, укрывались специальными цветными накидками. Их меняли часто в течении пира, иногда до десяти раз45.
Теснота царила и на столе, блюд было очень много, поэтому рядом с триклинием ставились вспомогательные столики-серванты. Женщины, как и в Греции, не могли располагаться на ложах, они сидели на стульях вместе со случайными гостями. Места с правой стороны от слуги, прислуживающего за обедом, считались «высшими», с левой – «низшими», гостей высокопоставленных и тех, в ком хозяин дома был особо заинтересован, усаживали (точнее, укладывали) посередине, напротив входа, откуда приносили кушанья. На столы ставили сосуды с вином, солонку и уксусник. Рабы разносили пищу на деревянном или серебряном блюде, складывали их на специальный поставец – репозиторий. Особый раб придавал кушаньям на блюде как можно более изящный вид. Мясо подавалось иногда целым куском, и тогда особый раб – кравчий – ловко разрезал его на глазах пирующих, что требовало большой сноровки.
После омовения рук гости сами накладывали себе кушанье в тарелки, мелкие или глубокие. Человеком воспитанным, умеющим хорошо держать себя в обществе других за столом, считался тот, кто, помогая себе пальцами, пачкался меньше других. Ножи использовались для того, чтобы разрезать мясо на порции. Зато ложки были уже в ходу, и им придавали различные формы в зависимости от их предназначения. Особое внимание уделялось приборам для приготовления вин: для смешивания, подогревания или охлаждения напитков.
Римский пир состоял обычно из трех частей: закуски, собственно обеда и десерта. Закуска представляла собой кушанья, предназначенные для возбуждения аппетита. Это были яйца, салаты, капуста, артишоки, спаржа, тыква, дыни с приправой из перца и уксуса, огурцы, мальва, порей, отваренный в вине, консервы из репы, слив, грибов, трюфелей, соленой рыбы, устриц и других разносолов. При закуске пили красное вино. Главная трапеза сначала состояла из трех перемен, а затем из 7–9. Каждая перемена состояла из целого набора кушаний, зачастую совершенно несовместимых друг с другом. В начале трапезы всегда возносились молитвы богам, в подражании грекам на голову надевались венки. Ритуал требовал, чтобы после обеда водворялось глубокое молчание, которое было необходимо для того, чтобы принести жертву богам. На очаг клалась часть пищи, которая была заблаговременно отложена, а именно пироги из поджаренной муки с солью и чаша вина. После этого подавался десерт, во время которого усердно пили вино. Существовала даже обязательная норма, которую должен был выпить гость на пиру46.
Многие часы, которые длился римский пир, были богаты не только едой; он предполагал так же и культурную программу. В большинстве случаев цель ее состояла в том, чтобы развеселить сотрапезников. В зале появлялись шуты, актеры – комики или танцоры. Если хозяин не хотел тратиться на такие представления, то он сам мог организовать какие-либо развлечения – например, аукцион картин, повернутых изображением к стене, или просто играть с приглашенными в кости. Нередко были и развлечения более высокого уровня – выступления музыкантов, исполнение стихов, чтение вслух. Распоряжался всем застольем особый человек – метрдотель. Столы стали накрывать скатертями только в I в. н. э. при императоре Доминициане. Салфетки для вытирания губ и рук, часто очень красивые, выдавал сам хозяин, но нередко гости рангом пониже, особенно всякого рода прихлебатели, кормившиеся за чужим столом, дабы незаметно положить в салфетки оставшиеся после пира лакомые кусочки, приносили салфетки с собой. В периоды, когда простой народ остро чувствовал нехватку продовольствия, пиршественные столы богачей были уставлены роскошными яствами: уже в I в. н. э. многие в Риме далеко отошли от завещанных предками традиций скромности и неприхотливости в еде.
При императорах чревоугодие состоятельных римлян превысили всякую меру, и литературные памятники сохранили немало картин пиршественного разгула. Например, в середине I в. до н. э. Корнелий Лептул, добивавшись должности жреца бога Марса, устроил пышное торжество с огромным количеством кушаний и с женщинами. Описывая этот неслыханный, запомнившейся римлянам пир, писатель Макробий не мог удержаться от вопроса: можно ли было упрекать жителей города в расточительстве, если сами жрецы ведут себя подобным образом?
В эпоху империи настало время, когда все традиции и ритуалы отбрасывались, а пиры превращались в страшные оргии и обжорство, особенно при императоре Александре Севере Вителлии. Последний правил всего несколько месяцев, но прославился своим обжорством. В это время, как отмечал Гораций, хороший вкус и нравы были потеряны полностью. За столом песни были непристойными, а женщины почти неодетыми. В эпоху империи стал широко распространяться и другой сомнительный обычай: приглашенных стали делить на «важных» и «менее важных». Вторыми считались лица маловлиятельные. Угощение «менее важным» подавалось более скромное, вина – плохие, тогда как сам хозяин дома и некоторые почетные гости лакомились изысканными кушаньями и винами. Многие современники тоже стали считать это в порядке вещей: Цицерон тоже делил своих гостей приглашенных на пир по их социальной значимости47.
Особенно пренебрежительно стали со временем обходиться с клиентами. Тесные связи, существовавшие в эпоху республики между зависимыми клиентами и их патронами, основанные на взаимных услугах, постепенно ослабли. Знатные римляне перестали нуждаться в окружавших их людях – клиентах, и те постепенно превратились в простых прихлебателей, которых принимали неохотно и которые не удостаивались былого внимания. Тем не менее клиенты продолжали посещать пиры, стремясь съесть там как можно больше и как можно больше унести с собой в прихваченной из дома салфетке – тарра. Таким образом, пир в Риме, который по традиции организовывали под девизом: «проведем время вместе», на практике превращался в чванство и кичливость одних и унижение других. Не оставались в долгу и обиженные клиенты: они крали у хозяина выданные им салфетки, а иногда и другие предметы обихода.
Чревоугодие, нерациональная и неумеренная пища на пирах осуждались римскими писателями и давали возможность сочинения сатиры на римские нравы. Ни предостережения врачей, ни упреки философов не могли отучить богатых римлян от злоупотребления едой, губительного по своим последствиям. То, что в прежние времена считалось на пирах роскошным обедом, теперь, в первые века нашей эры, считалось убогим, нищенским. Сенека стыдит сограждан за «обжорство на пирах, бездонное и ненасытное», и убеждает их в том, что нападавшие на них болезни являются следствием чревоугодия и пьянства. Причем на закате римской империи женщины уже состязались с мужчинами в пьянстве. Римские врачи взяли на вооружение пришедшую из Греции новую науку о рациональном питании – диетологию. Но достучаться до разума пирующих им не удалось. Более того, до нас дошли сведения об известном человеке времен императоров Августа и Тиберия – Марке Гавии Апиции: когда в преклонном возрасте здоровье не позволяло ему пользоваться роскошью изощренной кухни, Марк Гавий счел такую жизнь не нужной и покончил с собой. Государство при помощи законов вынуждено было ограничить расходы на пиры и торжественные приемы, уменьшить склонность граждан к расточительству. Диктатор Сулла вынужден был издать закон, по которому на пиры в календарные праздники каждого месяца, а также в дни публичных зрелищ дозволялось тратить не более 300 сестерциев, а в остальные – не более 30.