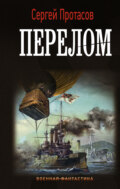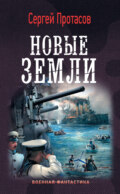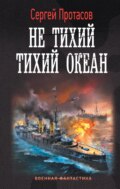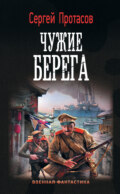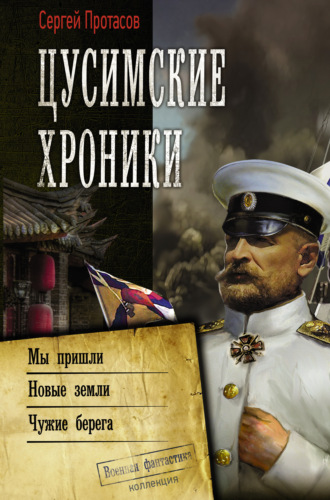
Сергей Протасов
Цусимские хроники: Мы пришли. Новые земли. Чужие берега
Из шести выпущенных торпед в цель попала лишь одна. В 14:12 чуть впереди носовой башни флагмана 2-го японского боевого отряда встал столб воды, выше мостика. Почти совсем остановившийся крейсер начал быстро садиться носом и крениться вправо. Вскоре зыбь начала захлестывать в орудийные порты нижних казематов, которые так и не успели закрыть. Его тут же перестали обстреливать, перенеся огонь на «Ниссин», позволив экипажу покинуть обреченный корабль. Через три минуты его крен был уже 15°, а нос ушел под воду до канатных клюзов. Вода поднялась уже выше батарейной палубы с правого борта, и ни у кого не было сомнений, что он доживает свои последние минуты.
«Адзума» обошел его справа, сбросив несколько шлюпок и койки, ведя огонь по русским броненосцам и получая снаряды в ответ. После чего добавил хода, чтобы заполнить образовавшийся промежуток в колонне.
Развившие максимальный ход три концевых броненосных крейсера японского 2-го отряда также обогнали своего тонущего собрата. Идя на 18 узлах, они быстро удалялись от наших второго и третьего броненосных отрядов. Старые корабли, не жалея людей и механизмов, выжимали просто фантастические для них 14,5 узлов, но японцы все равно шли быстрее, и в 14:18 они задробили стрельбу, так как из-за возросшей дистанции и ухудшившейся видимости невозможно было различать знаки падения своих снарядов и корректировать огонь. От японских крейсеров остались видны лишь верхушки мачт, и те скоро скрылись в тумане и дыму.
В 14:22, когда фронт старых броненосцев обогнал «Идзумо», он резко повалился на правый борт и совершенно лег на бок, продолжая плавать в таком состоянии еще какое-то время. При этом дым из его труб стелился по поверхности воды, не поднимаясь вверх. Весь левый борт был заполнен спасающимися людьми. Некоторые бросались в воду, стараясь скорее отплыть от своего корабля. Через несколько минут крейсер перевернулся вверх килем и быстро нырнул под воду носом вперед, оставив после себя лишь черное дымное облако, плавающих людей и обломки[37].
Начиная с 14:18 против всего, пусть и поредевшего, японского флота остался лишь первый броненосный отряд, уже потерявший в самом начале боя один броненосец, да два отряда крейсеров. Причем броненосные крейсера были на грани потери боеспособности. Их высокие борта были покрыты множеством рваных дыр от тяжелых японских фугасов. Тысячи больших и маленьких осколочных пробоин испятнали всю обшивку. Большая часть артиллерии была выведена из строя, полыхали большие пожары.
«Громобой» имел две подводные пробоины позади броневого пояса от среднекалиберных снарядов. Затопления удалось локализовать своевременными и четкими действиями дивизиона борьбы за живучесть. Поврежденные горловины люков заделали деревянными заглушками и подкрепили упорами. Объем затоплений оказался небольшим и ограничился скосами бронепалубы. Возникший крен спрямили контрзатоплениями. Японцы, похоже, целенаправленно били в ватерлинию, поэтому часть снарядов ложилась с недолетами, обрушивая на корабль массы воды и осколков. Была распорота первая труба. Из-за повреждения трубок осколками этого снаряда пришлось вывести из действия четыре котла в первой кочегарке. Обе кормовые мачты были сбиты и рухнули за борт. От прямого попадания тяжелого снаряда раскололась броневая плита пояса, но удержалась на остатках болтов, хотя угольная яма за ней была быстро затоплена.
Снова пришлось спрямлять корабль, затапливая отсеки правого борта. Через осколочные пробоины на ватерлинии в носу начинало заливать помещения над бронепалубой. Пробоин было так много, что все просто не успевали заделывать, к тому же волны, бившие на полном ходу в дырявый борт, выбивали часть заделок, и все приходилось начинать сначала. Водоотливные насосы работали на пределе мощности, откачивая за борт черную от угольной пыли и копоти воду. Но крейсер продолжал бой, держась исключительно благодаря своим большим размерам.
«Россия», имевшая более серьезное бронирование по ватерлинии, чувствовала себя несколько лучше. К тому же её оппонент был постарше и помедлительней[38]. Из подводных повреждений пока были лишь две 127-миллиметровые плиты, вдавленные внутрь под кормовым шестидюймовым казематом, с разошедшимся заклепочным швом под ними. Образовавшуюся течь устранили довольно быстро, проконопатив щель паклей с цементом. Имелось несколько осколочных пробоин в подводной части ниже броневого пояса от разорвавшихся близкими недолетами снарядов, но их уже нашли и пытались заделать, а с поступлением воды пока справлялись насосы.
Зато артиллерия, имевшая гораздо худшую защиту, была выбита на три четверти на стреляющем борту. Из главного калибра уцелела лишь передняя правая 203-миллиметровая пушка нестреляющего борта. Трехдюймовки левого борта были выбиты полностью.
Бой уже утратил свою первоначальную динамику. Ослабшие и избитые корабли обоих флотов просто продолжали идти на параллельных курсах, вгоняя друг в друга залпы с минимальной дистанции. Русская эскадра сейчас растянулась на пять с лишним миль и состояла из трех отдельных частей, с более чем полуторамильным промежутком между броненосными отрядами. Крейсера вырвались вперед, почти на милю обогнав «Суворовых», причем легкие крейсера серьезно оторвались от броненосных, сбавивших ход сначала из тактических соображений, а после уже из-за накопившихся повреждений.
Старые русские корабли безнадежно отставали в этой суматошной гонке и не имели возможности поддержать далеко ушедшие вперед современные броненосцы и крейсера. Ветер сносил на северо-восток клубы дыма, смешавшиеся с туманом, и с «Николая I» уже не видели не только японцев, но даже и свой первый отряд. Однако они упрямо шли вперед, выжимая все из машин и котлов, постоянно слыша впереди справа грохот выстрелов, надеясь хотя бы нагнать и утопить подбитые японские корабли.
Небогатов приказал 3-му броненосному отряду и «князьям» «идти вперед, по способности, но сохранять строй в отряде». «Адмиралы», уже и так вырвавшиеся вперед в азарте погони, густо дымя из труб, еще добавили хода. Казалось странным, что от них совсем не отставал ветеран – «Нахимов», воинственно развернувший в нос обе бортовые башни и уверенно державший более 15 узлов на лаге, несмотря на крутую зыбь.
Ближе к половине третьего даже наши новые броненосцы начали сбавлять ход из-за повреждений дымовых труб и потекших трубок в котлах на двух головных кораблях, а на «Бородино» начал греться опорный подшипник в правой машине, но механики держали обороты, охлаждая его маслом. С падением скорости первого броненосного отряда, расстояние между японскими кораблями и «Суворовыми» стало сокращаться слишком медленно. К тому же японцы, оторвавшись от Небогатова и Энквиста, начали снова перестраиваться в кильватерную колонну, сомкнув интервалы между броненосными крейсерами и выдвигая их вправо. Едва вставая в колонну, они тут же вступали в бой, обрушивая свою артиллерию, какую удавалось навести, на едва державшиеся крейсера Иессена, стреляя по броненосцам лишь из того, что оставалось. Еще одним тревожным моментом было то, что японские залпы заметно участились. Судя по поднимаемым сигналам, флагманским кораблем у противника теперь стал крейсер «Ниссин».
Крейсера Уриу, получив какой-то сигнал с нового флагмана, начали сближаться с Добротворским, пытаясь, видимо, выйти в торпедную атаку на наши броненосные крейсера, уже не имевшие возможности их отогнать.
Видя это, русские бронепалубники чуть довернули на них, имитируя контратаку и открыв порты торпедных аппаратов на «Жемчуге» и «Изумруде». Не зная, что эти порты пусты, японцы прекратили сближение и легли на первоначальный курс, но Добротворский курс менять не стал, теперь уже сам начав пугать японские броненосцы своими крейсерами с открытыми торпедными портами.
Почти сразу «Фудзи» перенавел на него свои оставшиеся шести-дюймовки, по-прежнему вцепившись в «Россию» главным калибром. Однако это все почти не меняло тяжелого положения наших броненосных крейсеров.
Понимая шаткость сложившейся ситуации, в 14:29 Рожественский приказал дать сигнал отходить вправо. С «Суворова» выстрелили зеленой ракетой, завидев которую, все русские отряды, имевшие контакт с противником, почти одновременно начали плавно отворачивать от японской колонны. Уже на развороте с «Бородино» дали прощальный полный бортовой залп по «Фудзи» с 25 кабельтовых, кучно легший вокруг броненосца. При этом наблюдалось не менее трех попаданий. В том числе 305-миллиметровым снарядом в боковую плиту кормовой башни, развернутой в тот момент на правый борт, на наши броненосные крейсера.
Почти сразу из неё поднялся столб желто-белого пламени, как картонку скинувший в море броневую крышу, а спустя мгновение чудовищный взрыв буквально вывернул наизнанку всю корму корабля, разбросав в стороны куски корпуса и брони. Броненосец исчез в огромном дымном облаке, с которым смешались клубы пара из раздавленных взрывной волной котлов.
Долгие две секунды на русских кораблях стояла звенящая тишина, а потом, как по команде, восторженное «ура-а-а!» вырвалось из сотен глоток одновременно на всех кораблях эскадры. Казалось, это «ура», раскатившееся над волнами, должны были слышать даже японцы.
Глядя на расползающееся грибовидное облако на месте гибели «Фудзи», Рожественский выдохнул с облегчением: «С нами сегодня бог!» И трижды истово перекрестился.
Спустя несколько секунд приказал твердым голосом: «Отбой отхода. Общая атака!» Мельком взглянув на схему маневрирования на стене рубки, добавил: «Генеральный курс вест, крейсерам приблизиться к броненосцам! Держать обороты любой ценой!»
Почти развернувшиеся на восток русские корабли, заметив белую и красную ракеты, взмывшие в небо с «Князя Суворова», резко переложили «лево руля», лихо кренясь на крутой циркуляции, и ринулись в новую атаку на начавший отворачивать влево японский флот. Чтобы подойти ближе к своим броненосцам, крейсера легли на зюйд-зюйд-вест, встав к противнику правым бортом и открыв ураганный огонь из всех стволов. Попутная зыбь сейчас била крейсерам в поврежденный борт, что сильно увеличило давление на вставленные в пробоины заделки, и скорость затопления начала расти. Но к этому времени часть дыр удалось более-менее надежно заглушить, а с остальными пока справлялись насосы.
К неожиданно мощному огню крейсеров добавились носовые залпы броненосцев. Причем при таком количестве целей с каждого броненосца могли действовать по две шестидюймовые башни с каждого борта и носовая двенадцатидюймовая. Снова сказалось преимущество башенной артиллерии «Суворовых», позволившее сосредоточить столь мощный огонь при лобовой атаке. Шквал русских снарядов обрушился на избитые японские корабли, и они, не выдержав натиска, побежали.
Ни о каком строе никто уже не задумывался. Корабли просто давали самый полный ход, спеша поскорее выйти из-под обстрела, держась западных и юго-западных курсов. Но в этот момент бывшие замыкающими в японской колонне «Ивате» и «Якумо» уперлись в третий русский броненосный отряд, вывалившийся слева из грязной дымки всего в 12–16 кабельтовых и начавший подрезать их курс. Почти одновременно эти два крейсера, а затем и все остальные были замечены с кораблей Небогатова, немедленно развернувшего свои броненосцы на вест.
Продолжая гнать свои отряды прежним курсом, Небогатов не видел сигнала об отходе из-за дыма. Так же как не видел и приказа о начале третьей атаки. И благодаря всему этому оказался в нужное время в нужном месте. Выйдя из тумана и дыма в полосу нормальной видимости, «антиквары» оказались прямо на фланге отступающего японского флота и имели перед собой множество створившихся целей. Еще в тумане, обнаружив японцев с артиллерийских постов на мачтах и начав разворачиваться к ним правым бортом, они открыли кинжальный огонь с короткой дистанции.
Противник был к ним своим непострадавшим бортом и имел подавляющее превосходство над старыми кораблями по артиллерии. Зато у Небогатова и Энквиста были отдохнувшие после первой фазы боя корабли, прикрытые броней, и больше тяжелых орудий, а пистолетная дистанция стрельбы идеально подходила для наших бронебойных снарядов. К тому же японцы окончательно сломали свой строй и мешали стрелять друг другу.
Первый же залп «Николая I», прогремевший почти одновременно с залпом «Наварина», лег вдоль борта «Ивате», оказавшегося, несмотря на резкий отворот вправо, всего в 8 кабельтовых. Спустя секунду туда же вошли снаряды с «Наварина». На крейсере взорвался кормовой каземат, и из образовавшейся огромной пробоины показалось пламя мощного пожара, закрывшего дымом всю корму[39]. А откуда-то из-за этого дыма, видимо, из машинного отделения поднялся столб пара. Вскоре пар, стравливаемый из котлов, повалил также и из первой трубы, а затем и из второй. Крейсер начал заметно крениться на левый борт и совсем остановился.
«Сисой Великий», соблазнившись близостью «Ивате», также всадил в него свой первый залп, всего через 20 секунд, после первых двух, но, видя его катастрофическое положение, перенес огонь на «Якумо». Для централизованного распределения целей времени не было, поэтому все корабли стреляли в того, кто был ближе всего. Начав охват левого фланга японского флота, броненосцы береговой обороны и «Донской» с «Мономахом» лупили в левую скулу «Якумо» и «Токивы» из своих скорострелок бронебойными снарядами, поддерживаемые залпами десятидюймовых башен. Им помогал и «Нахимов», буквально тонувший в пороховом дыму после каждого залпа своего главного калибра, что, впрочем, никак не отражалось на убийственной точности огня. А с кормы японцев дожимали «Суворовы» и крейсера.
Не выдержав столь стремительного и мощного флангового удара, японский строй окончательно развалился. Сохранившие высокий ход корабли подрезали курс друг другу, шарахаясь от русских снарядов. Начавший было набирать мощь, ответный огонь японцев был полностью дезорганизован и ослаб настолько, что почти не наносил русским кораблям повреждений, в то время как наш перекрестный и прицельный обстрел был очень эффективным.
Спустя десять минут в клубах дыма и тумана можно было разглядеть лишь замерший неподвижно, горящий и оседающий в воду «Ива-те», имевший крен на левый борт почти в 20°, развороченную взрывом боезапаса и перекосившуюся носовую башню и объятую пламенем корму. Вода уже вливалась в огромную пробоину на месте кормового двухъярусного каземата, и крейсер начал быстро погружаться кормой, все больше заваливаясь влево. В 15:04 он перевернулся вверх килем и затонул.
В полутора милях к северо-западу от него тонул «Ниссин». Имевшийся вначале крен вправо выровнялся, но корма быстро уходила под воду. Когда стихла стрельба, волны захлестывали уже палубу юта и кормовые орудийные порты батарейной палубы. Крейсер не имел хода. Из задней трубы, вперемешку с дымом, валил пар, в батарее левого борта полыхал огромный пожар, и там рвались снаряды. Сбитая мачта рухнула в корму, левее трубы, придавив палубную шестидюймовку, командирский мостик был полностью разрушен и также горел.
Остальные корабли японского флота растаяли в грязной дымке. Их не стали преследовать, занявшись неотложным ремонтом. Русская эскадра легла в дрейф, собравшись вместе между тонущими японцами. Миноносцы, способные к самостоятельному маневрированию, занялись спасением экипажей гибнущих крейсеров.
Однако пострадавший тяжелее всех «Бравый» сам нуждался в помощи. Подошедший к нему «Громкий» пытался наладить откачку воды своими помпами, но ничего не получалось, мешала зыбь. Перебравшиеся на «Бравый» матросы помогали укреплять переборки, работали на ручных помпах, но повреждения по корпусу были слишком серьезными. Эсминец продолжал тонуть на виду у всей эскадры. К трем часам волны уже перекатывались через его палубу, и он продолжал погружаться. В 15:07 «Громкий» снял с него людей, и через четыре минуты миноносец затонул. Из его экипажа погибли два офицера и пять матросов. Еще двенадцать человек были ранены.
Глава 3
Как только стихла стрельба, по распоряжению командующего, с «Николая I» по радио вызвали крейсер «Урал», отставший от эскадры с началом боя. Так как его командир имел приказ «держаться вне перелетов и оказывать помощь поврежденным кораблям, покинувшим линию», крейсер первым оказался рядом с вышедшим из боя «Ослябей».
На вызов «Урал» отозвался сразу же, доложив, что находится рядом с «Ослябей». На поврежденном броненосце удалось подвести пластырь под опасную пробоину у носовой башни, что уменьшило поступление воды. Но сильная деформация обшивки не позволяла плотно перекрыть брешь и осушить затопленные отсеки, несмотря на работу всех водоотливных средств. К счастью, удалось остановить дальнейшую прибыль воды и остальные пробоины так и остались надводными, а множество осколочных дыр в небронированных частях борта заделывали деревянными клиньями и паклей. Сейчас оба корабля на малом ходу двигались к эскадре.
Следом вызвали госпитальные суда, оставленные на месте боя с разведывательными силами для вылавливания из воды остатков экипажей японских крейсеров. «Белый Орел» и Кострома», отозвавшись, назвали свои координаты в 20 милях к югу от места сражения. Им было приказано подойти к эскадре и избавить корабли от пленных японцев, а также, по возможности, принять раненых.
После предварительной переклички выяснилось, что из первого крейсерского отряда тяжелые повреждения получила лишь «Светлана», имевшая пробоину в носу, через которую начало затапливать носовые погреба и отделение динамо-машин. Но сейчас пробоину закрыли пластырем и поступление воды приостановили. Отсек динамо-машин уже полностью осушили, его оборудование не пострадало, а погреб пока остается в полузатопленном состоянии из-за выхода из строя помп, забитых угольной крошкой. Остальные крейсера имели повреждения надстроек и надводного борта, но не опасные. Артиллерия тоже почти не пострадала. А на «Изумруде» даже уцелела рация. После получения доклада с легких крейсеров их тут же отправили в разведку в секторе от южных до западных румбов, куда скрылись японцы, на глубину до 20 миль. Начать предписывалось с юга, для встречи плавучих госпиталей.
Крейсера ушли в разведку в 15:10. К этому времени ветер уже разогнал клочья дыма, и видимость временами достигала 70 кабельтовых, порой ухудшаясь до 20–30. Туман и мгла по-прежнему заволакивали море неровными полосами. Через пять минут в дозор на север и восток на удаление 4–5 миль от эскадры были отправлены «Безупречный» и «Громкий», а на запад – еще два миноносца.
Оградив себя таким образом от возможных неожиданностей, Российский тихоокеанский флот занялся исправлением наиболее опасных повреждений. Еще только смолкли последние залпы, над морем сразу разнеслись звуки работы десятков топоров и кувалд, подгонявших и укреплявших в пробоинах вблизи ватерлинии деревянные щиты, обтянутые парусиной, приготовленные еще на переходе на всех кораблях и хранившиеся под броней. Любыми подручными средствами – от деревянных чепиков до матросских коек и матрасов – заделывались осколочные пробоины, наиболее близкие к воде. Всем чем можно откачивали воду из затопленных отсеков.
Выбитая японскими снарядами изо всех щелей угольная пыль осела на потных лицах матросов и офицеров, сделав их черными, как при угольном аврале. Смешавшись с водой от всплесков разрывов снарядов и из пожарных рукавов, при тушении пожаров, покрыла грязной липкой коркой все палубы и обломки переборок, трапов и прочих конструкций, разбитых и разбросанных всюду. На эту грязь сейчас просто не обращали внимания, наспех обтирая рукавами чумазые лица, работая без перекуров. Никто не знал, сколько продлится эта передышка, и люди спешили скорее заткнуть опасные дыры.
Минеры торопились успеть проложить временные линии связи там, где оказались нарушены основные и резервные. Артиллеристы ремонтировали поврежденные орудия и противоосколочную защиту. В недрах всех пострадавших в бою кораблей стоял невообразимый грохот авральных ремонтных работ.
Развернувшись целым бортом к катившимся с норда волнам, застопорив ход, русская эскадра активно обменивалась сигналами.
Командиры докладывали о потерях и состоянии своих кораблей флагманам, те докладывали о степени боеспособности своих отрядов командующему и получали от него и его штаба распоряжения и инструкции и доводили их до командиров кораблей. Штаб анализировал полученную информацию и решал, что делать дальше.
Преследование отступающего японского флота немедленно было невозможно, так как держать достаточно высокую скорость на данный момент могли лишь «Князь Суворов», весь избитый и все еще горящий, однако сохранивший большую часть артиллерии, и «Орел», пострадавший сравнительно мало. На «Бородино» требовалось срочно остановить правую машину для кратковременного ремонта, «Александр III» имел очень большие разрушения надводного борта в носу и не мог идти при такой волне большим ходом. Броненосные крейсера также не могли держать большого хода из-за повреждений в трубах и котлах. Кроме того, они оба имели пробоины у самой ватерлинии, в которые на скорости начинали захлестывать волны, что в сочетании с почти полным разрушением обшивки левого борта выше бронепояса и увеличившейся от затоплений осадкой могло привести к катастрофе. Можно было уверенно сказать, что они оба едва держатся на плаву. К тому же вести эффективный огонь с них можно было только правым бортом. Скорости второго и третьего броненосных отрядов для погони было явно недостаточно, к тому же их механизмам нужна была передышка.
Бой с самого начала пошел совершенно не так, как планировалось, но основные боевые приемы, отработанные на учениях, оказались очень кстати и позволили свести на нет огромное превосходство японцев в артиллерии. Полностью оправдала себя очень агрессивная тактика, к которой оказался совершенно не готов противник, а многократно обкатанные в штабных играх перестроения и маневры эскадр позволили не терять время в бою на анализ ситуации, лишь выбирая из уже проработанных вариантов тот, что максимально подходил на данный момент. Благодаря этому все действия наших отрядов были быстрыми и четкими, совершенно неожиданными для японцев, и позволили вести бой так, как было нужно нам. В конечном итоге противник сломал свой строй и утратил возможность оказывать организованное сопротивление. Но к этому времени наша эскадра уже не имела возможности его добить, и контакт был потерян.
Исходя из этого, на данный момент первоочередной задачей было признано незамедлительно провести поиск поврежденных кораблей противника и по возможности их догнать и прикончить. Но при этом обязательным условием является отрыв от японцев до наступления темноты, чтобы избежать ночных минных атак.
О серьезности нанесенного противнику урона говорить было сложно. Из главных сил японского флота достоверно потоплены были один броненосец и три броненосных крейсера. Треть от его состава. Но два вышедших из боя броненосца сохранили способность вести ответный огонь до последнего момента, когда их видели, несмотря на множество попаданий, которые они получили. «Микаса» и «Сикисима» на двоих впитали в себя почти половину штатного боекомплекта первого броненосного отряда и сохранили ход, управляемость и часть артиллерии, несмотря на минимальную дистанцию, с которой по ним стреляли. Поэтому нельзя быть уверенным в том, что они выведены из строя. «Асахи» и остальные броненосные крейсера смогли достаточно быстро оторваться от нашей эскадры, следовательно, их повреждения еще меньше.
В то же время с нашей стороны был потоплен один миноносец и еще два имели очень тяжелые повреждения. Безусловно, потеряли боеспособность «Россия» и «Громобой».
Хотя оба эти крейсера имеют небольшие затопления, но чтобы гарантированно пустить их ко дну, достаточно одной подводной пробоины или просто продолжать идти большим ходом, когда волны захлестывали в наиболее низкие дыры. Практически весь надводный борт выше поясной брони разбит множеством попаданий. Только двенадцатидюймовых набирается около двадцати в каждого. Причем все в один левый борт. Серьезно повреждены трубы, часть котлов выведена из строя. Они теперь не в состоянии держать более 10–12 узлов. Вся верхняя палуба завалена обломками надстроек. Пожары до сих пор не удается потушить, поэтому в некоторые помещения пока нет доступа и точный объем повреждений еще не известен. Вне всякого сомнения, если бы крейсера находились под таким огнем еще хотя бы десять – пятнадцать минут, их было бы уже не спасти.
Очень большие разрушения были на «Князе Суворове». Но боеспособности он не потерял. Сохранилась в целости вся поясная броня, несмотря на множество попаданий в неё. Через отверстия ослабших броневых болтов были затоплены несколько мелких отсеков за броней, но вызванный этим небольшой крен был компенсирован контрзатоплениями. Осадка увеличилась незначительно. Пожары были взяты под контроль и скоро будут ликвидированы. Котлы и машины не пострадали.
Правда, в начале третьего часа дня, когда дым от пожаров через вентиляцию начало затягивать в котельные и машинные отделения, там было очень тяжело работать. Пришлось даже на некоторое время вывести людей из кормового отделения носовой кочегарки, выключив принудительную вентиляцию, но давление пара постоянно держалось на максимуме. Защитные брустверы вокруг дымовых труб устояли, хотя и были смяты в двух местах. Несмотря на множество осколочных пробоин в трубах, частично уже заделанных, тяга почти не упала и броненосец, по уверениям старшего механика, гарантированно может держать 16 узлов хода.
Тяжелым снарядом, влетевшим в амбразуру кормового каземата, были выведены из строя оба 75-миллиметровых орудия левого борта, стоявшие в нем. Весь расчет каземата был выбит осколками и взрывной волной. Часть осколков этого снаряда попала также в каземат правого борта, разбив беседки с трехдюймовыми снарядами и вызвав возгорание пороха из разбитых гильз. С этим пожаром быстро справились, восстановив орудия, однако орудия левого борта восстановлению уже не подлежали.
Легкая обшивка надводного борта сплошь покрылась осколочными пробоинами, а во многих местах были большие дыры от снарядов, местами соединявшиеся друг с другом и покрывающие одна другую, от чего не удавалось точно определить количество попаданий. Носовая шестидюймовая башня могла действовать только на ручном приводе, в средней башне оборвало ствол левого орудия примерно на половине длины. Кормовая башня главного калибра получила не менее четырех попаданий тяжелыми снарядами. Был разбит механизм вертикального наведения её правого орудия, а сама башня заклинена из-за того, что броневую плиту её барбета с левого борта силой взрыва вдавило внутрь и зажало опорные катки, повредив станок левого орудия. Остальная башенная артиллерия уцелела, несмотря на несколько прямых попаданий в башни. Было зафиксировано несколько отказов электропривода наводки орудий главного калибра, но во всех случаях башни удавалось быстро ввести в строй. (Подобные отказы были на всех «Суворовых» по причине ненадежности контактов электроцепей, но окончательно исправить это было возможно лишь в базе.) Зато из восьми палубных трехдюймовок осталась лишь половина: две на левом борту и столько же на правом.
Шедший вторым в строю «Александр III» также получил множество попаданий и имел большие разрушения в легкой обшивке борта и надстройках. Мачты и трубы устояли, хотя грот-мачта была перебита между верхней палубой и палубой мостика. Прямым попаданием 305-миллиметрового снаряда была разбита средняя башня левого борта. Попадание пришлось в лобовую плиту, чуть выше мамеринца. Взрывной волной башню перекосило на катках, сдвинуло все её броневые плиты и задрало крышу, сорвав башенку наводчика и все остальное, что выступало за плоскость крыши. Станок правого орудия в самой башне был разбит, а весь расчет переранен.
«Еще один такой же снаряд угодил в передний край брони кормового каземата, но броня выдержала, лишь оплавившись. В каземате разбросало беседки со снарядами, но они не взорвались. Все, что было на стене, оказалось сброшенным на палубу, но орудия и люди не пострадали и каземат продолжал действовать. Взрывной волной порвало обшивку борта перед казематом и разрушило офицерскую кают-компанию, через которую осуществлялась подача боеприпасов в кормовые казематы. Матроса, тащившего беседки со снарядами, завалило мешками с углем, которыми был прикрыт коридор подачи, но сам он не пострадал, только не смог вытащить из-под угля свои сапоги и снаряды».
Наиболее опасные повреждения нанесли два или три тяжелых фугаса, угодивших почти в одно и то же место в самом носу. Силой их взрывов вырвало часть форштевня и огромный кусок обшивки над вторым бронепоясом, но броня снова устояла. Незначительное расхождение бронеплит даже не нарушило общей герметичности обшивки. Была полностью разрушена кают-компания кондукторов, а в наружной обшивке образовалась пробоина, площадью около восьми квадратных метров, находящаяся всего в двух с небольшим метрах над поверхностью воды и захлестывавшаяся наиболее высокими волнами. Дивизион борьбы за живучесть немедленно приступил к восстановлению герметичности поперечной водонепроницаемой переборки на 32-м шпангоуте, пробитой осколками. В кормовые отсеки было принято около 500 тонн воды, чтобы задрать нос повыше.
Остальные попадания сильно повредили надстройки и надводный борт, но на боеспособности никак не отразились. Так же как и на флагмане, броня ни разу не была пробита и подводная часть не имела повреждений. Силовая установка уцелела, и корабль сохранил возможность держать полный ход. Не имевшие никакой защиты, 75-миллиметровые пушки на надстройках были выбиты на треть. Как и на всех русских кораблях, получивших сегодня тяжелые повреждения, не раз вспомнили добрым словом максимальную разгрузку кораблей, позволившую поднять над водой лишние сантиметры брони.
Однако с такими «распахнутыми воротами» в носу броненосец не мог больше участвовать в серьезном бою. Даже просто морской переход был серьезным риском. Любая большая волна, ударившая в нос, могла отправить его на дно.
Находившиеся под огнем сравнительно недолго «Бородино» и «Орел» не успели получить серьезных повреждений. Несколько возникших на них возгораний были быстро потушены. Артиллерия и механизмы не пострадали. Разбитые палубные трехдюймовки можно было не принимать в расчет.
На остальных кораблях также имелись лишь незначительные повреждения от кратковременного и неорганизованного японского огня, и они все полностью сохранили боеспособность.