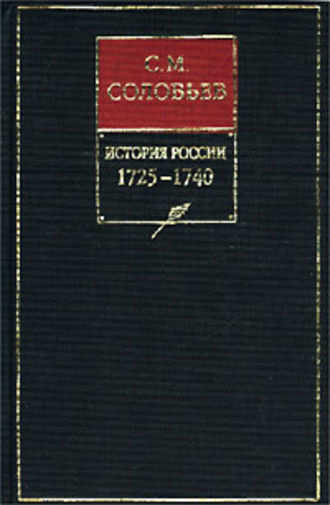
Сергей Соловьев
История России с древнейших времен. Книга X. 1725–1740
Распорядившись относительно гарнизона и укрепления Ясс, Миних 10 сентября отправился к армии, взявши с собою молдавские чины, как духовные, так и светские. Армия уже перешла через Прут на буджакскую, или бендерскую, сторону; по прибытии своем к ней Миних 12 сентября отправил торжество покорения Молдавского княжества императрице всероссийской: «Молдавские статы оказывали немалую радость, видя такую славную христианскую армию, которая, как они говорили, к их избавлению пришла». Обедню в церковном намете служил молдавский митрополит. 13 числа армия выступила в поход, и молдавские чины возвратились в Яссы, обещаясь прислать депутатов в Петербург. Армия имела в виду «приключить чувственный вред буджакским татарам и прикрыть Яссы».
Но в тот самый день, когда Миних торжествовал покорение Молдавии, он получил «нечаянное и печальное» известие о заключении австрийцами мира с турками, «мира стыдного и весьма предосудительного», по выражению Миниха. «Бог судья римско-цесарскому двору за таковой учиненный к стороне вашего величества нечаянный злой поступок и за стыд, который из того всему христианскому оружию последует, и я о том поныне в такой печали нахожусь, что не могу понять, как тесный союзник таковым образом поступить мог». Несмотря на то, Миних думал о продолжении войны, о новых завоеваниях: «Всеподданнейше прошу во всемилостивейшую консидерацию принять, что с начала этой войны турки и татары ни малейшего над нами авантажа не имели и вперед иметь не будут: не только здешние народы с неизреченною радостию желают покорения под вашу державу, но и сербский патриарх Арсений слезно просит покровительства вашего величества, принося жалобу на слабость цесарскую, что всю их землю под иго варварское отдает».
Но в Петербурге торопились миром. В начале 1739 года Кантемир доносил, что у него была конференция с цесарским послом в Париже князем Лихтенштейном: читали вместе депеши Вильнева и согласно признали, что в них видна излишняя склонность к защите турецких интересов, но заключили конференцию тем, чтоб французским министрам не подавать ни малейшего вида насчет этого и довольствоваться только изъяснением, что императрица никогда не оставит своего союзника и не должно надеяться отдельного мира ни с какой стороны; что укрепления Очакова и Кинбурна велено разорить не по нужде, а для большего показания умеренности со стороны России; что Вильнев не должен ожидать нового плана мирных переговоров, ибо разорение крепостей не может повести ни к какому затруднению, если только Порта имеет прямую склонность к миру; императрица, увидав по опыту, что, чем больше обнаруживает умеренности, тем больше становится гордость неверных, никаких новых предложений делать Порте не намерена. Дипломаты решили ограничиться этим, ибо в противном случае при обнаружении подозрения боялись, что французское министерство перестанет сообщать им депеши Вильнева или по крайней мере станет утаивать все подозрительные места. Остерман заметил на донесении: «Сие апробуется, ибо показанием хотя малейшего сумнения подлинно такие несходства произойти могут». Флери и Амелот продолжали уверять Кантемира в ревности своей к интересам союзных императорских дворов; Флери просил его удостоверить императрицу, что никогда она не найдет ни одного его слова лукавым или ложным. В апреле Кантемир доносил, что медленность в отправке указов Вильневу при обстоятельствах, в которых утрата времени чрезвычайно вредна, подает новую причину полагать, что о скорейшем заключении мира здесь немного заботятся, хотя на словах повседневно о противном удостоверяют. «Я и цесарские министры прилагаем всевозможное старание проникнуть в виды кардинала, но до сих пор в этом удачи иметь не можем. В таких сомнительных обстоятельствах я по крайней возможности умеряю свои слова, чтоб не подать никакого повода к неудовольствию, а если случай потребует сильнейших представлений, буду употреблять цесарских министров». Так, посол не сказал ни слова ни кардиналу, ни статс-секретарям, когда узнал, что из Бреста отправляется в Балтийское море французская эскадра. Потом Кантемир жаловался на отказ французских министров сообщать ему депеши Вильнева. «Благосклонность кардинала к цесарю, – писал Кантемир, – ненадежна, да если б кардинал и действительно желал тесной дружбы между своим королем и цесарем, то кардинал уже стар, а всякий другой министр, его преемник, станет держаться старых правил, основанием которых было унижение австрийского дома. Можно почти смело сказать, что здешний двор охотно б вступил с Россиею в тесные обязательства, если б имел надежду разлучить ее с цесарем».
Между тем происходили и непосредственные сношения с Вильневым. В начале года Остерман писал к нему, что из письма его, Остермана, к кардиналу Флери он, Вильнев, может усмотреть, что императрица отдает полную справедливость ревности и необыкновенному благоразумию, с какими он поступает в таком трудном деле; что императрица откровенно сознается, сколько она ему обязана за это, и хотя неутомимые заботы маркиза до сих пор не имели желанного результата, однако ее величество надеется, что провидение даст ему средства счастливо окончить великое дело. Турки не хотят отдать Азова, выставляя опасение, что Россия заведет там флот и будет угрожать им Порте, но это химера, ибо русский флот, некогда там находившийся, слишком дорого стоил России и она другого не заведет; как бы то ни было, впрочем, императрица готова дать формальное обязательство, что в Азове не будет флота, что Таганрог не будет восстановлен. Все опасения, высказанные турецкими министрами, суть пустые слова, ибо они сами очень хорошо знают, как трудно России предпринять какое-нибудь движение для распространения своих границ на счет Порты, не возбудив против себя европейских держав, и особенно могущественную Францию. Остерман заключает свое письмо уверением, что союз между Россиею и Австриею неразрывен и что отдельный мир только с одною из этих держав невозможен.
В апреле сочли нужным еще смягчить условия. Остерман писал Вильневу: «Чтоб заключением мира не умедлить и удовлетворить требованиям своего союзника, ее величество наконец на то соизволила, чтоб все наружные и другие азовские крепости, кроме стены и рва, были разорены и впредь никогда не возобновлялись, но ее величество имеет право построить новую крепость между Азовом и Черкасским островом, а Порта будет иметь право построить крепость у Кубани, в определяемых ей миром границах; если же турки и этим будут недовольны и будут упорно настаивать на совершенном разорении Азова, то ее величество и на это готова согласиться, предоставляя себе только право на устье Дона для безопасности от внезапного нападения построить батарею или шанцы».
Ставучанская победа и взятие Хотина возбудили в Петербурге надежду на скорейшее и выгоднейшее заключение мира, именно надеялись, что турки за возвращение Хотина уступят Азов со всеми укреплениями, как вдруг пришла роковая весть, что союзник уже заключил прелиминарные статьи с турками. Мы видели, что в конце 1738 года между обоими императорскими дворами дело шло о присылке вспомогательного русского корпуса в Трансильванию для подкрепления здесь австрийских войск. Но главное затруднение состояло в том, что этот корпус должен был пройти через Польшу, а поляки не соглашались пропустить его. Цесарь и министры его были в страшной досаде. Министры говорили Ланчинскому: «Напрасно у вас обращают внимание на сопротивление поляков: от них был бы только шум, а на деле не воспротивились бы, и прежде пошумели за проход от Бендер, да и перестали. Надобно было только коронному гетману и знатнейшим панам раздать деньги. Теперь будут две невыгоды: турки станут доверять противным полякам, а те поднимут головы и станут думать, будто и вправду их сопротивление так сильно и важно, что они одни помешали проходу русских войск, и то и другое и теперь и впредь интересам России и Австрии будет вредно». На помощь Ланчинскому с представлениями о невозможности провести вспомогательный корпус чрез Польшу отправлен был в Вену известный нам барон Бракель, но австрийские министры были глухи ко всем представлениям, твердили одно – что цесарь не может отстать от требования вспомогательного войска, ибо это единственный способ принудить неприятеля к миру. В июле Ланчинский известил о кровопролитном и для австрийцев злосчастном бою с турками при Гродске; австрийцы потеряли до 6000 убитыми и ранеными; потом пришло известие, что фельдмаршал Валлис отметил туркам также сильным поражением и получил возможность помочь Белграду, осажденному турками. Вслед за тем граф Синцендорф объявил Ланчинскому, что вследствие предложения визиря фельдмаршалу Валлису дано полномочие для заключения мира, и когда Ланчинский заметил, что мир должен быть общий, то Синцендорф отвечал, что в этом не может быть никакого сомнения, притом же Россия имеет при маркизе Вильневе своего эмиссара. 28 августа получено было в Вене известие о взятии Хотина Минихом, по этому случаю один из министров проговорился, что это известие желательно было бы получить двумя неделями раньше; Синцендорф выразился в том же смысле, избегая дальнейших объяснений. Наконец, 1 сентября Ланчинский отправил к своему двору депешу: «С неописанным прискорбием принужден я донести, коим образом мирная негоциация, которая в турецком лагере отправлялась чрез генерала Нейберга и толь долгое время содержана была в крайнем секрете, наконец вскрылась зело гнило, неслыханно и такова, что добрая союзничая верность и здешнего двора честь повреждена и репутация оружия ногами попрана. Граф Синцендорф с немалым печальным предисловием объявил мне: „Принужден я о тяжких погрешениях здешних генералов говорить и об ужасных последствиях злосчастного при Гродске бою. Прибавить имею, что на фельдмаршала Валлиса была великая надежда как на искусного генерала, а на деле оказал себя во всем так плохо, что и говорить о том мерзко. После той акции, в которой против всякого резона в тесных местах употребил кавалерию, все делал поперек; потом начал переписку с визирем и вздумал, что для избежания дальнейших потерь надобно пожертвовать Белградом; написал об этом сюда и, не дожидаясь ответа, созвал совет для избрания генерала в посылку к визирю для мирных переговоров. Генерал Нейберг из неразумной ревности сам вызвался и принял на себя дело, которого не разумеет, а мы и эмиссара посылать не думали“. „Как же, – заметил Ланчинский, – вы сами мне сказали, что посылка генерала Нейберга здесь одобрена?“ „Помню, – отвечал Синцендорф, – но иногда говорится для покрытия; к тому же нельзя было тогда надеяться, чтоб от этой посылки были такие злые и в свете неслыханные последствия. Визирь от Нейберга писем пропускать не хотел; наконец без ведома и против инструкции Нейберг заключил срамные прелиминарии, а Белград очень долго еще мог стоять“. Ланчинский спросил: „Что же определено об Азове?“ Синцендорф отвечал уклончиво: „В конференциях кроме французского посла Вильнева присутствовал и ваш эмиссар Каниони“. На вопрос Ланчинского: „Будут ли прелиминарии ратификованы?“ – отвечал: „Теперь все в турецких руках и назад идти нельзя, потому что, не ожидая ратификации, начали уже укрепления Белграда взрывать: Нейберг согласился, чтоб Белград очистить и срыть“. Сам цесарь „с зело прискорбною миною“ объявил Ланчинскому, что известия из Белграда „толь тяжко его проникли и опечалили, что прискорбия своего совершенно изобразить не может; что срамные прелиминарии без ведома и указу его заключены, которые по необходимой нужде ратификовал, понеже вспять идти нельзя было, когда, нимало не описався, начали приводить их в исполнение, и был бы от того вящший вред как общему, так и всего христианства делу, а если б возможно, то б, конечно, не ратификовал. Ныне уже того переменить нельзя, авось-либ всемогущему богу угодно будет впредь способ подать сего ко исправлению. Но как сие дело учинено без его ведома и инструкции, так и немедленно оное остро разыскать велел и докажет как вначале пред русскою государынею, так и перед всем светом, что в сем срамном поступке не имеет никакого участия; надеется он на правосудное сердце русской государыни, что из-за этого злосчастного случая дружбы своей к нему не переменит, но более сожалеть будет“. Ланчинский спросил, упоминается ли в злосчастных прелиминариях об интересе ее и. в-ства? „Упоминается, – отвечал цесарь, – только не в такой мере, как надлежало и как я желал“». Ланчинский доносил: «От ближних придворных слышу, что цесарь никогда так прискорбен не был: потеря Неаполя, Сицилии, знатной части Миланской области, отдача Оршовы ему не так были чувствительны, как нынешний случай, и, как ни старается, не может по ночам спать; хотя себя и принуждает к веселым разговорам, но прямой отрады получить не может; всякий может видеть, что в лице изменился; цесарева принимает сильное участие в этой печали и несколько дней уже нездорова». В газетах было объявлено, что заключение генералом Нейбергом прелиминарии сделано без ведома и прямо вопреки указу цесаря. Это успокоило народ, начавший сильно роптать, но когда разнеслось, что для окончательного заключения мира первым полномочным назначен тот же Нейберг, то ропот возобновился, появились подметные письма, почему удвоены были в Вене караулы по ночам и приняты меры, чтоб войска могли немедленно задавить мятеж, но все обошлось спокойно.
Во Франции, говоря о прелиминариях австрийского сепаратного мира, обнаруживали пред Кантемиром крайнее изумление, непонимание дела, но Кантемир писал к своему двору: «Не трудно рассудить, что это приключение так согласно с их намерением, что если бы сами об нем старались, то лучшего успеха получить не могли. Разделение двух союзнических дворов было всегда их главною целью. Кажется, главное намерение кардинала состоит в том, чтоб всю Европу держать в постоянном смущении и тем удобнее усиливать свою власть при всех дворах и в мутной воде рыбу ловить. О намерении его разделить Россию с Австриею вновь мне сообщено в крайнем секрете тосканским посланником, которому кардинал сам внушал, что все несчастия цесарского двора происходят от союза с Россиею».
Но как бы то ни было, русское правительство не хотело одно продолжать войну, несмотря на то что турки представили еще новое условие, именно чтоб Азовский округ остался пустым. Вильнев заключил мир условно с представлением русской государыне права отвергнуть его. Для окончания дела отправлен был в Турцию известный уже здесь Вешняков. Когда он убеждал Вильнева изменить некоторые условия договора в пользу России, обещая за это высокое удовольствие и достойные знаки благодарности со стороны императрицы, то французский посол отвечал уверениями в своем доброжелательстве к России и в своих крайних стараниях соблюсти ее интересы, но по обстоятельствам он не мог достигнуть всего, чего бы желал. «Главные причины неудачи, – говорил Вильнев, – заключались в дурном положении дел и поступках ваших союзников: главные лица при венском дворе заботятся не о государственных, а о своих собственных интересах, оттого там господствует совершенный раздор между всеми, чему я сам был свидетелем: все генералы в армии один другого злословили передо мною; поступки венского двора становятся день ото дня непонятнее: Так, безо всяких причин стал он давать туркам великие выгоды». Мир был заключен на следующих условиях: Азов остался за Россиею, но укрепления его должно было срыть, окрестности его должны были остаться пустыми и служили разделением между обеими империями, но Россия получала право построить крепость на донском острове Черкаске, а Порта построить себе крепость на Кубани. Таганрог не мог быть возобновлен, и Россия не могла иметь кораблей на Черном море, могла торговать на нем только посредством турецких судов. Большая и Малая Кабарды остались свободны и должны были отделять обе империи друг от друга.
Вешняков добивался, чтоб в договоре вместо Московской империи было поставлено: Российская; переводчик Порты и согласился было, но рейс-эффенди объявил, что хотя можно и надобно сделать эту перемену, но если не знающие в серале услышат об ней, то подумают, что договор заключен с кем-нибудь другим, а не с русскою государынею. Вешняков обратился к переводчику Порты с просьбою, чтоб помог ему исполнить некоторые желания двора своего, например чтоб султан согласился давать русской государыне императорский титул. Гика клялся Христовым именем, что визирь и рейс-эффенди охотно исполнили бы желания императрицы, видя такое снисхождение с ее стороны, но что сделаешь с здешним невежественным и гордым народом, который никак не может понять, чтоб кто-нибудь мог оказать ему добро не по нужде, заключает поэтому, что и Россия делает уступки по нужде. Императорского титула русской государыне Порта не может дать потому, что дают его государства мелкие: Швеция, Дания, Венеция, Голландия, Гамбург, папа, а главные государи – цесарь, короли французский, испанский, английский и польский – не дают; если б цесарь или Франция признали титул, то и Порта признала бы его немедленно. Тщетно Вешняков возражал, что султан сам собою великий государь, образца ни от кого не требует, ни от какой державы не зависит, честь его требует показать другим образец собою; цесарь дает русской государыне автократорский титул, который почти равен императорскому и приличен только русской государыне, ибо никто таких высочайших преимуществ не имеет; другие государи зависят от чинов и парламентов, от советов и инквизиций, употребляют все свои силы и хитрости, чтоб им противоборствовать, но русская императрица никому отчета в действиях своих не дает. Турки не спорили против этого, но все же предоставили вопрос о титуле будущему времени. Вешняков доносил, что и французский посол никак не в состоянии переломить упорство турок. Вильневу были благодарны и за то, что он сделал; Вешняков вручил ему вексель в 15000 ефимков, а «сожительнице его, посольше» – бриллиантовый перстень. Перстень был принят, но от векселя посол отказался: «Когда будет все окончено, и тогда время не уйдет». Вешняков намекнул на андреевский орден; посол пропустил этот намек без внимания, но в разговоре с посольшею наедине Вешняков уразумел, что ордена желают. Вешняков отзывался о Вильневе так: «Человек уже в летах, доброго нрава, ума не первоклассного, но здравого рассуждения, правдив, а чтоб французский министр был доброхотнее и откровеннее с нами, чем с турками, – этого нет и требовать невозможно, ибо было бы противно французским интересам».
В 1740 году отправился в Константинополь бывалый там человек генерал Александр Румянцев для выполнения условия об отправлении с обеих сторон торжественных великих посольств. О новых отношениях Румянцева к правительству можно получить понятие из письма его к императрице с дороги из Киева: «Вашего императорского величества высочайший и всемилостивейший указ я здесь со всеподданнейшим и рабским респектом, со всесердечною радостию имел честь принять, усмотря из оного вашего императорского величества высочайшую и неизреченную к себе милость, что бедной жене моей в небытность мою на пропитание две тысячи рублей денег пожаловать соизволили, а мне ж, всеподданнейшему и всепоследнейшему рабу, в Москве каменный дом князя Алексея Долгорукого в вечное владение пожаловали, и сия высочайшая милость ко мне сотворена с единого своего высокомонаршеского и материнского милосердия, кроме всяких моих рабских бедных служб. Подвергая себя и всю мою бедную фамилию пред высочайший вашего императорского величества маестет, всенижайшее мое рабское благодарение приношу с таковым моим всеподданнейшим обещанием, что сию высочайшую милость ничем иным заслужить не могу, кроме излития остатней капли крови моей».
Кончилась турецкая война, стоившая России 100000 человек и огромных денежных сумм. Что же делалось во время ее внутри России и на окраинах, которые не переставали сильно озабочивать правительство?
Глава третья
Продолжение царствования императрицы Анны Иоанновны
Кабинет. – Сенат. – Коллегии. – Областное управление. – Войско. – Срок дворянской службы. – Распоряжение об отставных беспоместных людях. – Рекрутские наборы. – Флот. – Финансы. – Промышленность. – Деятельность Татищева на сибирских горных заводах. – Крестьяне. – Первый банк. – Правосудие. – Полиция. – Пожары. – Повальные болезни. – Разбои. – Нравы и обычаи. – Образование. – Кадетский корпус. – Академия наук. – Российское собрание. – Тредиаковский. – Манкиев. – Татищев. – Кантемир. – Феофан Прокопович; его последние борьбы и кончина. – Духовенство.
Мы видели, что в 1731 году был учрежден Кабинет для лучшего отправления дел, подлежащих решению императрицы. Тайные дела еще прежде были взяты у Сената и переданы в особую Канцелярию тайных розыскных дел, и в январе 1734 года велено главной Полицеймейстерской канцелярии быть в дирекции одного Кабинета; в сентябре 1739 года принадлежащие Кабинету дела велено расписать по экспедициям, «дабы впредь конфузии происходить не могли». По смерти канцлера графа Головкина Остерман назывался первым кабинет-министром. Жалованья кабинет-министры получали по 6000 рублей. Двор переехал в Петербург, но сначала думали или, вероятнее, хотели заставить думать, что это переселение временное, и потому только часть сенаторов была взята в Петербург, другая оставлена в Москве, здесь же оставлена и Тайная канцелярия, но уже в августе 1732 года Тайная канцелярия переведена была в Петербург, в Москве только оставлена ее контора. В ноябре 1732 года обер-прокурор Анисим Маслов подал репорт: «Ныне в Петербурге сенаторов семь человек, только полного собрания никогда не бывает, и редко случается, чтоб было три или четыре человека, обыкновенно же по два, прочие же не присутствуют, одни за болезнью, другие за дежурством при дворе, иные обязаны другими делами, и хотя к отсутствующим дела посылаются на дом, однако за болезнями дел слушать и резолюций крепить не могут, которые же государственные дела требуют основательного рассуждения, по таким без общего собрания, заочно согласить очень трудно». Между прочим, Маслов доносил, что вотчинная глава нового Уложения сочинена определенными в Москве членами, а в Петербурге не слушана за всегдашним неполным сенатским собранием и таким образом остановилось 209 государственных дел да 289 челобитчиковых. Вероятно, вследствие этого представления в июне 1733 года велено остававшимся в Москве сенаторам со всею канцеляриею быть в Петербурге и присутствовать в общем собрании, в Москве же оставить от Сената контору, в которой из сенатских членов быть генералу и обер-гофмейстеру графу Солтыкову; он должен был иметь то же самое значение, какое имел с 1723 года остававшийся в Москве сенатский член, т.е. первенствующее значение.
Сенаторы переехали в Петербург с старою привычкой – съезжаться поздно в заседание и разъезжаться рано; в 1733 году императрица «накрепко повелела» съезжаться в Сенат всем в одно время, именно в семь часов пополуночи, и оставаться пять часов, до первого часа пополудни. В 1737 году сенаторы положили съезжаться в 8 часов пополуночи, а уезжать в час пополудни. Члены коллегий и канцелярий не смели уезжать из своих мест, пока сенаторы присутствовали в Сенате. Но в 1739 году опять указ, в котором говорится, что сенаторы приезжают не в указные часы, очень поздно, уезжают рано, а некоторые редко и ездят; поэтому велено съезжаться по регламенту и сидеть до второго часа пополудни и для самых нужных дел съезжаться и пополудни в четвертом, а выезжать в седьмом часу. Сначала велено было кандидатов в городовые воеводы и в секретари к разным делам представить для утверждения в Кабинет, но в начале 1734 года Сенату возвращено было право определять воевод и секретарей без представления императрице. В 1736 году императрице донесли, что в Москве не только в коллегиях и канцеляриях, но и в Сенатской конторе дела решаются не только медленно, но и большею частию «по партикулярным страстям»; графу Солтыкову прислан был указ: «При отъезде нашем во всемилостивейшей на вас надежде нарочно для того вас оставили в Москве, чтоб накрепко смотреть, дабы дела во всех судебных местах порядочно отправлялись, потому мы обо всем этом с великим неудовольствием узнали, и ныне наикрепчайше вам подтверждается смотреть чтоб дела не проволакивались, особенно же чтоб правосудие безо всяких взяток везде отправлялось; если же вашим несмотрением и нерадением впредь такие же непорядки происходить и судьи дела по страстям решать будут, то вы за то пред нами в ответе будете». В 1736 году возобновлено было учреждение Петра Великого – Чрезвычайный, или Высший, суд вследствие просьбы князя Константина Кантемира, что дело его с мачехою о четвертой ее части после мужа решено неправо. Членами суда были назначены: адмирал граф Головин, обер-шталмейстер князь Куракин, обер-егермейстер Волынский, гофмаршал Шепелев и генерал-полицеймейстер Солтыков; в суде присутствовала сама императрица; суд списывался с Кабинетом сношениями, а в Сенат, коллегии и все прочие места посылал указы. Вышний суд нашел, что дело в Сенате было решено неправильно, и обвинен был обер-секретарь сенатский, зачем не представлял сенаторам о неправильности их рассуждений и, если представлял, зачем не записал своих представлений в журнал.
Сенаторов понуждала сама императрица добросовестнее исполнять свою должность, приезжать не поздно и уезжать не рано, а сенаторы в свою очередь слали строгие указы в коллегии против поздних приходов и ранних выходов их членов, предписывали последним приезжать и уезжать по регламенту, ибо прокуроры жаловались, что интересные (денежные) и о колодниках дела отправляются медленно, составление счетов и репортов идет слабо. В 1737 году коллегиям возвращено право штрафовать губернаторов, «дабы губернаторы в порученных им делах, в сборах и по посланным указам в ответах прилежно и рачительно поступали».
За то губернаторам дано было право штрафовать своей губернии воевод, если который из них также законных причин не представит. В 1733 году издан был указ о должности губернского прокурора. «Смотреть ему накрепко, дабы губернатор с товарищи должность свою хранили и в звании своем истинно и ревностно без потери времени все дела порядочно отправляли; также смотреть накрепко, чтоб в канцелярии не на столе только дела вершились; смотреть, чтоб в судах и расправах праведно и нелицемерно поступали, а ежели что увидит противное этому, должен тотчас предлагать губернатору с товарищи с полным изъяснением, в чем они не так делают, и они обязаны исправить; если же не послушают, то прокурор должен протестовать письменно, дело остановить и немедленно письменно генерал-прокурору донести, а губернатор с товарищи должны себя очищать и в Сенат обстоятельно писать. Прокурор должен иметь крепкое смотрение, чтоб губернатор с товарищи всем доходам имел окладную книгу и чтоб все доходы собирались на определенные сроки сполна без доимки, также чтоб всякие откупы и подряды делались порядочно, без потери времени, к лучшей казенной пользе; смотреть, чтоб в Губернской канцелярии колодников долговременно и без решения дел не держали; должен все доношения, от кого бы ни были, касающиеся интересов ее величества, принимать и по ним инстиговать и, если где будет пренебрежено и опущено, немедленно доносить генерал-прокурору, и, „единым словом, сей чин – око генерал-прокурора в той губернии“. Если же в чем поманит или иначе должность свою ведением и волею преступит, то смертию казнен или с вырезанием ноздрей в вечную работу сослан и всего стяжания лишен будет». В этом указе упоминаются товарищи губернаторские: из резолюции кабинет-министров на доклад Сената 1736 года узнаем, что товарищи при губернаторах уже определены, но так как жалованье и ранги им не назначены, то теперь положено впредь до сочинения штата давать им по 300 рублей в год и быть им в ранге коллежских советников. В 1737 году губернаторы получили право, не описываясь в Сенат, определять воевод и воеводских товарищей, дабы в делах не было остановки, а по определении писать в Сенат.
Мы видели, что когда двор переехал в Петербург, то Москва была поручена родственнику императрицы, генералу, сенатору графу Семену Андреевичу Солтыкову; видели, что императрица была не очень довольна управлением Солтыкова; в 1739 году Сенату дан был указ: «Понеже мы Москву, яко первую и главнейшую в государстве губернию, генерал-губернатором паки снабдить и к такому чину особливо при происшедших в оной губернии доныне упущениях и для поправления оных знатную особу определить за благо и потребно рассудили, того ради мы к тому нашего генерал-фельдмаршала князя Трубецкого, будучи надежны на его ревностное и прилежное в том радение, изобрать соизволили и потому определили ему быть в Москве генерал-губернатором и присутствовать ему в Сенатской там конторе так, как он здесь в Сенате был».
Два царствования – Екатерины I и Петра II – прошли мирно, если не считать незначительных военных движений в странах прикавказских, но в царствование Анны Россия вела две тяжелые войны, и потому мы вправе ожидать усиленной деятельности правительства относительно военного устройства. Постоянная вооруженная сила еще не привыкла себя сдерживать среди мирного народонаселения и своими часто безнаказанными насилиями вызывала самоуправство со стороны последнего: в указе 1732 года императрица жалуется, что боярские люди и из других чинов, также компанейщики в Москве нападают и дерутся с гвардейскими солдатами, увечат и даже убивают их. Военная комиссия, бывшая под председательством Миниха, распорядилась, чтоб с января 1732 года жалованье русских офицеров сравнено было с жалованием иностранных офицеров, служивших в русском войске. Несмотря на то, русские люди продолжали всеми средствами отбывать от военной службы. В 1732 году правительство должно было объявить, что многие недоросли у герольдмейстера не явились и в службу не определены, живут в домах своих праздно; также многие из морского флота, из гвардии и армии штаб– и обер-офицеры оставлены молодые, а к герольдмейстеру не отосланы и к делам никуда не определены. Недоросли из дворян, отбывая от службы, записывались в купечество: в 1736 году велено одного такого недоросля взять из купечества и отдать в солдаты в гарнизон, а с бурмистров и секретаря ратуши, которые его записали в купечество, взять 100 рублей штрафа. В том же году правительство объявило, что многие офицерские, дворянские, солдатские, рейтарские, козачьи, пушкарские и всяких служилых людей дети под разными видами кроются, а некоторые из них вступают в дворовую службу к разных чинов людям и переходят из города в город, дабы звание свое утаить и тем от службы отбыть; от таких людей вперед никакого добра ожидать нельзя, ибо праздность всему злу есть корень, что и на самом деле обнаруживается: многие из них уже пойманы на воровствах и в других дурных делах. Для малолетних велено учредить школы, чтоб все служилых отцов дети, имея надежное пропитание, обучались, кто к каким наукам склонность имеет, дабы со временем не только государству могли быть полезны, но и сами себе теми науками пропитание снискать могли, но они от наук бегут и сами себя губят.







