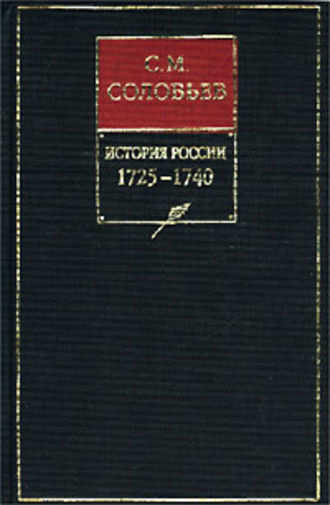
Сергей Соловьев
История России с древнейших времен. Книга X. 1725–1740
Скоро после этого Неплюев стал доносить о возможности мира между Турциею и Эшрефом; писал, что не только султану и министерству, но и всему турецкому народу персидская война омерзела, кажется несносною. Эшреф прислал к турецкому муфтию и ко всем муллам письмо, в котором говорил, что султан поступает противозаконно, отторгнув персидские провинции и не признавая его, Эшрефа, законным государем персидским, тогда как он завоевал Персию у еретиков; Эшреф писал, что муллы отдадут ответ пред богом за междоусобное кровопролитие между мусульманами; а он стоит в ополчении, готовый к миру и войне. надеясь на правду свою. По выслушании этого письма все муллы единогласно сказали: «Изо всего видно, что помощь божия с Эшрефом, а не с нами; следовательно, против воли вышнего отваживаться нельзя, но лучше заблаговременно мира искать». На это визирь сказал, что Эшреф запрашивает взятых турками областей и без того не мирится. Муллы отвечали, что прежде неверным полякам отдали Каменец, тем легче теперь можно сделать уступку единоверному Эшрефу. Визирь остался очень доволен этим ответом, ибо видел невозможность продолжать войну по беспорядочности и несклонности народа, предвидя и для себя близкую погибель, если приключится новое несчастие, тем более что требовали отправления его самого в Персию. Решили приступить к мирным переговорам, которые были поручены вавилонскому (багдадскому) паше Ахмету, и 19 октября 1727 года получено было в Константинополе известие, что мирный договор с Эшрефом заключен. Рейс-эффенди, объявляя об этом Неплюеву, прибавил. что если и Россия пожелает помириться с Эшрефом, то Порта не отрекается употребить к тому свои старания. Русский двор изъявил на это согласие.
Но это согласие не могло повести ни к чему. Весь 1728 год прошел в спорах Неплюева с турецкими министрами насчет пограничных столкновений. Турки жаловались, что калмыки, соединясь с их бунтовщиком Бахты-Гиреем, опустошали их владения; Неплюев жаловался, что турецкие паши в новых границах вступаются в принадлежащие России земли и народы. Неплюев писал своему двору: «Не думаю, чтоб турки легкомысленно провинции вашего величества действительно обеспокоить дерзнули, и войны с Россиею они удаляются по многим причинам: 1) знают неискусство своих войск; 2) настоящее министерство ищет себе покоя; 3) если б они и получили что-нибудь от России со стороны Персии, то России от этого вреда не будет, а им может быть большой вред от войны с европейской стороны, где у них никаких приготовлений нет, а здесь они один Азов не променяют на все персидские провинции. Однако за такой варварский непостоянный двор ручаться нельзя: может случиться перемена министерству или другой какой случай, а в таких случаях у них принимаются скорые и слепые меры. Теперь они, сколько возможно, желают держать персидские владения вашего величества в беспокойстве». В 1729 году Неплюев писал: «Все пограничные паши, также и Суркай, пишут к Порте, что если она не вытеснит русских из Персии, то никогда не сможет обезопасить там своих владений, потому что русские генералы возмущают тамошние народы против турок и в нужном случае оказывают им покровительство; вытеснить же русских из Персии можно, потому что их там немного». Вести об этих письмах передал Неплюеву переводчик Порты, который прибавил, что не знает ничего о решениях Порты по этому делу, но замечает в ней холодность к России. Вслед за тем Неплюев донес: «Изо всего видно, что турки намерены в будущую осень напасть на персидские наши провинции, считая это время самым благоприятным, ибо в октябре и ноябре в европейском климате зима, препятствующая воинским действиям. Я здесь почти не имею никакого значения, потому что турки моих предложений не слушают, о делах мне не сообщают, посылать курьера запрещают. Неприятели визиря внушили султану, что русских давно можно было бы выгнать из Персии, но время упущено вследствие неспособности визиря к войне; он заключил с Россиею договор, предосудительный Порте, уступил России многие персидские провинции с единоверными туркам народами, которых султан должен был по единоверию защищать, а не отдавать в подданство неверным. Султан с гневом выговаривал за это визирю, почему тот принужден на все отваживаться. Мир может сохраниться в двух случаях: если турки увидят, что Россия готова к войне и что находится в союзе с цесарским двором; азиатским войскам уже велено двигаться в персидские области». Потом другое известие: «Хотя не все утихло, но и не возрастает; только пограничные паши ложными своими известиями не перестают плевелы сеять». Цесарский резидент Дальман предъявил полномочие быть посредником в спорах между Россиею и Турциею; но Неплюев опасался, чтобы турки не предложили посредничества французского посла на том основании, что последний договор у них с Россиею заключен был при посредничестве Франции.
Франции не доверяли по-прежнему. При вступлении на престол Петра II Куракин, извещая о предстоящем заключении договора между Франциею, Англиею, Испаниею и императором, писал, что во Франции очень рады мирному окончанию дела, но что министр английский в Париже Вальполь недоволен, ему лучше бы хотелось войны, он боится, что Франция, сблизившись с Испаниею и Австриею, освободится из рабства Англии. «И всю сию оперу, – писал Куракин, – при помощи божеской надеемся увидать в свое время». Для окончательного улажения дел назначен был конгресс в Камбрэ, и Россия, как принимавшая участие в последних движениях в качестве союзницы императора, назначила на конгресс своих уполномоченных – князя Бориса Куракина и графа Александра Головкина. По наказу они должны были стараться о допущении своем прямо ко всем переговорам как представители стороны интересованной, чтоб дело герцога голштинского было окончено на конгрессе, чтоб при постановлении генеральной гарантии и Россия была в нее включена. Между тем умер английский король Георг 1, которому наследовал сын его Георг II; этою переменою хотели воспользоваться для восстановления приязненных сношений между Россиею и Англиею. Флери был посредником, и 27 августа Вальполь, приехав к Куракину, объявил ему, что король его ничего так не желает, как предать забвению все прошлое, восстановить дружбу и сношения с русским императором, и готов отправить от себя знатного человека поздравить Петра II с восшествием на престол, причем надеется, что и со стороны русского двора будет поступлено таким же образом.
Но князю Борису Куракину не суждено было привести к окончанию всех этих дел: 18 сентября он умер, и место его занял сын его, князь Александр, с титулом советника посольства. Но и князь Александр в 1728 году получил позволение возвратиться в Россию, потому что весь интерес сосредоточился теперь в Суассоне, где был назначен конгресс вместо Камбрэ. В Суассон отправился один граф Александр Головкин, который получил новый подробнейший наказ: по приезде в Суассон он прежде всего должен осведомиться об установленных там порядках относительно церемониала. Его императорское величество в церемониале излишнего ничего не требует, но, кроме цесаря римского, никому из коронованных глав первенства уступить не может. Наблюдать, чтоб с ним поступаемо было так, как с министрами ганноверских союзников, преимущественно с шведскими. Относительно возвращения Шлезвига герцогу голштинскому или достойного ему вознаграждения должен согласиться с цесарскими министрами и делать все то, что они делать станут; особенно должно действовать на кардинала Флери, представляя ему, что французский интерес требует улажения этого дела с полным удовлетворением герцога. Стараться, чтоб Россия непременно включена была в общую гарантию; если же представится затруднение по причине турок и персиян, то его величество будет доволен, если гарантия будет постановлена относительно одних европейских его владений. Более всего граф Головкин должен быть в согласии с цесарскими министрами, искать их доверенности и помогать им во всех их требованиях, которые не противны русским интересам; потом должен искать доверия кардинала Флери, особенно стараться проведать о намерениях Франции относительно Швеции и Дании; внушить кардиналу Флери, что русский император вовсе не думает заставлять Швецию возвести на престол герцога голштинского, предоставляя это дело воле божией и склонности шведского народа; возбудить в кардинале подозрение относительно замыслов Англии в Швеции. С министрами английскими должен иметь политическое дружеское обхождение, объявлять им, что с русской стороны никакой причины к озлоблению не подано, у обоих государств нет причины друг другу завидовать и потому могут находиться в вечной дружбе.
Более всего Головкин должен был действовать в согласии с цесарскими министрами. Ланчинский начал свои донесения новому императору известием о радости, в какой находится венский двор, начиная с цесаря и цесаревны, что племянник последних занял русский престол, и хотя копия с завещания Екатерины и не была еще получена в Вене, но уже толковали, что оно написано во всем предусмотрительно и основательно, и только по воле божией скипетр перешел из одной руки в другую, и спокойствие Русского государства упрочено. Ланчинский именем нового императора повторял о высоком почитании его к цесарю и цесаревне и о истинном намерении не только сохранять прежнюю дружбу, но и еще более укреплять ее. Но вслед за тем Ланчинский донес своему двору, что в Вене бесплодность в делах еще продолжается; ограничивались уверениями, что цесарь намерен на конгрессе стараться прилежно о шлезвигском деле, и выражали уверенность, что на конгрессе ни Гибралтар за Англиею, ни Шлезвиг за Даниею остаться не могут. В доказательство своей тесной связи с венским двором русское правительство велело Ланчинскому объявить цесарским министрам, что со стороны Англии сделаны предложения о прекращении несогласий, но что со стороны России не дано еще никакого решительного ответа, ибо император будет ждать совета римского цесарского величества, как при настоящих конъюнктурах поступить? Принц Евгений отвечал: «И нам англичане делают предложения в разных местах, однако не видим их прямого намерения и знаем, что в то же время они делают цесарю всевозможные неприятности. С русской стороны надобно зрело рассудить, что англичане отторгнули от русского союза Швецию, деньгами и интригами приклонили ее к ганноверскому союзу и беспрестанно при шведском дворе куют против интересов русских; герцога голштинского гонят несносно и не только стараются отнять у него всякую надежду на шведский престол, но, что хуже всего, стараются приготовить путь к этому престолу для одного из своих принцев. Прошлого года с такою гордостию присылали в Балтийское море эскадру и если не сделали никакого вреда, так только потому, что нашли Россию в готовности отражать силу силою. Как же такие великие противности могут они загладить тем, что пришлют к русскому двору министра? Всего лучше вам удержаться от ответа на английские предложения и смотреть на обращение конъюнктур». После этого русский двор считал себя вправе требовать, чтоб между ним и венским двором произошло полное соглашение насчет того, как их уполномоченным действовать на Суассонском конгрессе, чтоб на основании этого соглашения можно было и дать инструкцию русскому уполномоченному; Ланчинский требовал у австрийских министров, чтоб они объявили ему, как они намерены действовать на конгрессе относительно русских интересов, именно: гарантии русских владений и вознаграждения герцога голштинского. Министры отвечали уклончиво, что у них еще нет системы относительно действий на конгрессе, что все должно зависеть от хода переговоров, но что цесарь с своей стороны употребит все старания для удовлетворения желаниям русского государя; к этому ответу принц Евгений прибавил, что Англия старается оттеснить Россию от европейских дел, Австрия же, наоборот, старается ввести ее в европейские дела.
Несмотря на уклончивость Австрии относительно русских требований, в начале 1729 года Ланчинский по приказанию своего двора должен был объявить цесарским министрам от имени своего государя, что, каков бы ни был исход Суассонского конгресса, русский император никогда не отступит от цесарского величества и всегда пребудет твердо и нерушимо при союзе с ним. За это принц Евгений отплатил объявлением, что если дойдет до трактата относительно шлезвигского дела, то в этом трактате будет положено доброе основание и определится срок, в который герцогу голштинскому должно быть дано удовлетворение, и что цесарь ни на что не согласится прежде, чем русский государь и герцог голштинский заявят, что довольны решением дела; Ланчинскому указывали надежду на благоприятный исход голштинского дела в том, что Франция и Англия хотя и гарантировали датскому королю обладание Шлезвигом, однако признали, что герцогу голштинскому надобно дать вознаграждение. В России желали, чтоб Суассонский конгресс кончился генеральным и формальным трактатом, а не каким-нибудь провизиональным актом, ибо для России и Австрии всего важнее порвать ганноверский союз, а этого можно достигнуть только в первом случае. На представления Ланчинского об этом принц Евгений отвечал: «Как это сделать, чтоб ганноверский союз разорвался? Как союзникам ганноверским запретить, чтоб и после формального трактата они не продолжали оставаться в прежнем союзе?» Другие министры прибавляли, что как цесарю никто не может запретить после какого бы то ни было Суассонского трактата оставаться в прежних отношениях с своими союзниками, так и ганноверским союзникам нельзя запретить оставаться при старых обязательствах. Остерман по этому случаю писал Ланчинскому, что австрийские министры не поняли, в чем дело: если в Суассоне будет заключен формальный трактат, прекращающий все столкновения, то Франция необходимо выйдет из ганноверского союза, ибо кому не известно, да и сами французские министры, не таясь, нашему послу не раз говорили, что настоящие их обязательства собственным и естественным французским интересам противны и что они ищут одного – как бы с честию выйти из этих обязательств и снова получить свободные руки поступать по натуральным своим интересам.
Россия могла еще сквозь пальцы смотреть на уклончивость и неопределенность ответов австрийского кабинета на вопросы не первой важности для нее, ибо австрийский союз считался необходимым по отношениям турецким и польским, преимущественно первым; но австрийский кабинет обнаруживал такую же уклончивость и относительно другой союзницы своей, Испании, которая не хотела смотреть на это сквозь пальцы, потому что испанский двор, повинуясь желаниям королевы Елисаветы, настойчиво добивался испомещения испанских принцев в Италии; в этом заключалась главная цель союза Испании с императором. Франция и Англия воспользовались медленностию, уклончивостию Австрии в исполнении желаний Испании и предложили последней получить желаемое с их помощию. Испанский двор принял предложение, и в ноябре 1729 года был заключен в Севилле договор между Испаниею, с одной стороны, Франциею, Англиею и Голландиею – с другой. Австрия осталась одна с Россиею. Этот севилльский договор изменил отношения иностранных министров при русском дворе; испанский посланник герцог Лириа, который прежде действовал заодно с австрийским посланником графом Вратиславом, теперь стал действовать наперекор ему, хлопотать, чтоб Россия не исполняла обязательств своего договора с Австриек), не посылала своего войска на помощь цесарю. Кроме дел западноевропейских предметом сношений между обоими дворами были дела польские, ибо в Москву и Вену приходили известия о стараниях Швеции и Франции посадить по смерти Августа II на польский престол Станислава Лещинского. На представления Ланчинского по этому поводу граф Цинцендорф отвечал, что венский двор думает согласно с русским, что Польшу надобно удерживать при нынешнем ее состоянии без всякой перемены: Станислава Лещинского от польского престола отстранить непременно, а потом, смотря по ходу дел, возвести на престол или наследного принца саксонского, или Пяста; получено также известие, что некоторые польские вельможи склонны к брату португальского короля инфанту дону Эмануелю, но что, впрочем, о польских делах нужно сноситься и с королем прусским.
В Польше на первом плане продолжало стоять курляндское дело. Ягужинский был отозван из Варшавы еще при Екатерине, оставив там одного Бестужева, который в первом донесении своем новому императору писал: «По получении известия о кончине ее величества поляки сильно загордились и начали явно говорить, что Курляндию делить на воеводства; они льстили себя надеждою, что в России при нынешнем случае произойдет смута, которою они воспользуются: чего желают, тем себя и льстят. Я всякими мерами опровергаю эти их рассуждения и, получая академические печатные ведомости, давал им читать, чтоб они могли видеть, что за помощию всемогущего в России все тихо и благополучно». В июне 1727 года Бестужев извещал, что Мориц отправился в Курляндию и, будучи в Дрездене, говорил польским министрам, что из уважения к королю и для общего блага готов отказаться от притязаний на титул герцога курляндского и ограничиться штатгалтерством; если же и этого нельзя, то может согласиться на такую сделку: когда назначенная комиссия прибудет в Курляндию, то пусть его обнадежат, что будут избирательные воеводы, причем он надеется быть избранным, а он за это обещает склонить курляндцев к принятию предложений комиссии, потому что пользуется между ними большою любовию и доверием.
В России не хотели допустить ни одной из этих сделок, и, чтоб отнять у поляков повод распоряжаться в Курляндии, генерал Леси, перейдя с войском Двину, выгнал Морица из этой страны (в августе 1727 г.). Но Мориц и тут не хотел успокоиться относительно России; в ноябре того же года присланный от него советник Бакон подал в Верховный тайный совет следующие предложения: так как Мориц один только может удержать поляков от присоединения Курляндии к Польше, то, если Россия признает его герцогом курляндским, он обяжется быть русским данником, будет платить ежегодно по 40000 рублей до того времени, пока Курляндия формально примет покровительство России и сделается леном ее, причем он, Мориц, дает честное слово держать столько войска, сколько ему предпишет Россия. В начале 1728 года Бакону было объявлено, что предложение его не может быть принято и чтоб он немедленно выехал из России. Но в то же самое время саксонский посланник Лефорт доносил своему двору, что Миних поднял вопрос о браке Морица на цесаревне Елисавете, и отправление Бакона Лефорт объяснял так: «Все разговоры с Баконом и поспешность, с какою его отправили, имеют один сокровенный смысл: ступайте и привозите его к нам». Год с лишком Лефорт манил Морица этим браком и только в марте 1729 года написал, что нет более надежды. Но еще прежде предложения Морицева изумило предложение старого герцога Фердинанда, который объявил, что желает вступить в брак с цесаревною Елисаветою или с другою русскою принцессою. В Верховном тайном совете решили: относительно цесаревны Елисаветы отказать, предложить ему царевну Анну Ивановну или, если не согласится, то сестру ее, царевну Прасковью.
Но возвратимся к Курляндии. Здесь Леси по изгнании Морица послал польским комиссарам объявление, чтоб они удержались от вступления в Курляндию. На жалобы польских министров Бестужев отвечал, что высылкою Морица император сделал угодное королю и Речи Посполитой и поступил согласно с своими интересами, ибо есть известие, что Мориц имел сношение с враждебными России державами, притом он вступил в Курляндию с немалыми людьми и военною амунициею, получив от некоторой державы значительную сумму денег; наконец он стал укрепляться на острове, поджидая к себе еще людей, и потому, предупреждая вредные следствия этих поступков, император распорядился согласно с своими интересами и согласно союзному договору с королем и Речью Посполитою; что же касается до объявления генерала Леси, чтоб комиссары не вступали в Курляндию, то комиссия назначена была для уничтожения выборов графа Морица, а так как он всеми своими людьми выслан из Курляндии, то этим самым выбором уничтожены, и в комиссии нет более никакой нужды. В разговоре с великим канцлером коронным Шембеком Бестужев объявил, что Россия не допустит до перемены формы правления в Курляндии; а Шембек отвечал, что Речь Посполитая по смерти герцога Фердинанда никогда не допустит до избрания нового герцога, хотя бы из этого проистекли и дурные последствия.
Несмотря на объявления Леси, польские комиссары въехали в Курляндию и начали свое дело; Леси протестовал. По этому поводу Бестужев имел крупный разговор с польскими министрами в октябре. «Для чего, – кричали поляки, – генерал Леси против нашей комиссии протестует и так явно в наши домашние дела мешается? Еще мы вами не завоеваны, чтоб вы могли законы нам предписывать; мы объявим об этом не только пред всеми дворами европейскими, но и при Порте». Бестужев повторял одно, что Курляндия Польшею не завоевана, присоединилась добровольно и Россия не может допустить нарушение в ее правительственной форме; дело курляндское не домашнее, польское, а публичное; турок император не боится, и эти угрозы Портою приносят полякам более стыда, чем чести и пользы. В Курляндии образовались партии: одна, желавшая сохранить старый порядок и потому державшаяся России, хотевшей того же самого, и польская; комиссары начали притеснять членов первой и выдвигать на важные должности членов второй, отставили ландгофмейстера Бринка и должность его передали главному противнику России обер-бургграфу Костюшке, католику; канцлера Кайзерлинга посадили под арест, и на его место канцлером сделан Бракель, который орудовал Морицевым делом. В ноябре Бестужев представил польским министрам, что комиссары их в Курляндии позволяют себе жестокости и насилия, некоторые оберраты и депутаты сеймовые были содержаны под стражею, и оберраты поневоле должны были дать комиссарам запись, что по смерти герцога Фердинанда не будут избирать себе нового герцога и даже предъявлять право свое на избрание. Против таких поступков генерал Леси протестовал именем императорским, а теперь он, Бестужев, объявляет, что император никогда не допустит до изменения правительственной формы в Курляндии. Поляки отвечали: «Если бы курляндцы сами просили вашего государя о покровительстве и помощи, то была бы еще причина ему вступаться в это дело; но так как просьбы никакой нет, то удивительно, что посторонняя держава в наши домашние дела хочет мешаться; что же касается до комиссии, то она не имеет права что-либо установить в Курляндии, но должна о всем том, на чем согласится с курляндцами, донести сейму, который утвердит эти соглашения или не утвердит». В конце 1727 года Бестужев получил от своего двора приказание не предлагать ничего более польским министрам о курляндских делах, но дожидаться сейма. Но сейма не было в 1728 году по причине болезни королевской, и все дела остановились, кроме одного – о притеснениях православным от католиков. В начале 1728 года белорусский епископ князь Четвертинский прислал императору подробное описание бедствий, которым подвергалась его епархия после отзыва комиссара Рудаковского: «Повелено было моему смирению доносить о своих нуждах князьям Долгоруким, Василью Лукичу и Сергию Григорьевичу, бывшим тогда при польском дворе; они старательно предлагали королю и Речи Посполитой, чтоб нас оставили в покое, но ничего не воспоследовало, только одни декларации. На сейме 1726 года генерал Ягужинский прилагал неусыпный труд, чтоб православным была отрада, и получил декларацию, что наше дело должно окончиться на конференциях. Теперь министр Бестужев также всячески старается о нас, но получает один ответ, что дело решится на сейме, а на сейме о нем ни полслова, отлагают до конференций. Прежде всего прошу, чтоб г. Бестужев исходатайствовал позволение управлять но моей смерти Белорусскою епархиею назначенной от меня особе до тех пор, пока изберут другого епископа, ибо многие униаты уже теперь стараются получить привилегию и восхитить престол белорусский: чтоб выдан был королевский универсал, запрещающий обижать православных и отбирать у них церкви, пока не назначат к сейму комиссаров для рассмотрения обид: прошу о присылке в Могилев русского комиссара, потому что прежний был великою помощию для православных: прошу дать указ из св. Синода, чтоб архиепископ киевский не вступался в мою епархию, равно как и другие архиереи».
Эта просьба была последняя: 13 февраля 1728 года князь Четвертинский скончался: духовенство немедленно избрало игумена Гедеона Шишку наместником и архидиакона Каллиста Заленского администратором Белорусской епископии: но могилевский магистрат обратился к киевскому архиерею с просьбою назначить наместника и с жалобою на Заленского, что он при жизни епископа (Сильвестра ссорился с городом и братством и теперь сильно вредит вере благочестивой, потому что в нем нет ни веры, ни благочестия, ни правды, один обман и лесть, старается всячески высвободиться из-под власти киевского архиерея: магистрат просил, чтоб духовенство не делало ничего без горожан, которым должно быть предоставлено свободное избрание достойного в епископы. Такую же жалобу магистрат отправил и прямо в Синод, называя Заленского волком в коже овечьей, приписывая ему то, что церковь кафедральная, сделанная из досок, гниет, тогда как он на ее строение собирает большие деньги с венечных памятей: священники, угнетаемые им, обращаются в унию; а киевский архиерей доносил Синоду, что Заленский хочет похитить Могилевское епископство и отступить от. православия, причем многие знатные особы из католиков и шляхты стоят за него.
Синод передал дело в Верховный тайный совет, который в мае 1728 года отправил в Могилев смоленского шляхтича Швейковского, приказав ему увидаться наедине с архидиаконом Заленским и сказать ему, что при императорском дворе он, архидиакон, известен как человек, управлявший лет 20 всеми делами епархии при прежнем епископе, и потому приехал бы он сам в Москву для донесения, какого бы человека доброго, благочестивого и веры православной блюстителя выбрать на епископию белорусскую. Потом Швейковский должен был разведать пристойным образом, кто из членов магистрата люди постоянные и православия ревнители, и поговорить с такими тайно, чтоб архидиакон не узнал: сказать им. что прошения их приняты милостиво императором, который приказал узнать, кого они из своих духовных считают достойным епископства, чтоб русскому двору можно было помочь такому при избрании и утверждении королевском. Наконец, Швейковский должен был в Могилеве и в других местах расспросить у православных русских людей, духовных и мирских, в чем между духовными и светскими людьми, и особливо между магистратом и архидиаконом, распря и каков сам архидиакон в благочестии и духовном правлении, можно ли ему верить?
В августе воротился Швейковский из Белоруссии и донес, что магистрат между могилевскими духовными не знает ни одного достойного человека и просит прислать к ним кого-нибудь от Синода или из Киева. В то же время приехал в Москву и Заленский, привез письмо от всего духовенства, которое заявляло о достоинствах архидиакона и просило верить ему во всем. Так как могилевцы, не имея на кого указать из своих, избрание епископа предоставили Синоду, то в Москве и выбран был межигорский архимандрит Арсений Берло, и для прекращения усобицы решено было, что Заленский не возвратится более в Могилев. Но смута этим не прекратилась: новый епископ писал в Москву, что прибытие его в Могилев тамошним жителям, и особенно братству, неприятно, с братством заодно и бывший наместник Гедеон Шишка, и вскоре по приезде его, епископа Арсения, явились на него пасквили, против чего он протестовал в могилевской ратуше, объявив, что этот позор терпит он от Шишки. Арсений писал также, что ругатели веры православной грозят его убить; шляхта в селах и городах православные церкви насильно отторгает к унии. Иезуиты могилевские, имея у себя в школе двух воспитанников, сыновей знатных горожан могилевских, совратили было их в свою римскую церковь; старанием игумена Братского монастыря Сильвестра мальчиков отняли у иезуитов и снова присоединили к православию, но за это католический епископ позвал к суду игумена и русских горожан; епископ прибавлял, что все эти затруднения и бедствия делаются по интригам Каллиста Заленского, бывшего архидиакона могилевского. Канцлер граф Головкин отвечал Арсению, что напрасно он нарекает на Гедеона Шишку, человека честного и заявившего о своем расположении к нему, Арсению, что пасквили написаны врагами православия и не следовало ему жаловаться на них в ратуше, но оставить их без внимания, ибо в тамошнем вольном государстве много того бывает, поляки иногда и на своих государей пишут пасквили, но таких злодеев сыскать нельзя; о гонениях на православие должно писать к русскому посланнику в Варшаве; интриг от Каллиста Заленского никаких быть не может, потому что он сам не захотел возвращаться в Могилев и уже поставлен архимандритом в Межигорский монастырь. «Ваше преосвященство, – писал Головкин, – должны сноситься с Заленским и требовать его совета, потому что вы еще теперь не можете узнать тамошних людей; да и с Гедеоном Шишкою извольте приятно обходиться, как с человеком, знающим все тамошние дела, и советоваться с ним».
Избранный в Москве Арсений Берло не мог в Могилеве называться епископом и назывался только номинатом до получения королевского утверждения. Об этом утверждении должен был хлопотать снова отправленный в Варшаву в качестве полномочного министра князь Сергей Григорьевич Долгорукий, хотя Михайла Бестужева и оставили там в качестве чрезвычайного посланника. В начале 1729 года Долгорукий писал: «О епископе белорусском хотя чаю быть не без трудности, дабы из киевских архимандритов позволили, однако ж всемерно стараться буду». При свидании с примасом Потоцким Долгорукий объявил ему, что он прислан для обнадежения короля и республики непременною дружбой; император не имеет никаких партикулярных интересов в королевстве Польском, имеет только один общий с Речью Посполитою интерес, именно чтоб она в своих правах и вольностях была ненарушима вовеки; посланник прибавил, что император особенно уважает его, примаса, лично и всю его фамилию. Поблагодаривши за это, примас начал говорить, что короля очень долго нет в Польше; жаловался, что Август имел свидание с прусским королем, что возбуждает подозрение, не постановили ли они чего-нибудь противного вольности польской и не было бы сделано какого насилия относительно королевского избрания. Посланник именем своего государя обнадежил, что в таком случае Россия будет помогать Речи Посполитой, равно как и Австрия. Потоцким очень не нравилось возвышение Понятовского, которого король прочил в гетманы/ Возвышение Понятовского по его отношениям к Швеции и Лещинскому не нравилось, и России, и потому Долгорукий должен был действовать сообща с Потоцкими, в чем их и обнадеживал. Брату примасову маршалку надворному Потоцкому хотелось быть гетманом, хотелось и короны, но Долгорукий писал к своему двору: «Для интересов вашего величества ни Лещинского, ни Потоцких не надобно, а, по моему рабскому рассуждению, годнее всех в гетманы кто-нибудь из князей Вишневецких».







