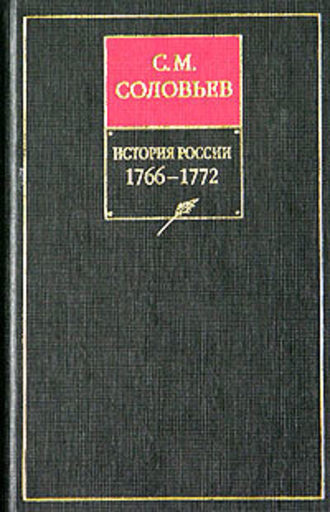
Сергей Соловьев
История России с древнейших времен. Книга XIV. 1766–1772
Панин 9 февраля читал в Совете письмо свое к кн. Голицыну, где последнему предписывалось засвидетельствовать венскому двору удовольствие императрицы по поводу его последнего объявления, сообщить ему план соглашения петербургского двора с берлинским о Польше и выведать, что именно венский двор желает получить, уверяя наперед, что на приобретения его от Турции Россия так же будет согласна, как и на приобретения от Польши. Действительно, в Петербурге были чрезвычайно довольны последними известиями из Вены; дело казалось решенным, думали, что Австрия, вступая в соглашение с Россиею и Пруссиею, в союз с ними, будет содействовать заключению выгодного мира с Турциею, тем более что сама заявляет теперь желание получить добычу из областей Порты, а это давно уже предлагалось ей Россиею и было отвергнуто. Воображению Екатерины уже представлялось скорое и блистательное окончание польско-турецкой войны, заключение тройного союза между Россиею, Австриею и Пруссиею, который обеспечит мир и даст возможность поправить финансы и провести важные внутренние преобразования. Конвенция с Пруссиею о Польше была подписана (6 февраля), и Екатерина благодарила Фридриха, приписывая ему перемену в политике венского двора. Принц Генрих поздравлял брата с успехом, поставляя на вид, что в случае продолжительности союза между тремя государствами они будут предписывать законы Европе. Но Фридрих был проницательнее брата: он указывал на необходимость борьбы между Австриею и Пруссиею за влияние в Петербурге.
Но Австрия еще раз переменила свой план. Совесть начала мучить Марию-Терезию, которая объявила: «Мы в союзе с Портою, мы взяли у нее деньги: никогда я не решусь ее обобрать, и потому не может быть речи о Сербии и Боснии, единственных областях, нам годных. Остаются Молдавия и Валахия, страны нездоровые, опустошенные, открытые нападениям турок, татар, русских, без крепостей; чтоб удержаться в них, надобно потратить много миллионов и народу». Молдавия и Валахия не годятся для Австрии, так отдать их Польше в вознаграждение за богатые области, которые у нее возьмутся; этого совесть не запрещала Марии-Терезии, которая никак не соглашалась на раздел Польши без вознаграждения последней. Но жестокий Кауниц напал на совесть Марии-Терезии с другой стороны. «Разве позволительно императрице подвергать миллионы собственных подданных всем ужасам войны, которые будут следствием нарушенного равновесия между государствами?» – спрашивал канцлер. Для успокоения императрицы он отказывался от Боснии и Сербии; действительно, взять эти области нехорошо, обидно для турок; он, Кауниц, никогда этого не советовал, на это настаивал император Иосиф; он, Кауниц, советовал и теперь советует взять земли по нижнему Дунаю вплоть до устья, а Молдавию и остальную Бессарабию отдать Польше; несправедливости тут нет никакой, потому что Турция уже потеряла эти земли. Мария-Терезия соглашалась, но объявила, что не намерена брать что-нибудь у Польши. Тут вооружился против канцлерова плана император Иосиф и представил свой новый план. «Каким образом, – спрашивал Иосиф, – можно будет защищать границы, которые растянутся от Адриатического моря до Черного? По какому праву Польша будет чего-нибудь требовать от Австрии, когда та ничего у нее не возьмет? Неужели Австрия обязана вознаграждать Польшу за несправедливости России и Пруссии в отношении к ней? Нам надобно всю Молдавию и Валахию, а Бессарабию кому угодно, лишь бы не русским. Нашею границею должен быть Прут до Дуная, и, отдавая Бессарабию и остальную Молдавию и Валахию туркам, надобно получить от них за это Оршову и Белград. Надобно, чтоб Россия сделала вид, что хочет все удержать за собою, и уступила нам Молдавию и Валахию, а за Бессарабию турки отдадут нам означенные два города». Мария-Терезия была в отчаянии и объявила, что надобно прекратить такое ужасное положение, что она не хочет ничего брать ни у поляков, ни у турок. Кауниц возражал, что между Россиею и Пруссиею уже состоялось соглашение насчет раздела Польши, и потому Австрии надобно сделать одно из двух: или вооруженною рукою воспротивиться разделу, или спокойно смотреть, как вследствие усиления Пруссии и России австрийский дом подвергнется страшной опасности; так как нельзя советовать выбрать ни то ни другое, то остается заявить собственные требования. Мария-Терезия согласилась наконец, что остается одно это средство. Но любопытно то, что после этого согласия фан-Свитену была отправлена депеша, где австрийский двор отвергал сделанное им послом предложение получить вознаграждение на счет Турции, так как предложение это фан-Свитен сделал от себя лично, а не по инструкциям правительства; что же касается до приобретений в Польше, то венский двор не может определить своей доли прежде, чем Россия объявит, что она хочет взять себе. У австрийских историков мы не найдем объяснения этой перемены, но объяснения есть.
По донесению кн. Голицына, 10 февраля (с. с.) он был приглашен к Кауницу, который встретил его с бумагою в руках – то была депеша фан-Свитена из Берлина (от 5 февраля н. с.). Кауниц прочитал ее Голицыну и прибавил, что уже отправлен в Берлин курьер с ответом, где выражено фан-Свитену неодобрение за то, что он предложил вознаградить Австрию на счет Турции. Голицын удивился такому противоречию, ибо незадолго перед этим ему самому сделано было подобное же предложение; он попросил объяснения у Кауница. «Здесь противоречие только видимое, – отвечал тот, – наш двор серьезно расположен сделать некоторые приобретения на счет Порты, не оскорбляя ее открыто; от России, которая по праву завоевания уже владеет обширными турецкими областями, от России зависит удержать часть этих земель и променять другую, уступивши ее потом кому-нибудь третьему».
Оказывается, что молодой император с старым канцлером решили взять свои доли и от Польши, и от Турции, с Пруссиею вести дело об одной Польше, где доля Австрии должна быть равна долям России и Пруссии, а с Россиею вести дело еще о приобретениях от Турции; Россия, нуждаясь в мире с Турциею, согласится на все, лишь бы получить выгодный мир, лишь бы Австрия ему не препятствовала, а содействовала; наконец, этою сделкою можно будет отвлечь Россию от Пруссии и привязать к себе; дружественный тон, в каком говорили в Петербурге с Лобковичем, намеки на восстановление прежнего союза и доверие утверждали эти надежды. Император Иосиф писал брату Леопольду: «Прусский король очень ревниво смотрит на наши непосредственные связи с Россиею, и, кто знает, Порта своим неблагоразумным поведением не даст ли нам законной причины вмешаться в ее дела и будущим годом не положим ли мы в карман Белград и часть Боснии, как этим годом польские воеводства».
Но прусский король был тут с своим ревнивым и внимательным взглядом. Приказывая Сольмсу сообщить русскому двору о своем разговоре с фан-Свитеном насчет Силезии и потом турецких областей, Фридрих писал: «Нерасположение венского двора делить с нами Польшу происходит от желания приобрести любовь поляков, которые всю свою ненависть должны обратить на русских и на нас. Что касается приобретения Белграда и Сербии, я сказал фан-Свитену, что два года тому назад русские предлагали им всевозможные выгоды на счет турок, но они отвергли эти предложения. Признаюсь, что после такого поведения венского двора он не очень заслуживает, чтоб хлопотали в его пользу, и, по-моему, надобно ограничить их куском Польши, чтоб наказать их за их прошлое поведение». Внушение подействовало: по выслушании этой депеши прусского короля Совет в заседании 11 февраля решил, что «так как Австрия, избегая получить равную часть в Польше, хочет обратить все негодование за раздел последней на Россию и короля прусского, то нужно стараться привести венский двор к получению равной части в Польше». Таким образом, вызов Кауница Голицыну остался без ответа, что условило известное поведение Австрии во время Фокшанского и Бухарестского конгрессов.
Для Австрии было важно сближение с Россиею, если б последняя для этого отказалась, от союза с Пруссиею, восстановила бы прежние отношения, бывшие до 1762 года; но обстоятельства были еще не такие, чтоб могли побудить Россию к этому. Прежние елизаветинские отношения были возможны и необходимы, когда со стороны Пруссии обнаруживались беспокойные, завоевательные, опасные для всех соседей стремления, когда Австрию, доведенную до крайности, нужно было поддержать для противовеса Пруссии, когда даже Франция для этой цели изменила свою вековую политику. Но теперь интересы России и Австрии соприкасались в турецком вопросе; Австрия могла бы привлечь Россию на свою сторону, если бы решилась действовать прямо, объясниться откровенно, но она не хотела этого сделать прежде всего из опасения Пруссии, ее влияния на Россию, объяснялась или резко, враждебно, или загадочно. Таким образом, теперь не столько по искусству прусского короля, сколько по вине Австрии перемена русской политики, замена прусского союза австрийским были невозможны, а польское дело могло только возбудить мысль о тройном союзе между Россиею, Пруссиею и Австриею, связанными единством интересов по отношению к Польше. В Петербурге должна была очень нравиться мысль об этом тройном союзе, в котором Россия, при известном соперничестве между Австриею и Пруссиею, естественно должна была получить высшее, примиряющее значение. Но план тройного союза оказывался таким же неудобоисполнимым, как и прежний план Северного союза: соперничество между Австриею и Пруссиею, совершенная разрозненность их интересов не могли допустить союза между ними. Это резко обнаружилось при первой попытке.
6 июня Панин написал Голицыну в Вену: «Я с удовольствием примечаю, что венский и берлинский дворы начинают разуметь друг друга гораздо с меньшею претительностию, нежели до сего было, и вижу из всего этого, в чем они предо мною открываются, что сами они не признают уже невозможным теснейшее соединение и тройной союз наш относительно до сохранения и утверждения общей тишины и покоя в Европе. За какое же себе благодеяние почтет Европа, а особливо Германия, сию нашу систему? И можно ли предполагать рассудительно, чтоб какая-нибудь держава захотела восстать и воспротивиться оной? Да и не каждое ли замешательство между посторонними державами зависеть будет от большего или меньшего наклонения нашей системы в ту или другую сторону, так что по справедливости мир и тишина всей Европы в наших руках будет. По откровенному вашему обращению с кн. Кауницем изволите представить ему без формалитета и аффектации все оное в истинном разуме, так как и в самом существе есть оно собственным моим размышлением. Правда, мне представляются тут объекты, требующие великого уважения и встречающие сильные затруднения; но я признаюсь и в том, что не нахожу совсем неудобовозможным приведение оных в общую связь согласия. Между прочими германскими интересами особливо разумею я предстоящую большую в оных революцию по разрешению наследства курфюршеств Пфальцского и Баварского. Но неужели то, что в намерении, простирающемся до цели или конца какого-либо нового устройства, предприемлется действием оружия, не может никогда средством негоциации до того же приводимо быть? А ежели и не всегда такая невозможность настоит, то и в том предмете не может ли примирено быть противоборствование интересов венского и берлинского дворов? Но когда еще с обеих сторон взаимное истинное желание и добрая вера в том действовать будут, то и не представятся ли выгоднейшие для австрийского дома средства к распоряжению себя с берлинским двором, нежели с версальским, ибо невозможно, кажется, чтоб, не согласуясь ни с тем, ни с другим, отважиться против зависти и помешательств от обоих. Я, будучи уверен о благородном образе мыслей и честности сердца кн. Кауница, нимало не сумневаюсь, что он почтет сам за верх удовольствия и славы своей такое здание, в котором я по склонности моей и по великодушным сентиментам нашей государыни почел бы за особливое счастие быть соучастником, и если кн. Кауниц заблагорассудит сделать мне об оном отзыв для открытия мною к тому первого пути, то покорно прошу уверить его, что я мнение и предложение его о том приму с истинным удовольствием и поступлю так, что, конечно, кн. Кауниц не будет сожалеть об учиненной мне в том доверенности». Кауниц отвечал Голицыну с полною откровенностию. «По моему мнению, – сказал он, – все договоры о союзе и теснейшей дружбе тогда только бывают действительны и полезны, когда договаривающиеся державы совершенно уверены взаимно в добрых и искренних намерениях друг друга. Следуя этому началу, я, с своей стороны, не желаю никогда удаляться от союза с российским двором, ибо уверен не только в великой пользе от этого союза для обоих дворов, но и в праводушии российского двора, на который не отрекусь полагаться во всех случаях. Но иначе рассуждаю я о берлинском дворе, которого скрытная и корыстолюбивая политика мне уже довольно известна, и думаю безошибочно, что этот двор по нынешним тесным связям своим с российским всегда будет стараться не допускать обоих императорских дворов к ближайшему соединению. Впрочем, мне кажется, что бесполезно начинать вдруг разные дела и что по окончании нынешнего польского дела будет больше удобства решить и другие».
Вслед за этим ответом Голицын получил известие о разговоре императора Иосифа с одним доверенным лицом: «Чем более я думаю о польском деле, тем менее могу утаить от себя, что два императорские двора не обратили должного внимания на свои истинные политические интересы, когда решились на раздел Польши. Самую большую выгоду получит от этого, очевидно, король прусский: соединение двух главных частей Прусского государства, большие средства распространить торговлю, качество областей, достающихся ему на долю, – все это даст ему перевес. Поэтому я думаю, что оба двора лучше бы сделали, если б никогда не дотрагивались до Польши, но согласили бы свои взаимные интересы приобретениями от Турции». Пересылая это известие, Голицын писал: «Императрица-королева оказывает решительное отвращение от польского дела и не принимает в нем никакого участия». Последнее известие мы имеем право принять как вполне справедливое; что же касается до первого, то очевидно, что оно было внушено Голицыну нарочно, чтоб поддерживать у русского двора память о возможности и необходимости новых соглашений и новых связей по турецким делам. Что взгляд Иосифа не расходился со взглядом Кауница, что оба сначала хотели сделать хорошие приобретения на счет Польши, а потом обратиться к Турции, ясно видно из вышеприведенного письма Иосифа к Леопольду: в 1772 году взять польские воеводства, а в следующем – Белград и Боснию. Для последнего нужно было продлить войну России с Турциею, истомить обе державы, заставить Россию обратиться к Австрии. Когда Голицын объявил Кауницу о разрыве Фокшанского конгресса, то не приметил «в духе его надлежащей чувствительности, а только просто отозвался, что удивляется, как русские уполномоченные начали переговоры таким предложением, каким следовало кончить». Кауниц должен был так говорить, чтоб показать несостоятельность русских людей, чтоб показать, какую ошибку сделал русский двор, не приняв помощи, посредничества Австрии, поручив ведение дела неопытному Орлову, а не искуснейшему дипломату Тугуту.
Фокшанский конгресс рушился, начался Бухарестский, Россия испугалась шведской революции, уступает туркам – все это очень выгодно для Австрии, все это усиливает надежду, что второе дело не уйдет, а между тем надобно покончить как можно выгоднее первое – польское.
После того как Австрия объявила о своем желании участвовать в разделе Польши и Россия подписала свою конвенцию с Пруссиею об этом разделе, Фридрих II был очень доволен, был доволен Россиею, даже был доволен Австриею. «Подписание нашего соглашения, – писал он Сольмсу 1 марта н. с., – доставило мне бесконечное удовольствие. Я всегда смотрел на это соглашение как на новую связь, которая должна сделать неразрывную дружбу между двумя дворами, и мне трудно было бы выразить вам, как я доволен завершением дела, столь благодетельного для обоих дворов. Риск, которому подвергается австрийский двор, если обманет нас, утверждает меня во мнении, что теперь он действует добросовестно. Другое дело с Франциею. В положении, в каком находится это государство в настоящую минуту, венский двор может обманывать его безнаказанно. На что можно положиться – это взаимная гарантия наших приобретений в Польше, торжественно обещанная венским двором; и дело возможное, что со временем из этого произойдет союз между тремя дворами, против которого я, конечно, не скажу ни слова: напротив, я буду этому очень рад, ибо ничто не в состоянии так утвердить навсегда спокойствие Европы. В самом деле, пока столь могущественные три двора, как наши, будут в дружбе и союзе, никакой другой двор не посмеет ничего предпринять для его нарушения. Таким образом, во всех отношениях я не могу достаточно выразить вам свою радость, что дела приняли самый выгодный и благоприятный оборот».
От 6 марта он писал: «С удовольствием увидал я дружественный тон, с каким граф Панин начал переговоры с Австриею. Нет никакого сомнения, что соглашение последует скоро. Князь Кауниц боится, чтоб французы или англичане не помешали этому делу, и потому он поспешит кончить его как можно скорее. Вы меня спрашиваете, как изложить наши права на Польшу. Думаю, что краткий и простой манифест будет самый приличный. Я посылаю вам проект, который можете показать графу Панину; и он может сделать поправки, как ему заблагорассудится. Думаю, что, передавши его полякам, неприлично было бы превратить дело в адвокатскую речь: три двора должны объявить сообща, что они сами удовлетворили своим требованиям, чего никогда не сделала бы Польша, в которой нет никакого правосудия. Теперь ничто не заставляет спешить взятием во владение польских областей; и граф Панин не должен бояться, что мое нетерпение повредит делу. Впрочем, я того мнения, что надобно кончить польские дела прежде открытия конгресса в Турции. Что касается турок, то их легко заставить переварить раздел Польши, внушая, что благодаря ему русские возвращают им Валахию и Молдавию».
Но Фридрих недолго находился в таком приятном расположении духа. 21 апреля н. с. фан-Свитен объявил ему долю, которую назначил себе венский двор из польских владений: то была вся Галиция, вся Червонная Русь, по которой польские короли величали себя русскими государями. «Черт возьми, господа, у вас, я вижу, отличный аппетит, – сказал Фридрих, взглянувши на карту, – ваша доля так же велика, как моя и русская вместе; поистине у вас отличный аппетит!» Фан-Свитен начал подробно объяснять, что равенство долей не состоит в величине их по ландкарте, но преимущественно в политическом значении, а в этом отношении прусская и русская доли гораздо важнее австрийской; положение польской Пруссии несравненно по удобству округления и свободных сообщений, которые она даст Прусскому государству; Австрия приобретает только земли, а Пруссия – целое королевство. «Правда, – сказал король, – приобретение польской Пруссии мне выгодно; но, с другой стороны, ведь это песок; мне кажется, надобно обращать внимание на плодородие страны и количество народонаселения. Ну, вы определили свою долю немного больше, немного меньше; я не стану придираться, но позвольте вам сказать, что у вас отличный аппетит». Но Фридрих еще прежде знал об австрийской доле и 18 апреля писал Сольмсу: «Доля из раздела, которую австрийцы предоставляют себе, вовсе не меньше польской Пруссии вместе с остальными приобретениями русскими и прусскими, кроме того, она заключает в себе соляные копи польского короля, которые одни приносят дохода миллион талеров. Так особенно постарайтесь обратить внимание графа Панина на алчность, обнаруживаемую в этих претензиях, чтоб он не сделался игрушкою ловкости князя Кауница. Я вам объяснил вред, который последует для моих собственных соляных промыслов, если австрийский двор получит польские промыслы. Из последнего письма русской императрицы я вижу, что спешат окончанием дела с венским двором; я вовсе не намерен этому препятствовать; я хотел бы только уговорить русский двор, чтоб он убавил что-нибудь из австрийских требований, по крайней мере урезал бы те дистрикты, обладание которыми может мне вредить». 22 апреля новая депеша: «Всего важнее теперь определение доли венского двора в разделе Польши. С нетерпением жду известий, как австрийские требования приняты в России. Если венский двор получит все, то не будет никакого равновесия между нашими приобретениями и весы покачнутся на его сторону, тем более что он уже и теперь сильнее меня. Чтоб восстановить равновесие, надобно и наши доли сделать значительнее. Но если Россия не слишком поторопится во всем этом, то я надеюсь, что еще все может уладиться дружелюбно в Петербурге». В Берлине, впрочем, скоро успокоились, нашедши средство примирить австрийские требования с прусскими выгодами. Английский посланник в Берлине дал знать своему двору о письме принца Генриха одному доверенному лицу; в этом письме говорилось: «Требования Австрии чрезмерны; мы должны торговаться с венским двором) как с купцом, и покончить торг, как только можно. Если он не спустит свои требования, то мы поднимем свои. Боятся разрыва, но этого никогда не будет. Участники могут найти выгоду только в соглашении».
В Петербурге 13 апреля в присутствии императрицы в Совете читалось объявление венского двора о польских землях, которые он определил себе. Совет решил, что надобно стараться исключить из австрийской доли соляные копи и город Львов: первые в уважение причин, представленных королем прусским, и также чтоб не лишить польского короля главного дохода, который идет с этих копей; а Львов нельзя отнять у Польши потому, что там составляются и хранятся все акты польского шляхетства. На основании этого решения было сделано венскому двору представление о необходимости ограничить его долю. В этом представлении было вычислено, что Россия получает 550600 душ народонаселения, Австрия – 816800, а Пруссия – 378750.
Сольмс уведомил короля, что Панин уже говорил с кн. Лобковичем о невозможности согласиться на австрийские требования. Фридрих, выражая надежду, что внушения Панина произведут надлежащее действие, писал Сольмсу (17 мая), что надобно желать скорого окончания дела, тем более что Франция не пренебрегает ничем, чтоб поссорить Австрию с Пруссиею. По известиям, полученным в Берлине, Франция надеется успеть в своем намерении, возбуждая Порту к продолжению войны, и вполне убеждена, что ее внушения и убеждения получили полное торжество в Константинополе. Французское министерство воображает также подействовать на императора внушениями, что ему выгоднее действовать слабо в примирении России с Портою, выгоднее для него, чтоб эти государства взаимно истощали друг друга, причем Австрия будет продолжать получать турецкие субсидии. По мнению французских министров, военного и морского, Франция должна предложить Порте выгнать русский флот из Средиземного моря: тогда Порта, ободренная этою диверсиею, будет продолжать войну и вознаградит свои потери, а венский двор, возбужденный таким отважным действием со стороны Франции, возвратится к союзу с нею, чтоб освободиться от соглашения с Россиею и Пруссиею, к которому приступил поневоле. «Планы эти действительно были предложены, – писал король, – но так как у Франции совершенно недостает главных средств – системы, твердости и денег, то, наверное, от них откажутся. Граф Вельгурский (польский уполномоченный во Франции), получивши известие о вступлении австрийских и новых русских войск в Польшу, тотчас поехал в Версаль для сообщения этих известий герцогу Эгильону. Последний выслушал его с неудовольствием и нетерпением, как человек, знающий гораздо более. Когда Вельгурский спросил, что же Франция, неужели покинет Польшу в беде и даст ее в раздел соседям, то герцог отвечал ему: „Как пособить делу? Ваша слабость чрезвычайная, и наши усилия будут бесполезны. Это событие есть следствие вашего разъединения и гадких интриг моего предшественника“». Фридрих писал далее: «Гнев польского короля и его фамилии преимущественно направлен против меня; они бы желали, чтоб Россия и Австрия взяли втрое больше, чем я. Они надеются, что Порта не помирится, узнавши о проекте раздела Польши; надеются также поднять раздор между ними, надеются, наконец, что отдаленные державы поднимутся против наших приобретений».
Дело затянулось, что сильно раздражало Фридриха. «Посылаю к тебе письмо русской императрицы, – писал он брату Генриху, – из него я вижу, что она уже не так довольна австрийцами, как прежде; кн. Кауниц влагает в эти переговоры весь дух шиканства, какой только они допускают. Это меня бесит, ибо замедляет вступление в обладание нашею долею и причиняет всякого рода неприятности как относительно поляков, так и других иностранных держав, которым при таком нерешительном положении не знаешь, что отвечать. Я видел большую часть куска, который выпадает на нашу долю; мы всего больше выигрываем относительно торговли; мы становимся хозяевами всех произведений и всего ввоза Польши; а самая главная наша выгода состоит в том, что, становясь господами хлебной торговли, мы не будем никогда терпеть голода».
Молодой подражатель старого Фридриха император Иосиф также сгорал нетерпением и сильно жаловался брату Леопольду на медленность, с какою велось дело в Вене. Он писал, что никак нельзя уступать требованиям России, что Австрии необходимо иметь часть Краковского воеводства для сообщения с Силезиею и Моравиею; необходимо иметь соляные копи, ибо это почти единственная доходная статья во всей Галиции; необходимо иметь Львов, ибо это единственное место, способное быть правительственным центром. От 17 июня Иосиф уведомлял брата, что генерал Дальтон уже занял соляные копи и привел к присяге чиновников. 9 июля Иосиф писал брату, что дела в Польше идут порядочно, австрийские войска выхватили из-под носа (soufflй) у русских Тынец. Крепкий монастырь Тынец, в котором засели конфедераты, был обложен Суворовым, когда к нему приблизились австрийцы под начальством генерала Дальтона. Последний начал беспрестанно присылать к Суворову с предложениями передать Тынец австрийцам, которым конфедераты охотно отдаются, и напрасно употреблять тут силу и губить людей, где без того обойтись можно. Суворов постоянно отвечал, что конфедераты должны положиться на милость императрицы и сдаться, что он никаких условий с ними постановлять не будет и, сверх того, не может оставить осаду Тынца без приказания главного начальника Бибикова. Тогда Дальтон еще ближе придвинул свой лагерь к войскам Суворова, и многие австрийские офицеры без спросу начали перебегать в Тынец к осажденным. Суворов послал сказать Дальтону, что если кто из австрийцев осмелится пробираться в Тынец, то с ним будет поступлено, как с неприятелем. Дальтон после этого отодвинулся от монастыря и дал Суворову обещание никого более из своих не пускать в Тынец. Но 23 июня ночью по его приказанию 20 человек пехоты и 10 пеших гусар поодиночке пробрались сквозь русские посты в Тынец; но другая команда была окликнута русскими часовыми, спряталась в рожь и взята русским пикетом. На другой же день Дальтон прислал объявить Суворову, что в Тынце уже более не конфедераты, но австрийское войско и потому он, Суворов, не должен не только стрелять в монастырь, но обязан снять осаду. Суворов отвечал, что он этому верить не может, ибо никакой отряд австрийцев в монастырь не проходил, и сам Дальтон обещал никого не пропускать, и действительно прошлую ночь пробежало в Тынец несколько дезертиров; он, Суворов, уверяет ген. Дальтона, что эти дезертиры, по взятии Тынца, возвращены будут в австрийское войско; осада же монастыря и стрельба будут продолжаться по-прежнему. Но Дальтон прислал с требованием, чтоб позволено было провозить в Тынец съестные припасы для пропитания его людей, в противном же случае он окружит Величковский замок, где находился русский отряд, и запретит пропускать туда съестные припасы. Суворов опять отвечал, что так как в Тынце одни возмутители, австрийских войск там быть не может, то и он не может позволить провоза туда съестных припасов. Бибиков, получа эти донесения от Суворова, испугался, чтоб дело не дошло до вооруженного столкновения, и послал приказание в Люблин к ген.-поручику Романиусу ехать под Тынец и постараться прекратить вражду между Суворовым и Дальтоном, а если последний будет продолжать враждебное поведение, то дать знать об этом ему, Бибикову, которого находившийся в Варшаве австрийский генерал граф Ришкур уверил, что Дальтон будет сменен за свои поступки: в то же время Суворову было послано приказание уклоняться от крайностей. Как видно, тот же Ришкур дал знать Дальтону, что может действовать безопасно, ибо у Суворова руки связаны приказанием Бибикова, и Дальтон еще до приезда Романиуса прорвался чрез русский кордон и занял Тынец, а потом, когда приехал Романиус, начал оказывать ему всевозможные учтивости.
Между тем Фридрих II обратился в Петербург с советом согласиться на австрийские требования с тем, чтоб и прусская доля была увеличена городами Данцигом и Торном. 10 июня Сольмс прислал Панину письмо: «Из затруднений, противопоставляемых Австриею для успешного окончания дела, два выхода: первый состоит в том, чтоб открыто воспротивиться намерениям венского двора. Но это поведет далеко, удалит умиротворение Польши, усилит смуту; Россия и Пруссия не смогут привлечь поляков на свою сторону против Австрии, которая обратится к своим старым связям; в Европе возгорится общая война, за что? В этом не легко будет признаться, и, если бы даже война кончилась в нашу пользу, она бросит семена другой войны вследствие вражды, которая возникнет между различными дворами, которые примут в ней участие. Другой выход состоит в применении к обстоятельствам, в удовлетворении австрийским требованиям. Но в таком случае будет несправедливо, чтоб прусский король, который не переставал давать существенные доказательства своей дружбы к России и который, вняв дружественным представлениям императрицы, отказался от приобретения таких частей Польши, которые гораздо важнее для Пруссии, чем краковские соляные промыслы и Львов для Австрии, остался без вознаграждения. Если русский двор, чтоб не погрузить Европу в новую войну, предпочитает уступить требованиям Австрии, то смею ласкать себя надеждою, что он не будет в этом случае противоречить и тому, чтоб прусский король прибавил еще к своей доле города Данциг и Торн, которые и без того уже окружены его новыми владениями и без которых главная выгода приобретения от Польши, состоящая в округлении прусских владений, не будет никогда полною. В этом будет состоять единственная возможность для Пруссии согласиться без труда и отвращения на то, чтоб могущественный и опасный сосед захватил себе такие обширные и важные земли. В этом же заключается единственное средство покончить дело скоро и спокойно. Опасаюсь и того, что если продлятся споры о равенстве долей, то между дворами венским и берлинским произойдет гибельное столкновение». Сольмс обратился к кн. Лобковичу с внушением, чтоб Австрия не препятствовала присоединению Данцига и Торна к Пруссии; Лобкович дал знать об этом Панину и получил от него успокоительный ответ, что Россия никогда не согласится на уступку Пруссии упомянутых городов. Но для этого и Австрия должна была уступить.







