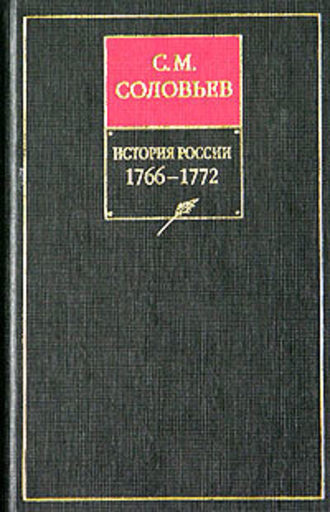
Сергей Соловьев
История России с древнейших времен. Книга XIV. 1766–1772
«Когда трудились над возобновлением торгового договора, – отвечал Панин, – то главною нашею мыслью было установление самой точной взаимности. Британский устав (Акт мореплавания) полагает границы участию иностранцев в английской торговле. Надобно было внести статью, которая бы служила противовесием этому акту; вот почему мы оставили за собою право сделать впоследствии такое внутреннее распоряжение, которое бы служило для ободрения и распространения русского мореплавания, право, которого нельзя у нас отрицать без явной несправедливости, без посягновения на независимость нашего правительства. Чем же станет после того независимое правительство, если у него отнимется власть делать что ему угодно внутри государства? Конституция, уже действующая, может ли быть священнее свободы установить подобную конституцию, когда она будет признана выгодною? Государство стало бы предписывать законы другому, если бы сказало ему: у нас есть уставы, из которых давно уже мы извлекаем большие выгоды; у вас еще нет подобных; настоящий порядок вещей в нашу пользу, поддержим его во всей ненарушимости! Торговля может быть основанием английской политики; но торговля не уничтожается потому только, что нет договора, определяющего ее условия. Наши взаимные нужды, существуя постоянно одинокими, установят различие, которое мы взаимно постановим между русскими и английскими подданными и подданными других держав и поддержим во всей силе политические отношения, нас соединяющие. Затруднение, встреченное при ратификации торгового договора, не может произвести никакой перемены в отношениях между императрицею и королем, никакого нарушения системы, которую оба двора имеют в виду для спокойствия Севера. Союзный договор точно так же предполагает совершенное единство интересов, как и договор торговый. Препятствие, встреченное при заключении торгового договора, не должно отнимать у нас дух; наоборот, мы должны с большим жаром стремиться к заключению союза, который возвестит Европе, что никакое препятствие не может порознить политическую систему России от политической системы Великобритании. Мы первые докажем это тем, как будет поступаемо с английскими купцами в России без договора; этим обхождением мы покажем, что умеем отличать друзей своих».
По поводу этой неудачной для себя борьбы Макартней писал своему министерству: «Я должен заметить, что оба государства находятся в заблуждении относительно друг друга. В Петербурге воображают, что лондонский двор может заставить британскую нацию усвоить его идеи так же легко, как русская императрица может заставить своих подданных повиноваться ее указу. Хотя я употреблял необыкновенные усилия, чтобы объяснить им разницу между обоими правительствами, они не умеют или не хотят понять ее. Наша ошибка на их счет состоит в том, что мы смотрим на них как на народ образованный и обращаемся с ними так, тогда как они вовсе не заслуживают этого названия, и смело скажу, что Тибетское государство или владения попа Ивана имеют на него такое же право. Ни один из здешних министров не понимает по-латыни, и немногие обладают начальными литературными сведениями. Гордость – дитя невежества, и потому неудивительно, если действия здешнего двора иногда отзываются высокомерием и тщеславием. Приводить Гроция и Пуффендорфа петербургским министрам все равно что толковать константинопольскому дивану о Кларке и Тиллотсоне. Мне говорили, что обычные формы сношений, употребляющиеся при других дворах, при здешнем введены только в нынешнее царствование. И Панин, и вице-канцлер – оба уверяли меня, что во времена императрицы Елисаветы Бестужев подписывал все трактаты, конвенции и декларации без полномочия от государыни. Понятно, что международное право не может сделать больших успехов в стране, где нет ничего похожего на университет. Так как они варвары и невежды во всем том, что способствует умственному развитию и ведет к открытиям, то я мало опасаюсь их успехов в торговле и мореплавании. Как дети, они прельщаются каждою новою идеею, преследуют ее некоторое время и потом покидают, когда в их воображении является другая. Постановления Петра Первого 1718 года основаны на нашем Акте мореплавания; но, думаю, ни одна морская держава не почувствовала никакого вреда от них. Их жар к морскому делу так скоро простыл, что при Петре II князь Долгорукий издал указ, которым останавливалось даже кораблестроение. При императрице Анне они опять переменили мнение и возобновили прежнюю систему; несмотря на то, все их последние коммерческие предприятия сопровождались убытками, неудачами и стыдом. Их упорство в настоящем случае происходит чисто от высокомерия, и гораздо труднее переломить русского в деле гордости, чем в деле интереса. По моему крайнему разумению, совершенно невозможно уговорить их на уступку нашему требованию, и потому я думаю, что надобно ратификовать договор, ибо иначе мы можем многое потерять».
Когда иностранный посланник начинал сильно бранить Россию и русских, именно упрекать их в варварстве и невежестве, то это обыкновенно было признаком, что русский двор сумел охранить свое достоинство и свои интересы. Будучи сердит на Панина, Макартней с удовольствием извещал свое министерство об ослаблении его влияния, передавал, что Панин страстно влюбился в графиню Строганову, дочь бывшего канцлера Воронцова, которая ищет развода со своим мужем. Вследствие своей несчастной страсти Панин стал небрежен и рассеян, дела остановились, а сам он теряет уважение общества, которое не может простить такого увлечения человеку его лет и положения; враги указывают на дурной пример, подаваемый министром и, главное, воспитателем наследника престола; под врагами Панина прежде всего разумелись Орловы; главными же друзьями Панина по отъезде Сальдерна оставались Чернышевы. Но к несчастию для Макартнея, эти отношения нисколько не изменяли дела о торговом договоре, и он должен был подписать его в той форме, в какой требовал Панин.
Торговый договор был заключен; оставалось заключить союзный; и в Англии охотно заключили бы его: здесь нравилась Северная система, противоположная южной; но по-прежнему существовал камень преткновения: Англия никак не соглашалась включить Турцию в случай союза, т.е. обязаться помогать России и против нее. Макартней в начале 1767 года писал своему министерству, что остается одна надежда на уступку со стороны русского двора: если вследствие неудовольствия в Швеции или волнения в Польше Франция примет явно сторону первой, а Австрия сторону второй, то обстоятельства могут сделать для России английский союз необходимым. По-видимому, ожидания Макартнея сбывались: в Польше обнаружились волнения. В начале 1767 года Репнин спрашивал Панина, надобно ли восстановлять диссидентов во всех старых правах их, за исключением только должности великих гетманов; надобно ли ограничить число диссидентских депутатов на сеймах или дать им полное равенство с католическою шляхтою. Панин отвечал, что надобно представлять дело полякам различно, смотря по тому, кто будет у него об нем спрашивать. Людям равнодушным, не принадлежащим ни к какой партии, надобно отвечать, что диссидентское дело двойное по природе своей, церковное и гражданское, почему и русские требования разделяются надвое. По отношению к церковной стороне дела истина несомненная и признанная даже на последнем сейме самим польским духовенством, что диссиденты утеснены против законов и правды, и потому мы требуем уничтожения вкоренившихся злоупотреблений и установления для них на будущее время полной свободы общественного богослужения. Что же касается прав гражданских, то мы с самого начала представляли их предметом переговоров, следовательно, намерение наше было покончить дело полюбовно, на разумных условиях. Мы не изменяем наших намерений и теперь (хотя дело доведено до крайности упорством польского двора), если противная партия, признав свои ошибки и желая избежать опасностей, грозящих республике, станет вести это дело с нами откровенно и полюбовно. Если искренне захотят сохранить спокойствие отечества, то диссиденты не станут делать излишних требований и удовольствуются средством, которое бы могло обеспечить им известное равенство с своими согражданами. Но с теми, которые, будучи недовольны двором, стали бы искать покровительства ее и. в., составили бы особую партию и захотели бы даже образовать конфедерацию в полной форме, с такими надобно держать другую речь, надобно внушать им, что ее и. в. вовсе не имеет вредных намерений против католической религии, напротив, дозволяет ей преимущества пред другими исповеданиями. Мы охотно соглашаемся на то, чтобы католики пользовались исключительно важнейшими должностями в государстве, например должностями великих гетманов и министров; также чтобы они составляли большинство в законодательстве и судебном управлении, определивши число диссидентских депутатов на сейме и в судах. При таких преимуществах католики могут оставаться спокойными и безопасными со стороны диссидентов; кроме того, раздача должностей и милостей будет зависеть единственно от короля-католика, а можно ли предположить без оскорбления здравого смысла, чтобы тут диссиденты не только взяли верх, но и могли соперничать с католиками? «Излишним считаю рекомендовать в. с-ству, – писал Панин, – чтобы вы этими и подобными изъяснениями приучали поляков смотреть с большим равнодушием на то, что будет нами предприниматься в пользу диссидентов, ибо в самом деле если только мечта фанатизма и предубеждения будет у них вынута из глаз, то не могут они сами не признать, что восстановление диссидентов в правах возвратит законную целость поврежденной их конституции, утвердит тишину их отечества, истребив корень взаимной вражды и ненависти, и доставит католической религии не путем насилия, но добровольным согласием других исповеданий в роды родов характер господствующей религии, каковой характер в противном случае таким же насилием и так же легко может быть у нее отнят, как она его себе присвоила и теперь присваивает». К этому ответу Панин присоединил собственноручный постскрипт: «Все предписанное прозорливостью умеряемо быть должно; сокращение некоторое в равенстве исполнения веры и гражданских прав диссидентам полагается для предупреждения больших замешательств и для скорейшего окончания одними нами сего дела с утверждением себе нового права инфлюенции в правительстве польском, а восстановление того равенства, сколько возможно, остается навсегда основанием нашего интереса, и потому сии два предмета всегда должны быть согласуемы между собою».
Для окончательного определения отношений к Чарторыйским Панин писал им, чтобы они решительно ему отвечали, согласны ли они содействовать видам России относительно диссидентов. Чарторыйские отвечали уклончиво, уверяя в своем неизменном желании видеть отечество в тесном союзе с Россиею, в своей преданности особе императрицы. Репнин сказал им, что их письмо отличается неопределенностью, что нечего толковать о своих добрых намерениях, надобно доказать их на деле, поступая так, как мы хотим. «Вы представляете опасности от диссидентской конфедерации для самих диссидентов, а не говорите, как же сделать иначе. Опасность будет грозить не диссидентам, а тем, которые позволят себе причинить какое-нибудь насилие диссидентам, потому что Россия отомстит страшно обидчикам. Вы не говорите ни слова, будете ли действовать согласно с нами на будущем сейме, чтобы привести к желанному концу диссидентское дело во всей его полноте. Вы внушаете в своем письме, что надобно доставить Польше какие-нибудь выгоды для облегчения диссидентского дела; пожалуйста, говорите ясно, потому что мы не хотим терять времени в переговорах». Чарторыйские отвечали, что они не могут сами взяться вести диссидентское дело, ни предложить какое-либо средство для его успешного окончания. Во время разговора у одного из Чарторыйских вырвались слова, что скорее выгонят диссидентов из Польши, чем согласятся допустить их к занятию должностей. Репнин сказал на это: «Те же самые государства, которые просят теперь о восстановлении диссидентских прав, придут и вооруженною рукою потребуют возвращения всех. диссидентских имений и скорее перевернут всю Польшу, чем откажутся от своих требований». Репнин показал ответ Чарторыйских диссидентским вождям и спросил, когда они будут готовы со своей конфедерацией. Те назначили 9 марта с. ст. текущего года, и Репнин дал знать в Петербург об этом сроке, чтобы к тому времени русские войска были готовы вступить в Польшу. С другой стороны, вполне предавшийся Репнину референдарий коронный Подоский отправился в объезд по главным противникам фамилии , к Потоцкому, Оссолинскому, Мнишку, к епископам Солтыку и Красинскому, испытать их расположение, обещать покровительство России, посредством которого они могут взять верх над Чарторыйскими, если только согласятся содействовать диссидентскому делу. «Подоский – лицо духовное, – писал Репнин, – но он вовсе не фанатик и думает гораздо больше о благах мира сего, чем о венце мученическом; это человек ловкий и очень разумный. Он будет уговаривать вельмож написать коллективное письмо к императрице с просьбою своим высоким покровительством восстановить законы, нарушенные в настоящее царствование, и обеспечить их силу навсегда. Он будет уговаривать их составить конфедерацию, как скоро наши войска войдут в Польшу, ибо эти войска будут их защищать». Тот же Подоский написал к находившемуся в изгнании князю Радзивилу с приглашением пристать к русской стороне.
Велась переписка с Чарторыйскими; вследствие неудовлетворительности их ответа обратились к их врагам: о короле как будто забыли, к нему не обращались ни с какими вопросами и внушениями. В конце января Станислав-Август решился сам затронуть Репнина о политике и сделал к серьезному разговору шуточный и не очень благопристойный приступ. «Французская актриса Клерон, – начал король, – предлагает мне свои услуги, и я хочу ими воспользоваться; но беспокойства нынешнего года не помешают ли удовольствиям?» Репнин отвечал, что удивляется, как его величество серьезные дела мешает с такими мелочами. Но король продолжал разговор об актрисе и кончил вопросом: «Не пойдете ли вы на нас войною?» Репнин отвечал, что это зависит от них, потому что война бывает там, где есть сопротивление; кто же не сопротивляется ни прямо, ни происками у других, но, видя и право, и силу в соединении, старается им удовлетворить добрым манером, смотря с терпением на подвиги их, тот не может опасаться войны. «Мое мнение то же самое, – сказал на это король, – уверяю вас, что не хочу ни прямо, ни стороной противиться России в случае вступления ваших войск сюда; но кроме этого что вы мне присоветуете еще делать?» «Удовлетворить нашим требованиям, – отвечал Репнин, – если это удовлетворение будет соединено с осторожным и благоразумным поведением, то в. в-ство непременно достигнете прежней дружбы с Россиею».
Вожди диссидентов, Взявши у Репнина. 20000 червонных, сдержали слово, ему данное. К назначенному сроку, в марте месяце, образовалась конфедерация из протестантов в Торне, маршалом которой был граф фон Гольц; в то же время образовалась другая конфедерация в Слуцке под маршальством генерала Грабовского; к ней принадлежали православные Новогрудка и других соседних областей. Переговоры с Радзивилом, ведшиеся посредством саксонского агента Алоэ, кончились успешно. Радзивилу обещано было позволение возвратиться в отечество с восстановлением во всех правах и в прежнем значении, но под условиями: действовать в интересах русской императрицы, особенно поддерживать ее намерения относительно диссидентов, не притеснять их в своих имениях, возвратить им их церкви, выдавать русских перебежчиков, вести себя благоразумно. Последнее условие считалось необходимым, потому что знаменитый вельможа, особенно под веселый час (а эти часы были не редки), позволял себе дикие выходки. Радзивил был в восторге от русских предложений и 28 февраля из Дрездена отвечал Репнину, что, проникнутый чувством самой живой признательности к императрице за предлагаемое покровительство, покорный ее великодушной воле для блага республики и всех добрых патриотов, провозглашает и обещает, что будет всегда держаться русской партии, что приказания, которые угодно будет русскому двору дать ему, будут приняты всегда с уважением и покорностью и что он будет исполнять их без малейшего сопротивления, прямого или косвенного. Чтобы не оставить никакого сомнения насчет своих поступков, чтобы не дать врагам ни малейшей возможности чернить его и в знак покровительства императрицы Радзивил просил, чтобы при нем постоянно находился русский чиновник, который бы давал ему непосредственно знать о намерениях императрицы. В заключение Радзивил обещал содействовать успеху диссидентского дела всеми силами и в тех размерах, какие русский двор заблагорассудит дать этому делу.
Возвратился из своего объезда и Подоский; он донес, что Потоцкий, Оссолинский, Вельгурский, Солтык и некоторые другие согласны коллективным письмом просить покровительства императрицы и потом образовать под этим покровительством конфедерацию и провести диссидентское дело по желанию России, но хотят прежде всего видеться с русским послом. Репнин дал им знать, чтобы приезжали в Варшаву не позднее 10 апреля н. ст. «Кажется, сие начало столь хорошо, сколь желать было можно, – писал Репнин Панину, – однако я, быв уже здесь столько раз каждым особо обманут, за успех отвечать совсем не смею и стараться не упущу оный верным сделать». Разрыв русского двора с Чарторыйскими, неподатливость короля в диссидентском деле, движение русских войск в польские владения возбудили в принце Карле саксонском надежду на важные перемены в Польше, которыми он мог воспользоваться. Агент Карла Алоэ получил от него приказание сблизиться с Репниным и во всем сообразоваться с его желаниями. Это было выгодно для русского посла, потому что Алоэ был в сношениях со всею старою саксонскою партией, с которою теперь Репнин хотел действовать заодно. Мы видели, что через Алоэ велись переговоры с Радзивилом; при помощи Алоэ и Подоского Репнин составил проект литовской католической конфедерации, кроме коронной.
Когда образовалась диссидентская конфедерация и было обнародовано, что она находится под покровительством России, Репнин объявил Чарторыйским, что они теперь свободнее могут помочь ему, ибо фанатическое ослепление должно уменьшиться вследствие обнародованного им письма, в котором изложены намерения России, не имеющие ничего вредного для Польши, для католицизма. Чарторыйские отвечали, что будут содействовать ему по возможности, будут стараться и сами об уменьшении фанатизма и рады будут успеху в этом деле. Когда Репнин сказал им, что должны приехать к королю депутаты диссидентской конфедерации, то Чарторыйские начали просить, чтобы этого не было: этот поступок, по их словам, не заключал в себе никакой важности, ибо король не может дать никакого решения делу, один только сейм может это сделать; королю это может быть только крайне вредно, давши повод к развращенным толкованиям противников дела. Конфедерация, пока она не генеральная и не одобрена во всех воеводствах, не может почитаться законною, и король не имеет права принимать от нее депутатов. «Вижу, – писал Репнин, – что Чарторыйские стараются ужиматься и сколь можно менее всем открываться, боясь явно как нам противиться, так и согласие на сие оказать». Но он не мог им ничего сказать вдруг на их представления против присылки диссидентских депутатов; он снесся с конфедератами, и те отвечали, что для них необходимо принятие королем их депутатов, отказ в этом принятии будет знаком презрения к их конфедерации, такой отказ можно сделать только злодеям республики.
В двадцатых числах марта собрался в Варшаве сенатский совет, где читаны были декларации русского и прусского послов относительно диссидентов и акт диссидентской конфедерации. Совет кончился тем, что решили вызвать всех сенаторов для полного совета к 25 мая. По этому поводу Репнин писал: «Его величество, говоря со мною о сем, внушил мне вскользь, что нарочно он срок сего сенатского совета до вышеупомянутого дня отложил, дабы дать время нашим войскам более в землю вступить и по нужным местам расположиться, а далее же не вижу я, чтобы он подавался с нами согласно действовать, а уверяет только по-прежнему, что ничего против наших мер не предпримет; Чарторыйские же хотя в том же уверяют, а притом что и содействовать нам будут по возможности, но оную они всегда коротко ограничивают, а между тем по-прежнему принятию диссидентских депутатов упорствуют, отвращая от того и короля, который сам и на то бы склонился, если бы не удерживали, что он мне несколько и выразуметь дал. Я еще с твердостью о сем с Чарторыйскими изъяснюся». Станислав Понятовский высказал свой взгляд на ход диссидентского дела в письме к Жоффрэн: «В диссидентском деле императрица запросила слишком много, а сейм в слишком многом отказал». Это писал он в самом конце 1766 года, а в марте 1767 писал: «Не спешите осуждать меня, терпение, и я оправдаюсь. Терпение и мужество (?) – вот мой девиз. Буря приближается и будет страшная. С минуты на минуту я жду известия, что русские войска входят в мои владения. Я вам не скажу, что я сделаю: это невозможно, вы слишком далеко; я вам скажу только, что стараюсь сохранить голову очень холодную и повторяю себе пятьдесят раз в день, что бегать за славой глупость». Относительно Чарторыйских писал: «Аттик и Цицерон (Чарторыйские), видя себя в затруднительном положении между Компасом (Екатериною) и Площадью (общественным мнением), захотели на свое трудное место поставить Телемака (короля) своими советами, которые погубили бы его перед тем и перед другою. Тут Телемак сказал самому себе: служить общественному мнению есть известный род обязанности; но служить истинному благу государства есть обязанность более священная. Счастье, когда можно их согласить; когда же нельзя, надобно держаться последнего. Телемак, который, отказываясь до сих пор постоянно от собственного мнения, видел много раз, что было бы лучше ему следовать, поневоле решается, для избежания постановленных ему ков, следовать с этих пор собственному мнению и уже начинает видеть выгоду этого».
4 апреля Репнин уведомлял, что дело католической конфедерации в Литве идет хорошо благодаря деятельности графа Бростовского, старосты Быстрицкого, зятя князя Радзивила; но посол жаловался на коронных панов, которые своею медленностью и трусостью не дают делу движения в Польше. «Ваше высокопр-ство, – писал он Панину, – я думаю, часто считаете, что я слишком горяч; но я желаю истинно, чтобы ангел на моем месте был, уверен быв, что и тот бы терпение потерял с таковыми шильниками. Вам известно, что многие из здешних противных (двору и Чарторыйским) магнатов желали сюда съехаться, чтобы со мной видеться и решительные меры принять по настоящим делам, но, кроме воеводы Волынского, который сына своего прислал, и кроме подскарбия коронного Весселя, который сам приехал, никто из сих господ не бывал, сказавшись все больными. Ясно я вижу, что они отваливаются, желая чужими руками жар загребать и пристать, только когда дело будет уже сделано, представляя себе в своих химерах, что наш двор с здешними скрытно согласны, а только наружность противную имеют, и, провождая свое время в подобных сновидениях, сколь я ни стараюсь их истреблять; то же во лжи и в трусостях ежечасных: противные, боясь дворской и чарторыйской партии, а сии последние, боясь противной, и в страхе своем, который питают и умножают пустыми выдумками, только кричат и жалуются на правление и двор, а пошевелиться от раболепства не смеют. Таково есть сложение польской нации, из чего можете заключить, сколь приятно с ними дело иметь и сколь возможно на них полагаться».
Но, изливая свою досаду в письмах к Панину, Репнин не складывал рук: он привлек к себе крайчего коронного графа Потоцкого, человека молодого, но надежного по основательности своей и богатого, и отправил его побуждать магнатов приехать в Варшаву для свидания; тот же Потоцкий должен был приготовить актеров конфедерации, по выражению Репнина, в Галиции. Маршалом генеральной коронной конфедерации посол намеревался сделать самого князя Радзивила «для пугалища» Чарторыйским, для избежания убытков, потому что он сам себя содержать станет, и для ясного доказательства противной двору партии, что русский двор с польским никакого согласия не имеет; а чтобы Радзивил не наделал шалостей, то Репнин хотел приставить к нему полковника Кара с командой под видом прикрытия конфедерации, собственно же для того, чтобы держать маршала ее в руках. При этом надобно было покончить с делом принятия диссидентских депутатов королем. Репнин призвал к себе пана Огродского, управлявшего королевским кабинетом, и потребовал немедленного и прямого ответа на вопрос, примет ли король диссидентских депутатов или нет. Посол кончил свой разговор с Огродским словами: «Если король и министерство не захотят депутатов с пристойностью принять, то его величество рискнет лишиться дружбы нашей всемилостивейшей государыни». Слова эти произвели волшебное действие: Огродский возвратился с ответом, что «король, уважая дружбу ее и. в-ства и всегда желая доказывать свою к ней преданность, хотя совет его и противился, намерен, однако, принять депутатов диссидентских». Этот прием происходил 28 апреля н. ст. После предъявления своих желаний депутаты были допущены к королевской руке, что было знаком утверждения законности диссидентской конфедерации.
Наконец в конце апреля Репнин дождался приезда в Варшаву воеводы киевского Потоцкого, епископа каменецкого Красинского и маршала надворного Мнишка. Двое первых ревностно принялись за сочинение католических конфедераций, Мнишек сам поехал в воеводство Познаньское и Калишское для того же сочинения. Репнин все это время находился в «муке родин», по его выражению, потому что с магнатами было много хлопот, много было увещаний, ласок, споров и брани; всякий хотел иметь главное руководство делом, завидуя друг другу. Наконец Репнин принужден был прямо сказать им, чтоб «никто из них не льстился владеть им и делом, что он сам один хочет им руководствовать, а кому это не нравится, с тем никакого дела иметь не хочет». «Сей короткий ответ, – доносил Репнин, – кажется, их всех в границы привел и ревность их междоусобную утушил. Теперь надеюсь, что все пройдет порядочно. Между прочим, замашки были у сих новых приезжих, чтоб короля совсем с престола свергнуть; но я им строгое поручение против сего дал и все сии замыслы тотчас искоренил; и он (король) в великой горести и унынии духа легкомыслие свое увидел, но видит, что сие раскаяние пришло к нему несколько поздно. Я признаюсь, что не без жалости на его горесть смотрю: заведен он был или мошенниками, или вертопрашно горячими головами, и вина его главная от них произошла. Приласкайте его несколько». Когда разнесся слух, что будет образована католическая конфедерация, король начал всячески уговаривать Репнина отстать от этого намерения. Тот отвечал ему, что русский двор без этого уже не может обойтись, чтоб не зависеть более от одной воли князей Чарторыйских на будущем сейме; не желает полагаться единственно на обещания, а хочет быть уверенным в успехе. Король возразил, что успех и без того верен при виде силы, которая употребляется с русской стороны. «Так не угодно ли вам, – отвечал Репнин, – заранее письменно поручиться не только за диссидентское дело, но и за то, чтоб форма правления республики осталась во всей своей силе на прежнем основании и что для утверждения этого будут просить ручательства императрицы в непоколебимости прав, законов и вольностей республики». Это заставило короля замолчать против конфедерации, и он стал просить только, чтоб Репнин сообщил ему, в чем будет состоять акт конфедерации. Репнин отвечал, что первым делом конфедерации будет восстановление диссидентов в их правах, вторым – испрошение покровительства и помощи императрицы для охранения древней формы правления и ручательства за вечную ее твердость: князь Радзивил будет возвращен в отечество и получит во владение все свои имения; что же касается его, короля, то против его достоинства ничего не будет сделано, конфедерация отзовется о его особе с надлежащим почтением. «А для чего князь Радзивил будет маршалом конфедерации?» – спросил король. «Для того, – отвечал Репнин, – что я более уверен в его зависимости от нас, чем в зависимости всякого другого; я желаю иметь людей послушных, а не ждать из чужих рук исполнения моих собственных дел, тогда как я уже столько раз был обманут ложными обещаниями». Король начал было говорить против пункта ручательства императрицы за конституцию, но Репнин сказал, что это главный пункт. Станислав-Август кончил разговор обещанием, что будет смотреть на все это хотя с горестью, но тихо и терпеливо, на что Репнин сказал, что таким поведением он опять приобретет короткость и дружбу императрицы. После этого объяснения с королем является к Репнину Чарторыйский, воевода русский: «Конфедерации начинаются, обстоятельства такие деликатные; не знаю, как вести себя с фамилией и приятелями; боюсь, чтобы по незнанию не сделать чего-нибудь неприятного императорскому двору, которому мы так преданы». «Знаю силу твоих слов», – подумал Репнин и отвечал: «Конфедерации эти делаются против вредных новостей, введенных в правление; делаются против нарушения древних законов и формы правительственной, согласны, следовательно, с полезными видами ее и. в-ства насчет республики здешней; а сверх того, так как эти конфедерации прибегают к покровительству императрицы и ручательства ее просят для непоколебимого сохранения прав республики и вольностей, то это высочайшее покровительство им и следует с утверждением по их желанию, на все века, формы здешнего правления и преимуществ каждого. Но так как великодушие и человеколюбие суть основания справедливого поведения ее и. в-ства, вследствие того и не должны эти конфедерации никого силою принуждать к соединению с ними, а только тех злодеями почитать будут, которые против них действовать дерзнут. Поэтому вы, господа, совершенно вольны пристать к конфедерациям или нет, оставаясь покойными и нейтральными зрителями». Чарторыйский рассыпался в благодарности, превозносил умеренность русского правительства, нежелание употреблять силу и в заключение предлагал свои услуги, сколько может их оказать. Но услуги Чарторыйского могли только теперь затруднить Репнина: опять сближаться с Чарторыйскими значило удалить всех новых приверженцев, которые потому только и перешли на русскую сторону, что Репнин разладил с фамилиею .







