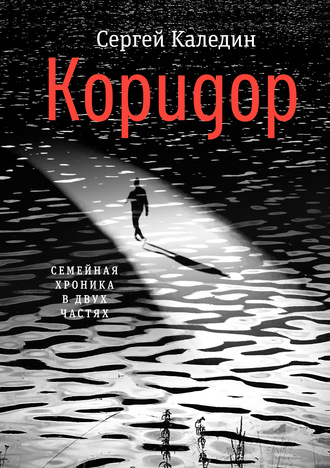
Сергей Каледин
Коридор
В квартиру позвонили два раза. Михаил Семеныч достал из жилета часы:
– Кто еще? Рано.
– Мань!.. Ты здесь?.. – Высокие двери распахнулись, и в комнату влетел запыхавшийся Роман, с разбега не увидел сидящего отца. – Нэп скоро накроется! Ты в курсе?..
Марья молча покосилась на сидящего сбоку отца.
– Здравствуйте, папаша! – осекся Роман. – Как доехали?
– Ори дальше, – спокойно сказал Михаил Семеныч, наливая себе чая из самовара. – Точку поставила? Еще варенья. – Посмотрел на сына: – Балабол!..
Марья послушно положила ему в розетку варенья и, защищая брата, напористо заговорила:
– И правильно. Хватит отступать перед мелкобуржуазным элементом. Рома, садись за стол.
– Элеме-е-ентом!.. – передразнил ее отец. – От дураки! Жрать чего будете?! Элеме-е-ентом!..
Роман смиренно сидел напротив отца, он был ладный, но лицом некрасив, с таким же, как у отца, разлапистым носом, что было Михаилу Семенычу приятно. У девок-то носы в мать, земля ей пухом, уточкой. «Ничего парень, – отметил про себя Михаил Семеныч, – хоть и дурак». Роман достался ему дороже всех, поэтому и любил его больше всех. Ну не больше, конечно, – Михаил Семеныч даже заерзал от этой мысли, – он всех детей любил одинаково, но все-таки те – девки, а парень – другое дело.
В десять лет Ромка с приятелями поджег сарай соседа, в двенадцать из поджиги чуть не убил товарища. За сарай Михаил Семеныч заплатил сто рублей и отодрал сына карчеткой, какой чистят трепальные станки. За пробитую голову дал уже двести и драл сына, пока не устал.
В пятнадцать Роман отчебучил похлестче: вступил в комсомол. Михаил Семеныч привычно взялся за карчетку, но Ромка, набычившись, пригрозил, что уйдет из дома, а в комсомоле все равно останется. Михаил Семеныч поглядел на него и увидел, что перед ним уже не шелудивый пацаненок, а высокий костлявый парень с прыщавым подбородком, и опустил руки. Потом, когда гнев его сошел, подумал, что ведь и сам не против советской власти, еще при царе ссыльным одежонку на этап посылал. Вспомнил, что когда в семнадцатом году его десять тысяч в банке стали достоянием свободного пролетариата, как говорила Марья, утрату переживал недолго. Да он бы и в партию вошел, если бы коммунисты – не против Бога.
– А волосы-то на виске так и не растут? – спросил он, покачав головой.
– Не растут.
В прошлом году Роман проходил практику на Кожуховской подстанции, и там произошла авария с трансформатором. Роман отличился при тушении пожара, но обгорел крепко. Примчался Михаил Семеныч и месяц не давал житья врачам, чтоб лечили лучше. Врачи взмолились, чтобы Липа с Марьей забрали отца, но Липа сказала, что на отца, конечно, постарается повлиять, хотя трудно, и добавила, чтобы лечили все-таки получше. А в назидание рассказала, как сорок лет назад, когда умер от скарлатины первенец Михаила Семеныча Коленька, отец пришел с фабрики, перекрестился, добыл где-то револьвер и пошел убивать доктора, заставившего его положить мальчика в больницу. И гонял его до ночи по всему Иванову, пока не пришел к выводу, что врач неповинен.
– Зусмана сегодня встретила, – сказала Марья, отводя предыдущий разговор подальше. – В Англию едет. Хотел зайти перед отъездом.
Михаил Семеныч поморщился.
– Жидов-то зачем привечаете?.. Служба – одно, а домой к чему?
– Да он же тебе понравился в тот раз, – от отцовской несправедливости Марья даже покраснела. – Сам говорил: умница! Кудрявый такой, высокий…
Михаил Семеныч, будучи сам роста небольшого, терпеть не мог мелких женщин, а мужчин и подавно. А если человек роста удовлетворительного, так не все ли равно, какой нации. Тем более что много инженеров – старых и новых товарищей Михаила Семеныча – были из евреев. А насчет «жидов» – это он так, подразнить начальственную Марью.
– Да, он красивый… – вздохнула Марья. – На Петю даже чем-то похож.
– Самоя́-то замуж собираешься? – спросил Михаил Семеныч, исподлобья взглянув на дочь. – Или так и будешь вдоветь до морковкина заговения?
Марья молча вышла из-за стола, достала из сумочки платочек и еще что-то, повернулась спиной к столу.
Муж Марьи Петя, прапорщик, георгиевский кавалер, после войны вернувшись домой, обнаружил, что его молодая жена Машенька уже не просто Машенька, а член укома Марья Михайловна. Он же как был калькулятором на фабрике до войны, так им и остался. Машенька приходила поздно, куда-то все ездила по партийным делам. Петя ревновал. Потом добрые люди навели его на мысль, что ездит она не только по партийным делам. Петя достал цианистый калий – и…
Михаил Семеныч почувствовал неудобство: что это – дочь спиной встала к отцу и стоит. Он тихо подошел к ней, заглянул через плечо, встав на цыпочки: Марья, смахивая носовым платком редкие слезы, смотрела на фотографию, где Петя лежал в гробу.
– Тьфу ты, господи! – расстроился Михаил Семеныч. – В гробу-то он тебе на кой хрен нужен?! Спрячь, сказал!.. – Он даже топнул ногой от раздражения и мешающей ему жалости к дочери и, резко растворив дверь на балкон, опять вышел на воздух.
– Да не ходи ты туда, ради бога! – всхлипывая, крикнула Марья, памятуя про нелюбовь отца к голой женщине.
– Орет ктой-то, – обернувшись, громко сказал с балкона Михаил Семеныч. – Аграфена! Глянь.
Груша, прибиравшая со стола, с чайником в руках вышла на балкон. Кричал дворник Рашид.
– Э-эй! Папашу бери!.. – доносилось снизу. – Папаша ваша!..
Груша перегнулась через перила:
– Чего крик поднял?
Рашид тыкал пальцем в пролетку под балконом:
– Папаша… папаша… совсем больная…
Груша сразу поняла, в чем дело: Петра Анисимовича привезли. Выпивши.
– У-у-у, – зарычал Михаил Семеныч, задом убираясь в комнату. – С черного хода пусть подают. Срам-то!..
– Во двор вези! – перевела дворнику его слова Груша.
– Ты подумай, – улыбнулся Роман, – опять напился с утра пораньше.
– Ладно! – ударил Михаил Семеныч кулаком по столу. – Сопляк! С его поживи! Ступай, принять помоги! – Он полез в карман, достал деньги. – Аграфена! На. Дай татарину.
«А говорил – мелочи нет», – механически отметила Марья.
– Я тоже пойду за дедушкой, – сказала Аня. – Можно, дедушка?
– Ну сходи, – пробурчал Михаил Семеныч. – Дедушка старенький – заболел…
– Нет, – замотала головой Аня. – Он вино выпил.
Несмотря на соседство с Кабельным заводом, который сам по себе был вонюч, двор пах мокрым лесом. Мощные, тесно посаженные деревья не пропускали к земле солнечное тепло, и влажная от росы трава, от которой шел густой запах, просыхала только к вечеру, к началу новой росы. Под кленами стояли волглые, почерневшие от старости, уже даже не гниющие скамейки. Посреди двора увядала не обогретая солнцем клумба.
Рашид спрыгнул с подножки пролетки, показывая, куда сгружать Петра Анисимовича. Рядом с дедушкиной большой сонной рукой лежал сплющенный кулек с виноградом, несколько ягод выкатилось.
– А вы дедушку разбудить хотите? – спросила Аня. – Пусть он лучше поспит, он старенький. Он всегда так спит. Вон там! – она показала на каретный сарай.
Роман обернулся к сестре:
– Может, правда туда? А то на четвертый этаж…
– Нет, – решительно сказала Марья и поставила ногу на ступеньку пролетки.
Пролетка заскрипела и накренилась. Петр Анисимович тихонько что-то пробормотал.
– Аня! Не ешь виноград – грязный, – раздраженно бросила Марья.
– А вон мама идет! – крикнула Аня. – И папа!
Марья сняла ногу со ступеньки – пролетка выпрямилась: Петр Анисимович опять что-то пробормотал. Марья пошла навстречу родственникам. Роман следом. Аня подобрала с пола пролетки виноградины и быстро засунула их в рот.
Пустые хлопоты
В тридцатом году в квартиру Бадрецовых-Степановых пришел комендант и заявил, что так дело не пойдет: шестьдесят семь метров на четверых (Груша не в счет) – по нынешним временам слишком жирно. Пожелтевшее удостоверение Георгия в том, что он «…выполняя ответственную работу на дому, имеет право на дополнительную площадь в размере 20 квадратных аршин», не произвело на коменданта впечатления. Липа кинулась искать обмен, пока не уплотнили. Переехали утром, после ухода соседей на службу, без лишних глаз, и еле успели. Когда взопревший комендант прибежал прекратить самоуправство, было уже поздно: последний ломовик, груженный скарбом, с Грушей, успокаивающей на коленях кота, зашитого в наволочку, выезжал из Пестовского.
Новый дом в Басманном был задуман как студенческое общежитие: шесть этажей – шесть длинных коридоров – один над другим. По обе стороны коридора маленькие квартирки, в каждой уборная и безоконная трехметровая кухня. В конце и в начале коридора – огромные балконы, планируемые для коллективного отдыха, но используемые для сушки белья. Задуман дом был в начале нэпа, выстроен – в конце и заселен не студентами, а обыкновенными семьями.
На двухкомнатную квартирку в двадцать пять метров на четвертом этаже этого дома Липа и выменяла две царские комнаты в Пестовском с мраморным камином и каменной женщиной на балконе. Из всей родни Липа теперь единственная имела отдельную квартиру с телефоном, чем очень гордилась.
Поскольку осуществить Липину мечту отдать Люсю в немецкую школу не удалось – принимали только детей рабочих, – Люся училась в обыкновенной школе, а немецким занималась у фрау Циммер на улице Карла Маркса. А в Клубе железнодорожников на Новорязанской она училась художественному свисту.
Никаких напастей не было до тех пор, пока Аня не заболела дифтеритом. Дифтерит осложнился параличом, и ополоумевшей от ужаса Липе сказали, что раз девочка умирает, пусть умрет дома. Аню протерли спиртом и выписали из больницы.
Три месяца Липу мотало в полудреме на табуретке возле кроватки дочери, специально на табуретке, потому что со стула можно и не упасть, если заснешь. Днем же Липа работала старшим экономистом на Метрострое. Подключить Георгия к ночным дежурствам ей даже не приходило в голову, впрочем, и ему – тоже. По вечерам он учился на Высших счетно-экономических курсах и работал уже бухгалтером.
Аня выздоровела. Но Липа, похудев на восемнадцать килограммов, сама заболела чем-то непонятным. В конце концов выяснилось, что в голове у нее образовалась опухоль, врач говорил – от переутомления.
Липа сначала полечилась, потом бросила это бессмысленное занятие и начала сосредоточенно готовиться к смерти. В семье последнее время никто не умирал, если не считать Петра Анисимовича, тихо скончавшегося в Рязани у старшей дочери, и поэтому Липа, оказавшись первой кандидаткой на тот свет, старалась подготовиться как можно обстоятельней. Главное – дети. Дочери.
Аня завещалась Марье, потому что младшую племянницу Марья любила, а Люсю недолюбливала. Была и вторая причина: Марья, мобилизованная в счет «тысячи», окончила Сельскохозяйственный институт и работала в Курской области директором совхоза, а деревенский образ жизни полезнее для восстановления здоровья Анечки, нежели городской.
Люся оставалась у Георгия, хотя спокойнее Липе было бы знать, что старшая дочь перейдет на воспитание к брату Роману.
Хоронить Липа велела себя в голубой шелковой кофточке, под цвет глаз, и обязательно не забыть хрустальную брошь. Похороны чтобы были скромные – в долги не влезать.
В старой, рассыпающейся записной книжке – по ней Липа прощалась с людьми, помогавшими ей в жизни, – она углядела почти стершийся карандашный телефон профессора Кисельмана, у которого лечилась, будучи курсисткой, и решила позвонить, просто так – отвести душу. Кисельман был жив, говорил бодро и пригласил Липу показаться ему. «Сколько мне осталось жить?» – спокойно спросила Липа профессора после осмотра. Кисельман отвечать на глупые вопросы не стал.
– Такие вещи в мозгу растут не у всякого, – со значением сказал он. – Я назначу вам очень серьезную дозу рентгена, от которого ваша опухоль должна рассосаться. Только волосы на затылке будут не так густо расти, как хотелось бы.
– Как?! – всполошилась Липа. – Что значит «не так густо»? Облысею? Благодарю вас. Зачем же это – лысая?..
– Мадам! – вскричал профессор. – Жить хотите?!
– Жить? – тупо переспросила Липа. – Затрудняюсь вам даже ответить. Лысая?..
На четвертом сеансе она почувствовала себя лучше, а еще через две недели стала прибавлять в весе. Скоро она забыла, что собиралась умирать. Кисельман денег не взял, объяснив, что расплатиться за спасение жизни никаких денег у нее не хватит. От смертельного рентгена у Липы на короткое время вылезли волосы на затылке, потом отросли, но очень жидкие, и было смешно смотреть, как она по привычке поводит запрокинутой назад головой, распуская по спине несуществующую теперь волосяную тяжесть.
Хрустальную брошь стала надевать Люся на занятия художественным свистом.
Ночью из Иванова позвонил Михаил Семеныч и, плача, сообщил, что совсем болен, Шурка его бьет…
Липа сразу же, ночью, понеслась на вокзал.
…Отец лежал один, грязный, не в себе. Дом был пустой, даже кадки с пальмой, куда Роман в детстве выливал из озорства горшок, и той не было. Липа не стала ничего выяснять, собрала в чемодан, что осталось, и на следующий день вдвоем с возчиком на стуле втащила отца на четвертый этаж – лифт в Басманном, как всегда, не работал.
В Москве отец захулиганил. Во-первых, запретил называть последнюю свою жену, теперь уже бывшую, Шуркой.
– Она мне – не так себе!.. Она мне жена венчанная!.. Александра Васильевна! И всё тут! – Он стукнул слабой рукой по постели, выбив из одеяла легкую прозрачную пыль. – Груше велеть вытрясти.
Липа послушно кивнула и в конце кивка уперлась взглядом в отцову руку. Ладонь была широкая, короткопалая, с тупыми ногтями. Липа смотрела на свою руку: такая же, одна порода.
Отец полежал несколько секунд без слов, отошел от гнева и снова зашевелился.
– Икону – туда, – он вяло ткнул пальцем в угол, где висела подвенечная фотография Липы с мужем. – Тех снять!
– Это ж мы с Георгием, свадьба…
– Тогда перевесить…
– В комнате икону держать не буду! – заупрямилась Липа. – Люся – комсомолка, Аня – пионерка, Роман – член партии! Хочешь – на кухню?
Отец, насупившись, промолчал – согласился.
– «Устав» сюда! – пробурчал он.
– Ты же не видишь ничего, – тихо огрызнулась Липа.
– Не твое дело. И кури меньше, пахнет мне. «Устав»!..
Липа полезла под кровать за чемоданом. Достала старинную книгу в кожаном тисненом переплете с бронзовыми застежками.
– И образцы, – пробурчал отец.
– Раскомандовался!.. – Липа опять заковырялась в чемодане.
Она положила на постель толстенный альбом с образцами – кусочками тканей, рисунки и выделку которых отец сочинял всю жизнь.
Старик установил альбом с образцами у себя на груди, раскрыл его наугад и сквозь лупу посмотрел на яркие тряпочки. Подвигал лупой от себя, к себе, вправо, влево и закрыл альбом:
– Не вижу ни хрена! Спрячь.
Липа уложила образцы снова в чемодан, потянулась было за «Уставом», но отец отпихнул ее руку. Она застегнула чемодан, с визгом по линолеуму задвинула его под кровать и встала с пола, отряхивая колени.
Отец лежал лицом к стене.
– Шифоньер боком разверни, – не оборачиваясь, сказал он. – Для глаз спокойнее…
Липа ухватилась за край платяного шкафа и с грохотом повернула его, но неудачно: дверками вплотную к отцову спанью.
– Неверно поставила, – сказал Михаил Семеныч в стену. – Больше не тревожь, вечером Георгий придет – разворотите.
В квартиру постучали.
– Марусенька!.. – опешила Липа. – Почему стучишь – звонок ведь?.. Входи, милая…
– Живой? – задохнувшимся голосом спросила Марья.
– Господи! – всплеснула Липа руками. – Конечно, живой, какой же! Раздевайся…
– Посижу, – Марья плечом отпихнула Липу, пытавшуюся снять с нее шубу, и тяжело опустилась на табуретку. – Думала, не успею…
Она похлопала себя по бокам. Липа протянула сестре «Беломор», но Марья отвела ее руку и нашла все-таки свой «Казбек», покрутила папиросу в пальцах.
– Георгий позвонил – я все бросила… У меня завтра доклад на бюро…
– Господи боже мой! – Липа всплеснула руками. – Это все Жоржик! Я ему категорически запретила звонить тебе…
– Догадалась! – Марья гневно выдохнула дым. – Отец помирает, а мне – не знать!.. Рассказывай.
Липа села возле сестры, вздохнула…
– …Значит, всё Шурка выгребла? – усмехнулась Марья, выпуская с шумом дым из ноздрей. – И пальму?
– Ее тоже, конечно, понять можно, – забормотала Липа, – ходила за ним десять лет, за стариком…
– Ли-па! – Марья так посмотрела на сестру, что та запнулась. – Чего несешь!.. Какой старик? Какие десять лет!.. Он на пенсии-то с прошлого года…
– Да я к тому, что ничего, Марусенька, слава богу, живой…
– Морду бить поеду! – решительно сказала Марья. – Чаю попью и поеду. Посажу, заразу!
– Да ты что! – Липа схватилась за голову. – Маруся, я тебя умоляю!..
– Ладно!.. Не ной… Подумаю. – Марья кивнула на дверь: – Как он сейчас?
– Уснул. Утром был профессор…
– Который? – строго перебила ее Марья.
– Вяткин, он сказал, что…
– Почему не Кисельман?
– Кисельман умер, Марусенька, – виновато заспешила Липа. – Да все обошлось. Я думала – удар, а оказалось, ничего страшного…
– Лекарства?
– Все есть, не беспокойся, пожалуйста.
– Ну ладно. – Марья замяла папиросу о спичечный коробок, положила окурок на сундук и встала. – Раздеться ведь надо. Ну здравствуй, Липочка. Господи боже мой!..
Сестры обнялись и, как всегда при встрече, всплакнули…
Марья вытерла платком глаза и высморкалась.
– Не озорует еще? Ты, Липа, смотри, если блажить начнет, я его к себе заберу в совхоз.
– Да не беспокойся, ради бога, Марусенька, все хорошо будет.
– Значит… мне позвонить к себе надо, насчет бюро. – Марья взяла трубку телефона. – И еще что-то хотела сказать, из башки вылетело… Але, але… Не отвечают… Я тебе денег привезла, не забыть бы…
Липа заотнекивалась, но Марья протянула ей сумку, чтобы та сама взяла в кошельке, и сделала командирское лицо. – Але, але, барышня, мне Поныри надо, Курской области…
– Чайку? – спросила Липа Марью, после того как та повесила трубку. – Устаешь, Марусенька?
– Не говори, Липа. С ног валюсь. Бегаю-бегаю, ору-ору, а толку? Какой я директор?! Я ведь баба городская. Конечно, партии видней, но… – Марья коротким резким жестом показала, что с этой темой – все. – В сумках посмотри, взяла, что под рукой было…
Липа, охая, заковырялась в сумках. Чай сели пить в маленькой комнате. Ехать обратно Марья Михайловна решила утром – на бюро все равно не успеет, так хоть выспится в кой-то веки. На отца Марья взглянуть забыла. Жив и жив, слава богу. Бить морду Шурке Марья раздумала.
За Михаилом Семенычем закрепили Липину с Георгием кровать, хотя у окна была другая, односпальная, – для Романа, если заночевывал. А оставался он часто, хотя и получил недавно собственную жилплощадь; Липа, сама никакой поздноты не боявшаяся, каждый раз умоляла брата поздно к себе не возвращаться: как-никак Фили – окраина.
Теперь отец лежал, утопленный в перине, за шифоньером на двухспальной кровати, а у окна возле комода жались на узкой койке Липа с Георгием. Георгий начал было ворчать: почему, мол, так, не по-людски, но Липа его тут же осадила: критиковать отца и все связанное с ним никому, кроме родственников по их линии, не дозволялось.
Но было действительно тесно, и потому, когда Георгий в очередной раз начал ворчать, Липа выдернула из-под него второй матрац и улеглась на полу. В таком расположении, удобном для всех, и стали жить: отец за шифоньером, Георгий у окна, Липа на полу, кот у Липы в ногах; в маленькой комнате дочери и Груша.
Роман приходил каждый вечер. И обязательно совал Липе деньги. Деньги Липа сначала брала, а потом наотрез отказалась, разрешив брату иногда приносить продукты.
Просто лежать и болеть Михаилу Семенычу было неинтересно, и по мере выздоровления он становился все невыносимей.
– Блажит? – спрашивал Роман.
– Озорует, – вздыхала Груша. – Рыбу просил. Вчера щуку купила, они говорят: «Ту-у-хлая», а она его – ать – хвостом по носу…
Роман засмеялся, Люся тоже прыснула, но Липа, поджав губы, строго взглянула на брата, в смехе которого проявилась непочтительность к отцу.
– Люся! Иди учить уроки. Тройку за сочинение получила! Форменное безобразие. И тема-то какая хорошая: «За что враги убили Кирова?» Что тут сложного? Сергея Мироновича убили… потому что… в связи…
– Чего это ты меня как маленькую? – Люся недовольно фыркнула, но все-таки ушла.
Разложила на письменном столе тетради и учебники, немного выдвинула ящик и сунула туда раскрытый томик Мопассана.
– Отец вырос на Волге и привык к свежей рыбе, – подождав, когда дочь закроет за собой дверь, громко и с нажимом на слове «свежей» сказала Липа, – а твоя щука затхлая, пахнет тиной!..
– Вырос он, прямо скажем, не на Волге, а в казарме текстильной фабрики, ну да неважно, – Роман улыбнулся. – Хулиганит, значит, помалу?.. Я его к себе возьму.
– Да ты что, Ромочка! Да пусть себе, господи, велика беда!.. – залепетала Липа. – Скучно ему. Так – так так, чего ж теперь.
А Михаил Семеныч тем временем захулиганил уже по-крупному.
Он захотел жениться. В пятый раз.
Позвал Липу, сел в постели и заявил, что – все, надо жениться. Больше так нельзя.
Липа внимательно посмотрела на него: нет, не тронулся, соображает, и речь чистая.
– Скоро подымусь – и сватать будем, – подытожил отец свое сообщение.
Груша ойкнула, чуть не выронив кастрюлю.
– Михаил Семеныч любит женщин, – строго сказала Липа, выгоняя взглядом домработницу из комнаты. Та послушно вышла. Липа закрыла за ней дверь поплотнее. – Куда же тебе еще жениться? Семьдесят лет. У тебя ж удар почти, а ты жениться… – Насчет «удара» Липа перебарщивала, желая возбудить в отце испуг.
Отец лежал молча, прикрыв глаза, чтобы не видеть дочь и не волноваться без толку.
– Ты же не татарин, – напирала Липа. – Верующий человек… Смотри, я Марусе сообщу…
Михаил Семеныч открыл глаза:
– Я тебе сообщу. Моду взяли… – Он полежал, обдумывая новую мысль. Липа молча ждала. – Тогда пусть из баб кто придет посидеть, – Михаил Семеныч прикрыл глаза, поделал сферические движения обеими руками возле груди, – толстая эта, с петухами.
«С петухами», то есть в красном китайском халате с драконами, была Василевская – монолитная интеллигентная вдова, жившая в конце коридора.
Василевскую он углядел – из-за шкафа, несмотря на плохое зрение, когда та забежала позвонить. Углядел и запомнил, запомнил и молчал, пока не почувствовал себя выздоравливающим.
Итак, он велел позвать Василевскую. Липа странную просьбу отца отклонить не могла, хотя в глубине чувствовала, что в ней что-то не то, и, подыскивая предлог, поплелась в конец коридора к Василевской.
Василевская пришла раз, пришла два. Она деликатно загибала простыню и присаживалась на постель, потому что стул поставить было некуда, а если и поставить, то тогда Василевская получалась очень далеко от Михаила Семеныча и ее было почти не видно, а только слышно, чего Михаилу Семенычу было мало.
Он просил ее почитать газеты вслух и поговорить по прочтении о политике.
– Англия – проститутка, – объявлял он для затравки, а Василевская, краснея от нехорошего слова, подхватывала беседу.
Во время третьего визита он, поговорив с Василевской о политике, сел в постели:
– А вы, я слышал, вдовица?
– Увы, – бесхитростно-беззащитно ответила Василевская и скорбно развела в стороны полные руки. Драконы на ее большом животе заволновались. – А ваша внучка Люся замечательно для своих лет владеет немецким языком, – желая порадовать больного, сообщила Василевская. – Она иногда забегает ко мне поболтать, для практики…
Михаил Семеныч поерзал, усаживаясь поудобнее, как бы пробуя себя на скручивание, покачался взад-вперед и вдруг, протянув руки, резко подался, схватил Василевскую и потянул на себя…
Китайский халат на вдове затрещал, она тяжело забилась в выздоравливающих руках Михаила Семеныча и, не вырвавшись, закричала. В комнату влетела Липа.
Василевская, с красным, как халат, лицом, отряхивалась посреди комнаты, а отец как ни в чем не бывало мирно лежал, утонув в перине, и смотрел в потолок.
– Вот! – гневно выдохнула Василевская и пальцем ткнула в голову Михаила Семеныча, вернее, в то место шифоньера, за которым его голова должна была находиться. – Вот!..
И, не попрощавшись, вышла из комнаты.
Липа подошла к постели и возмущенно уставилась на отца.
– Иди-иди, – зашикал на нее отец. – Уставилась… Своими делами занимайся, я спать буду… Бабу нормальную и ту позвать не могут. Всё. – Он отвернулся к стене.
Липа в ужасе стояла перед ним и молчала. Ее при совершении кем-либо родных сомнительного проступка всегда беспокоил не сам проступок, а общественный резонанс, им производимый. Сейчас она больше всего боялась быть ославленной в коридоре, а затем, не дай бог, и во всем доме.
Пока Липа решала, как быть и что предпринять, вспоминая, что в таких случаях советуют делать медицина, опыт ближних и произведения художественной литературы, отец спать раздумал и повернулся лицом в комнату.
– Вам пюре намять, Михаил Семеныч? – крикнула из кухни Груша, стараясь смягчить обстановку.
– Каши хочу черной. Вразварочку.
– Хулиган, – выдохнула Липа и ушла на кухню.
– Я Роману пожалуюсь, – сказала она через полчаса, заходя в комнату с кастрюлькой в руках.
– Я тебе пожалуюсь! – выкрикнул отец и тихо ойкнул, хватаясь за сердце. – Ка-апелек…
Выздоровление отца, бывшее уже очевидным, неожиданно отложилось. Вероятно, внезапный отпор Василевской нанес его неокрепшему организму моральную травму. А может быть, Василевская во время освобождения от посягательств толкнула Михаила Семеныча сильнее необходимого. Липа, во всяком случае, приписывала ухудшение здоровья отца именно травме физической, хотя и скрытого характера. Она перестала здороваться с Василевской и запретила Люсе говорить с вдовой по-немецки, а также и просто по-русски.
Подошла весна. Михаил Семеныч встал. Липа возвращалась с Метростроя поздно. Днем отцом занимались Груша и Аня после школы, потому что у Люси по-прежнему был художественный свист и немецкий язык у фрау Циммер. А кроме того, Люся невзлюбила деда, который лишил ее дополнительной практики в немецком языке у Василевской.
Липа на недоуменные вопросы дочери, чем же все-таки Василевская обидела дедушку, помявшись, отвечала: «Она его оскорбила».
Георгия повысили – теперь он стал заместителем главного бухгалтера. Липа не знала, как реагировать на его повышение, и чем дольше думала, тем ошеломительней был результат ее раздумий. Она вдруг с неслыханной силой взревновала мужа. Взревновала не к кому-то определенному, а ко всей заводской бухгалтерии. Кое-какое формальное основание для ревности у Липы имелось потому, что Георгий, во-первых, все еще был красив, а во-вторых, штат его состоял из женщин, две из которых во время нэпа слыли девицами легкого поведения, а сейчас считались просто красивыми женщинами.
– Набрал профур, а у тебя дочери – девушки, – роптала Липа.
Георгий не испытывал от ревности жены удовольствия, потому что к Липе он давно особых чувств не питал и, чтобы прекратить неумелые и нелепые претензии, просто сказал ей:
– Ну чего ты с ума все сходишь?! Они же у нас все какие-то паршивенькие, горбатенькие… Не дури.
Липа облегченно перевела дух и ревновать перестала. Как потом выяснилось, ревновала она не по собственному почину, а по совету старшего товарища по службе на Метрострое, хотя ей, Липе, и подчиненного – экономиста Элеоноры Альфредовны.
Георгий приходил домой, ужинал, читал вслух газеты для себя и выздоравливающего тестя и отправлялся прогуляться. Когда выдавалась возможность, он шел в школу – к классной руководительнице Анечки, послушать, как та в сотый раз будет хвалить его младшую дочку. К Люсе на родительские собрания он старался не заходить, потому что Люся училась плохо, а кроме того, он уже начал ее безотчетно побаиваться.
– Смотри, Люська, будешь плохо учиться – отдам в бухгалтерию, – воспитывал он иногда дочь, набравшись храбрости.
Бухгалтерию свою Георгий не любил. Иногда вечером Георгий отстранял Грушу от грязной посуды и мыл ее сам, приговаривая при этом:
– Вот эта работа приятная! Была грязная посуда – стала чистая; это тебе не отчет писать!
…Днем Михаил Семеныч, надев валенки, гулял на балконе с котом, которому Липа вот уже шесть лет забывала придумать имя. Отец сидел на балконе, огромном, как зал, среди развешанных для просушки простыней. Груша время от времени проверяла его, звала обедать, укладывала отдохнуть и снова выпускала на воздух.
Старик на балконе скучал. Он уже изучил все тонкости двора. Если из подвала соседнего корпуса валил пар, значит, был вторник либо пятница – работала прачечная. Если вдруг посреди недели люди с шайками шли в сторону Разгуляя, значит, был четверг и татары шли в баню.
Выпустив Михаила Семеныча на балкон, Груша запирала его снаружи на ключ, как велела Липа, чтобы отец не ушел куда-нибудь и не осрамил ее дополнительно. Беспокоилась на этот счет Липа не напрасно: два раза балкон забыли запереть – и отец, воспользовавшись свободой, тихо скребся в квартиру Василевской. К счастью, Василевской не было дома. Но о действиях Михаила Семеныча Липе было доложено со всеми подробностями лифтершей Дусей, внимательно следившей за ним сквозь специально не заделываемую щель в двери. Щель не нравилась многим в коридоре, но Дуся все равно ее не заделывала. Иногда Аня затыкала щель тряпочкой или бумажкой, на что Дуся жаловалась Липе. Липа умолила лифтершу не распространяться в коридоре об отцовских проделках, Дуся согласилась, но взяла с Липы обещание, что та выпорет дочь за шалости с дверью. Аню Липа пороть не стала, а сделала внушение Груше, чтобы та следила за отцом старательней.
Лето подошло вплотную. Михаил Семеныч оклемался полностью, и теперь ему разрешалось гулять возле дома и даже в Саду Баумана, правда под присмотром Анечки. Люсе было не до того, она уже стала совсем взрослая, у нее появились прыщики на лбу и темные волоски под мышками, в облике проступила некоторая интересность. Ощущая свое повзросление, Люся категорически отказалась тратить свободное время на гулянье с дедом.
Михаил Семеныч велел Липе купить ему репейное масло и пояснил: для смазывания волос, чтоб активнее росли.
– Чему расти?! – удивилась Липа. – У тебя ж волос-то не осталось.
– Будут, – недовольно буркнул тот. – Твое дело масло купить, а не спорить.
Масло Груша купила, и теперь Михаил Семеныч каждый раз перед гуляньем мазал лысину репейным маслом.
В июне началась жара. Окна держали открытыми. Молокозавод под окном тарахтел круглосуточно, казалось, что он-то и нарабатывает эту жару. Михаил Семеныч жаловался, что трудно дышать, и винил толстую черную трубу молокозавода, говоря, что от нее вонь и нагрев. Похоже, старику действительно было тяжело, потому что, когда Липа решила проверить, не блажит ли отец, и намекнула, что у Марьи Михайловны в совхозе, мол, воздух чистый, отец неожиданно согласился поехать к старшей дочери.







![Тахана мерказит [Главный автовокзал]](https://fictionbook.ru/pub/c/cover_120/158679.jpg)