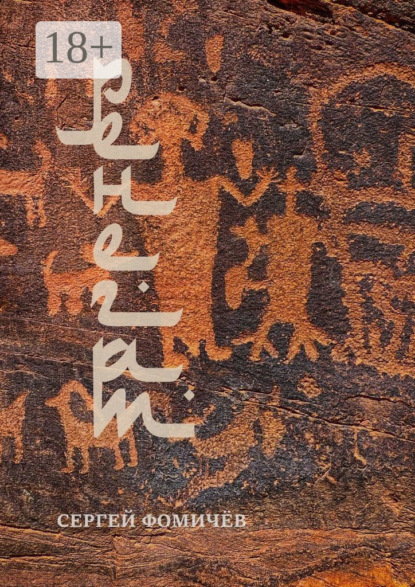Полная версия:
Сергей Фомичёв Сибирский фронтир
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Сибирский фронтир
Сергей Фомичёв
© Сергей Фомичёв, 2022
ISBN 978-5-0050-3537-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог. Сквозняки
– 1-
Они увязались за мной в безлюдной и тёмной серёдке парка. Их двое: Бомж – крепкий мужик неопределённого возраста в драном плаще, с пакетом дребезжащих бутылок, и Проныра – вертлявый паренёк в кепке, похожий на уголовную шестёрку, какими изображает их отечественная кинематография. Оба движутся в пятидесяти шагах, повторяя все мои повороты последние десять минут. Вопросов почти не осталось – они поджидали меня и никого другого.
Черту под сомнениями подводит выстрел. Пуля шуршит над головой и, выбросив щепки, исчезает в сосне. Итак, мои преследователи не расположены к разговору. Накатывает запоздалый звук выстрела, тут же угасший в ближайших деревьях, но для меня он звучит отчётливо, словно стартовый револьвер. Они стреляют, а значит мне остаётся только бежать.
Бегу, стараясь оставить между собой и преследователями побольше деревьев и бугров. Ритмичное бряцанье бутылок за спиной обрывается, раздаётся звонкий хруст – Бомж отбросил ненужную ношу. Ага! Это вам не бабочек ловить. Лёгкая атлетика! Как у нас говорилось – царица полей. Учился—то я в школе со спортивным уклоном. И хотя любовь к пиву со временем обернулась солидным брюшком, но и курить я не начал, а потому лёгкие качают кислород без труда.
Бегу вполсилы, лениво маневрирую. Палая хвоя приятно пружинит под кроссовками. Преследователи больше не стреляют, а скоро и вовсе стрелять не смогут: во—первых, сбитая дыхалка не позволит прицелиться, а, во—вторых, вот—вот людно станет – парк невелик и шум города слышен всё ближе.
Выскакиваю на площадь перед ДК ГАЗа, бросаюсь к краснокирпичному павильону метро. Народ брызгает в стороны, словно мальки от окуня. Барабаню ногами по ступенькам, спотыкаюсь, задеваю плечом какую—то бабку…
– Извините, – кричу за спину…
Состав стоит, но это ничего не значит. Станция—то конечная, интервалы большие. Он так долго простоять может. Несусь по платформе к другому выходу. Оглядываюсь – мои преследователи равняются с последним вагоном.
– Осторожно двери закрываются, – бодро сообщает магнитофон. – Следующая станция «Кировская».
Название станции записанный на плёнку диктор объявляет особенно торжественно. Будто это не станция, а руины древнего города. Ныряю. Двери пфукают и нестройным громыханием сопровождают первый толчок поезда. Поехали. Стараясь дышать глубоко и ровно, я обдумываю ситуацию. На «Кировской» можно выскочить и поменять направление, но тут не подгадаешь с интервалами – нижегородское метро не московское. Лучше всего проехать до «Комсомольской». Да, пожалуй, так будет вернее. Что я могу сказать? Они сильно удивятся, когда через станцию не обнаружат меня в этом поезде.
Ворота я нашёл совершенно случайно.
Было мне лет пятнадцать, и я гостил у родственников в Волгограде. Каникулы подходили к концу, и я уже собирал вещи, когда моим родителям пришло в голову через родственников устроить меня на приём к зубному врачу. В те времена хороший врач считался таким же дефицитом как чешское пиво, венгерские кроссовки или подписка на «Иностранную Литературу» (старшее поколение могло бы добавить к этому перечню финскую сантехнику, польскую или болгарскую парфюмерию и многое другое). К хорошим врачам попадали по великому блату, в обмен на продовольственные наборы или шоколадные конфеты фабрики «Россия». К моему сожалению, у родственников такое знакомство нашлось.
Зубных врачей я и теперь побаиваюсь, а тогда не переносил на дух. Я до жути боялся бормашинки, меня тошнило от особенного, ни на что непохожего, мерзкого запаха, висящего в зубных кабинетах, бросало в дрожь от плевательниц, ковырятельниц, крючков и прочих орудий инквизиции, била лихорадка от лампочек над креслом, от самих кресел. Даже плакаты про кариес перед входом в кабинет с зубной щёткой в виде былинного богатыря и бактериями, изображёнными злобными лохматыми монстрами навевали щемящую тоску.
Хороший врач вовсе не означает врач добрый. Напротив, профессионал относится к пациенту как к бездушной кукле; все его успокоительные фразы дежурны, а ваш рот – полость, так они и говорят – полость, в которой нужно произвести санацию. Зачистить, говоря по—современному.
Короче говоря, я единственный кто не обрадовался случившейся оказии. Последние дни каникул и без того омрачённые тем, что они последние, превращались в сущий кошмар. Но восставать против родителей и родственников я в то время ещё не решался. Пришлось покориться, уговаривая себя философским «всему приходит конец».
Я ездил в поликлинику окольным путём, нарочно давая крюк и делая ненужную пересадку, пытаясь тем самым оттянуть неизбежное. Мне было тоскливо. Я смотрел через окно на город, на покрытые пылью пирамидальные тополя, на нетерпеливые машины, на весёлых беззаботных людей. Может и у них были свои печали, но мне чужие печали казались совершенно ничтожными в сравнении с собственным.
– Остановка «Школа», следующая «Поликлиника», – объявил сквозь электрический треск стандартный женский голос.
Я невольно улыбнулся, забыв о страхах. Дело в том, что в родном Саранске троллейбус с таким же номером делает остановки с точно такими же названиями и в той же последовательности. Видимо, на какое—то время я забылся, вообразил, будто уже вернулся домой, и еду к однокласснику Петьке Дворкину, у которого давно собирался переписать Владивостокский концерт «Машины времени». А когда открыл глаза, то за окном не увидел привычных пирамидальных тополей – только начинающие уже желтеть берёзы и клёны. Это был Саранск – столица советской Мордовии.
Наваждение? Нет, картина более чем реальна. Оглядевшись, я увидел совсем других людей, иную отделку салона, но, что любопытно, к моему появлению в саранском троллейбусе его пассажиры остались равнодушны, будто и не заметили вовсе.
Вот и поликлиника, но не та в которую я направлялся сдаваться зубному врачу, а другая, в которой полгода назад мы проходили медосмотр всем классом. Двери открылись, я бросился к выходу, и хлопнул ладонью о ствол растущего возле остановки клёна. И ведь вроде никаких психических отклонений за мной раньше не замечалось, и врач вот из этой самой поликлиники перед последними сборами нашёл меня вполне адекватным и годным ко всему, что только можно вообразить. А тут такой крендель в голове образовался.
Нет, я определённо не спал. Потому даже не стал щипать себя за разные части тела. Я почему—то всегда отличал сон от реальности. Бред? Провал в памяти? Амнезия? Может быть, я давно уже вернулся домой, но позабыл об этом? Что ж, проверить легко. Я осторожно коснулся больного зуба кончиком языка и обнаружил шершавость заложенного накануне в канал мышьяка. Для верности проверил пальцем – так и есть, пломба временная.
Минут десять совершенно ошалелым я стоял посреди родного города, держась рукой за дерево, пока не вспомнил, что опаздываю на приём, но и тогда мысли продолжали пребывать в хаосе… Что делать? Отправиться домой? И что я скажу родителям? Что сбежал от врача? Не слишком ли далеко убежал? Пойти к Петьке? А что потом? Вернуться в Волгоград? Но как? На поезде больше суток, да и билетов наверняка не купить.
Трезвая мысль пришла не скоро. Если я каким—то Макаром попал в Саранск, то не может ли тот же Макар перебросить меня обратно? Мысль бредовая, если уж честно, но и положение было бредовым, а других вариантов в голову всё равно не пришло. Я вернулся на остановку, дождался троллейбуса и поехал. Ни на что не надеясь, но… Со второго раза у меня получилось. Я вновь оказался в Волгограде и даже не слишком опоздал на приём.
Наверное, это был единственный визит к зубному врачу, когда сидя в кресле я думал не о визжащей внутри головы бормашине.
– 2-
– … и выход к вокзалам: Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому, – доложил совсем другой голос, но тоже весьма торжественно.
В вагон врываются пассажиры со всех трёх вокзалов. Чемоданы, тюки, тележки. Ругань коренных москвичей на приезжих, ещё более крепкая брань москвичей не столь коренных, ответная ругань, как пулемёты осаждённого дота. Я едва успеваю высунуться и взглянуть назад. Чёрт! Сильно удивлённым оказался в итоге я сам: Бомж с Пронырой барахтаются в толчее, пытаясь пробиться вперёд. Это им удаётся, и они оказываются на один вагон ближе.
Делать нечего – начинаю перебегать на каждой станции, пока не оказываюсь в самой голове поезда. Облокотившись спиной о дверь кабины машиниста, я обречённо констатирую, что дальше бежать некуда.
Выскакиваю на Кропоткинской. Перед носом громадина ХХС. Беру правее, на бородатого мужика. Памятник то ли Марксу, то ли Энгельсу – не понять, потому что поверх настоящего имени масляной краской выведено «Пётр Кропоткин». Мне плевать на бородатые разборки, быстро иду мимо. Оглядываюсь. Мои недоброжелатели шустро перебегают дорогу на красный свет. И ни одного чёртова гаишника поблизости, ни одного нувориша на бронированном мерсе, чтоб раскатать наглецов по асфальту.
Быстрым шагом иду по Остоженке в сторону «Парка культуры». Оба преследователя спокойно идут вслед за мной. Бомж давно скинул лохмотья и теперь больше похож на советского инженера. Проныра то и дело лазит рукой за пазуху. Проверяет пистолет? Похоже. Не яблоки же у него там. Будет стрелять? Среди старой застройки прохожих негусто. Может и будет. Перехожу на бег. Ещё немного осталось. Выдержу.
Сбавляю темп лишь в толчее подземного перехода. Здесь не разбежишься – народу полно, да и внимание привлекать не стоит – остановят менты, начнут прописку спрашивать, билеты требовать. А где я их возьму, билеты—то?
Проныра стрелять не рискует. Это радует. Однако, что делать дальше?
***
Пятнадцать лет – хороший возраст. Уже нет доверчивого ребёнка, но ещё не вылеплен системой забитый, загнанный на кухни и в курилки человек страха. У меня хватило ума сохранить обретённое знание в тайне от всех, и не достало осторожности тут же о нём забыть.
Правда, корысти от открытия оказалось немного. Разве что экономия на билетах. Но не будешь же к родственникам каждый день ездить – подозрение вызовет, да и зачем? Ну так, катался на «квадрате» погулять – в Волгограде тусовка поживей смотрелась, не то что в Саранске. Тусовался – да, но близко ни с кем не сходился. Ни там, ни дома.
Я стал обладателем сокровенным знанием, и это наложило отпечаток на мои отношения с людьми. В школе я превратился из общительного, настырного и бойкого мальчишки в угрюмого замкнутого индивидуалиста. Во дворе и вовсе перестал появляться.
Тайна встала между мной и сверстниками, она варилась внутри меня, ломая прежние черты характера… Но она же дисциплинировала, заставляя следить за словами и поступками. Магнитофонные катушки, спортивные сборы, соревнования, игры, книги перестали иметь значение. Впрочем, нет, книги остались, но, отстранившись от прежних друзей, я перебрался в читальный зал городской библиотеки, где и поглощал томами научную фантастику в полном одиночестве. Приятели не заметили потери, а девушки тогда ещё не настолько интересовали меня, чтобы выбирать между ними и тайной.
Всё эти изменения в себе я, конечно же, осознал значительно позже, а тогда мне просто казалось, что я взрослею.
Года через два я настолько свыкся с существованием лазейки в пространстве, что перестал принимать её за чудо. Это как с моим первым кассетником. Сколько я копил, сколько ждал покупки. И вот она, «Легенда 404» – чёрное совершенство, на моём столе. Первые дни я ложился спать и вставал с мыслями о ней. Но прошёл всего месяц, и обладание магнитофоном стало чем—то обыденным. Воротами я наслаждался дольше, но всё равно – приелось. Приелось чудо. А вот характер таким и остался. Нелюдимым.
Когда я стал чуть постарше, феномен открытых ворот начал интересовать меня, так сказать, с научной точки зрения. Я пытался познать их тайну. Физика, доступная моему пониманию, хранила на сей счёт гордое молчание. Я увлёкся психологией, эзотерикой, мистикой, восточной философией. Впрочем, тогда многие увлекались подобной лабудой, время было такое: Союз распадался, сбережения пропадали, запахло безработицей, нищетой. Наряду с прочими прелестями новой жизни импортировались учения, плодились секты.
Я посещал собрания каждой из них, что добиралась до нашего города, с той же целью мотался и в Волгоград. Я слушал проповеди и искал в них ответ. Ответа не находилось, а спрашивать напрямик я остерегался. Возможно, поэтому ни одна из сект меня в свои лапы не получила.
Армия не сделала из меня коллективиста. Оба года я успешно пересидел на глухой таёжной точке – единственный срочник среди трёх офицеров и прапора. Нечего и говорить, что четыре начальника беспробудно пропили весь этот срок, оставив на меня заботы по обороноспособности страны. Что ж, я в накладе не остался – освоил редкие в те времена компьютеры и системы спутниковой связи.
Мне стукнул двадцать один год, когда я понял, что всё это время валял дурака. Вместо того чтобы искать другие ворота, я раскрывал природу единственных мне известных. Зачем? Да чёрт с ней, с природой! Какая разница, как это работает?
Идея, что ворота могут быть не одни, родилась в магазине за разглядыванием модного органайзера, на форзацах которого помещались схемы крупнейших метрополитенов страны. В разных городах станции носили одни и те же названия: Комсомольские, Автозаводские, Пролетарские, Московские, Пушкинские, Парки Культуры.
«А что, если…» – подумалось мне, и я поспешил заплатить за дорогую игрушку.
Не терпелось побыстрее опробовать дикую гипотезу, и я собрался в дорогу. Ближайших к Саранску мегаполисов обладающих подземкой было два: Горький и Куйбышев, накануне переименованные в Нижний Новгород и Самару. Но в Куйбышеве метро только—только начали строить и три его действующие станции, расположенные к тому же на самой окраине города, не вызывали особого энтузиазма. В Горьком метро начиналось от вокзала и было раза в три длиннее. Сделав выбор, я поспешил за билетом.
Поезд «Куйбышев—Ленинград» неспешно полз по задворкам империи, вставая на каждом разъезде, а я всю ночь ворочался в духоте и пыли плацкартного вагона.
С десяти утра и почти до самого вечера я катался туда—сюда по единственной ветке горьковского метро, но ничего не получалось. Я был слишком взволнован, ожидая чуда, и не мог настроиться на переход. Но стоило мне только решить, что идея не больше чем бред, как вдруг я оказался в Москве.
– Получилось! – заорал я в восторге посреди переполненного вагона, следующего куда—то на Ждановскую.
Действительно получилось. Я прыгал из Горького в Москву, из Москвы в Ленинград, в Новосибирск и далее, как говорится, со всеми остановками. Вот это да! Не случайная дыра между Саранском и Волгоградом – здесь открывались совершенно иные перспективы.
Метро всё же прорыли далеко не везде. Зато троллейбусов и трамваев имелось сколько угодно. Я принялся скупать в магазинах транспортные схемы городов. В те годы их продавали в избытке, и единственное чего нельзя было найти, так это схему собственного города. Но Саранск я и без того знал неплохо.
Продавцы, принимая меня за молодого, но уже чокнутого коллекционера, стали подсказывать места книжных развалов и сообщать о новинках.
Итак, я обложился картами и вырвал из тетради разворот. Наивный! Лист закончился уже через минуту. Названия остановок во всех городах поражали однообразием: больницы, Ленины, школы, Гагарины, универсамы… Не составляло труда найти навскидку пары в двух любых городах.
Пространство расползалось передо мной, как передержанная в хлорке простыня.
– 3-
Решаю сбросить хвост на кольцевой линии – трое ворот там следуют плотно друг за другом, и это даёт мне возможность маневра. Гоблинов, а именно так я окрестил преследователей за их тупое и злобное упрямство, с каким они старались прикончить меня; так вот гоблинов всего двое, и если даже им известны все мои отнорки, пусть попробуют угадать, в котором из них я скроюсь.
Втискиваюсь в переполненный поезд, прислоняюсь к бортику у входа. Бомж с Пронырой устраиваются в соседнем вагоне, их хорошо видно через стекло. Поворачиваюсь к ним спиной. Главное сейчас не расслабляться, не впадать в привычный лёгкий транс, что помогает пробивать пространство. Сейчас нужно, напротив, зацепиться взглядом за реальность, за окружающих, не то вынесет помимо желания. Со мной не раз так случалось, когда я неожиданно проваливался в другие ворота. Это вроде как мимо своего дома в задумчивости пройти, или этаж перепутать. Бывает.
За хмурые лица пассажиров цепляться неохота. Выбираю красивую девушку, что стоит напротив и читает толстую книгу. Стараюсь думать только о ней. Красивая. Что она там читает? Вот хорошо бы отдохнуть с ней на море, лучше на Адриатическом. Умная. Не детектив читает, не любовный роман, судя по обложке что—то философское. Фигурка – ах, ах, какая фигурка. Студентка? Молоденькая…
Девушке навязчивое внимание явно не нравится, она опускает книгу, заложив пальцем страницу, и хмурится. Набираюсь наглости, подмигиваю в ответ. Она отворачивается.
– Станция «Проспект Мира», – сообщает надоевший голос, – переход на Калужско—Рижскую линию. Уважаемые пассажиры, просим…
Проскочил!
Девушка решила сойти. Уж не из—за меня ли? Провожаю взглядом уплывающие бёдра и оглядываюсь. Бомж исчез, Проныра остался. Что ж, пока один – ноль. Посмотрим, как сможет он в одиночку прикрыть двое оставшихся ворот. Правда и передо мной стоит выбор, в какие из них нырять, но тут уж пятьдесят на пятьдесят.
Вторые ворота. Третьи… пора! Расслабляюсь, перехожу… и вижу за стеклом Проныру. Вот чёрт!
Сперва я мог перемещаться только туда, где бывал раньше. Я должен был знать, помнить место. Чтобы раздвинуть горизонты приходилось покупать билет на поезд или автобус, и добираться до нового города обычным путём. Но уже оттуда я переходил без напряжения. Позже я научился пробивать пространство, не обременяя себя предварительной разведкой. Я даже целую медитационную систему разработал, основанную на картинке из телевизора или журнала.
И, наконец, пришло время, когда мне удалось вырваться с одной шестой части суши. Получилось это совершенно случайно.
Я любил кататься на скейтборде по безлюдным затяжным спускам. И потому часто навещал один удмурдский городок, вся прелесть которого для меня заключалась лишь в единственной тихой улице, что сбегает волнами вниз.
И вот привычно скатываясь по трассе, зная на ней каждую выбоину, я расслабился, замечтался, и на ум вдруг пришёл Сан—Франциско, где по такой же волнистой улице гонялись в боевиках за крутыми бандитами ещё более крутые полицейские. На один лишь миг я прикрыл глаза или моргнул протяжённо… Ослепительное солнце, пробившее закрытые веки, и жара, хлынувшая под куртку, дали понять, что вокруг уже не Удмуртия. Я открыл глаза. Вместо привычных вечно мокрых пятиэтажек вдоль улицы стояли особняки, вместо чахлых берёз – пальмы.
В то время поездки за рубеж ещё не стали обычным делом, и я сильно перепугался, оказавшись в социальном зазеркалье.
С перепугу пробыл я там не долго. Оглянулся, не видит ли кто, быстренько вскарабкался повыше и оттолкнулся ногой, думая только об одном – о сырой удмурдской осени.
Вернувшись домой я сел за английский язык. Выучил его за три месяца, решительным штурмом, словно собирался поступать в МГИМО. Вот ведь когда припрёт – а в школе едва вытягивал на тройку. Теперь за дело!
С каким упоением и лёгкостью я открывал для себя Соединённые Штаты! Мэйнстритов и авеню в честь Линкольна и Вашингтона там встречалось не меньше чем у нас площадей Ленина. Скоро сеть переходов опутала всю страну. Со скейтом под мышкой я отправлялся в Удмуртию, «спускался» в Сан—Франциско и уже оттуда путешествовал по Америке.
Я отдыхал на Гавайях, наблюдал за космическими стартами во Флориде, слушал Ниагару, заглядывал в Большой Каньон. Пару раз заскочил в бывший Новоархангельск на Ситке, удовлетворяя любопытство юности, а, воплощая более ранние мечты, побывал в Диснейленде. Несмотря на возраст, я полюбил там бывать – видимо добирал то, что недодали в детстве. Подозреваю, что и те, кто приводил в парк развлечений толстеньких отпрысков, использовали их только как повод.
Попав за Атлантику, под впечатлением неожиданного открытия, я поначалу как—то упустил ещё один важный момент – само открытие. Не придал значения, не подумал. А подумать стоило. Впервые мне для перехода не понадобился общественный транспорт и привязка к названиям остановок. Новый метод оказался, что называется, своевременным – в родной стране как раз настали тяжёлые времена. Улицы и станции переименовывались, в транспорте перестали объявлять остановки, да и сам муниципальный транспорт ветшал и заменялся повсюду частником. Людей эти мелочи трогали мало, у них проблем и без того хватало, но мне именно мелочи представлялись катастрофой. Так что неожиданное открытие явилось спасением, и я принялся экспериментировать.
Это открыло передо мной весь мир. Я играл шариком, словно чаплинский диктатор. Я упивался властью над пространством, насмехался над расстоянием.
Я был Эриком Рыжим, Колумбом, Дрейком и Магелланом. Моим солёным ветром стали сквозняки подземных тоннелей, запахом моря – дух шпальной пропитки, криками чаек – скрежет железных колёс.
Я побывал в Тадж—Махале, топтал Великую Стену, трогал пирамиды Египта, руины инкских городов, всё то, что раньше мог видеть лишь на картинках. Я загорал на пресловутых Канарах, между управляющим банка справа, и членом правительства слева. Мы вместе пили пиво и болтали о политике. Они считали меня удачливым хакером, ведь я намекнул им, что работаю по компьютерной части.
Мало—помалу, привычная, то есть изображённая на географических картах, картина мира стала казаться противоестественной и абсурдной. Там где города разделяли океаны, мне порой хватало единственного усилия, а в соседний район приходилось добираться обычным способом. Из Сиднея в Новосибирск я переходил за мгновение, зато из того же Сиднея в Канберру путь получался неблизким, и проще было воспользоваться автобусом.
Границы рухнули, исчезли, стёрлись. Государства потеряли значение. Мешало, пожалуй, только разнообразие языков и диалектов, освоить которое я даже не помышлял. Но политические образования смешили своей нелепостью.
Неверно полагать, будто другая сторона жизни осталась неведома мне. Я воочию увидел тех рахитных детишек, которыми нас пугали в «Международной панораме», женщин с обвислыми, как уши спаниеля, грудями. Но реальность оказалась куда страшней картинки. Телевизор не передавал ни вонь нищеты, ни вкус тухлой воды, ни низкий гул мириадов насекомых, ни масштабов человеческой катастрофы.
Я побывал в трущобах, где понял, что Хрущёва ругали напрасно. Дома из картонных коробок, древесных обрезков и дырявой плёнки, что тесно лепились, занимая самые бросовые участки пригородов; трущобы, где вместо улиц чавкающая грязь, где змеи и крысы заменяют породистое домашнее зверьё; всё это совсем не то же самое, что малогабаритные пятиэтажки.
Случалось попадать под обстрелы и бомбёжки, нарываться на внезапные вспышки ксенофобии, присутствовать при переворотах. Я не привык к стрельбе и взрывам, но перестал пугаться их понапрасну. Не каждый раз удавалось понять, кто и за что воюет, поскольку не о всякой бойне сообщали потом по телевизору. И не понимая причин, я вдруг отчётливо понял мерзость войны. Да, вовсе не гниющие трупы навсегда отвратили меня от неё, а тупая бессмысленность.
Я остался индивидуалистом, но чувство глобальной несправедливости выросло в убеждение. Однако, даже обладая знанием, я не пытался изменить мир. Индивидуалист с убеждениями – не может стать чем—то большим, нежели критический наблюдатель событий.
– 4-
Скоро я понимаю, что все известные мне переходы для гоблинов не секрет. Я уже больше часа мечусь по городам и странам, как костяной шарик по рулетке, но никак не попаду на зеро. Силы ещё есть, и я должен сбросить хвост, прежде чем они покинут меня.
Прибавляю, сделав ставку на скорость и выносливость.
Прага. Выскакиваю из метро «И. П. Павлова» и сразу прыгаю в трамвай. Кажется двенадцатый – то, что надо! Из трамвая выхожу в Бостоне, неподалёку от Массачусетского Технологического Института. Идёт дождь, но зонтик не достаю – с ним не побегаешь, а темп терять жалко. Несколько кварталов позади и я ныряю в супермаркет, на эскалатор. Поднимаюсь из метро в Харькове. С куртки льётся вода, волосы слиплись. Хорошо не зима. Ловлю удивлённые взгляды обывателей. Они смотрят на меня словно на придурка, умудрившегося как—то вымокнуть в метро. Ничего, граждане, там за спиной скачет ещё пара мокрых придурков. Опять трамвай, на этот раз в Ижевск…