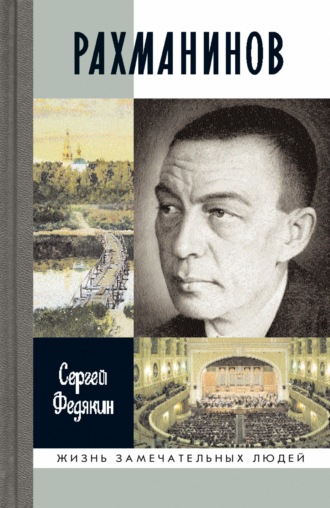
Сергей Федякин
Рахманинов
По вторникам маэстро играл в великолепном зале Московского благородного собрания. По средам повторял ту же программу утром, в Немецком клубе – сюда свободно могли пройти музыканты, преподаватели и студенты консерватории. Зверев приводил питомцев и вечером и утром. И маленький Рахманинов опять поражён: те же произведения Рубинштейн в другой раз исполнял иначе, но столь же выразительно!
Крещендо великого пианиста… Казалось, оно могло нарастать безгранично. Диминуэндо доводилось до немыслимо тихого звука, причём отчётливо слышимого даже далеко от сцены. И великолепная техника – и тонкость, одухотворённость исполнения, глубинная музыкальность. Рояль звучал, как оркестр, со всем разнообразием тембров. И снова – произведение значило больше, нежели поведение на эстраде. Когда Рубинштейн сыграл знаменитую си-минорную сонату Шопена, ему показалось, что короткий финал не удался, и маэстро его повторил.
«Я слушал его, заворожённый красотой звука, – вспоминал Рахманинов, – и мог бы слушать бесконечно. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь так сыграл виртуозную пьесу Балакирева “Исламей” или нечто подобное его интерпретации маленькой фантазии Шумана “Вещая птица”, отличавшейся неподражаемой поэтической тонкостью: безнадёжно пытаться описать pianissimo в diminuendo в конце пьесы, “когда птица исчезает в своём полёте”. Таким же неподражаемым был потрясший мою душу образ, который создавал Рубинштейн в “Крейслериане”, последний соль-минорный эпизод которой я никогда не слышал в подобном исполнении. Педаль была одним из величайших секретов Рубинштейна. Он сам удивительно удачно выразил отношение к ней словами: “Педаль – это душа рояля”. Всем пианистам стоило бы помнить об этом».
Волосы – львиной гривой, закрытые глаза, весь облик пронизан музыкой. Таким Антон Рубинштейн врезался в память Сергея Рахманинова.
* * *
Три «зверевских» года словно слились в один, длинный-длинный. Серёжа повзрослел, стал сдержанным, довольно замкнутым. Впрочем, из «взрослого» состояния его выводили озорные выходки товарищей – они нарочно шалили на уроках, чтобы вызвать у него неповторимый, заразительный смех.
Его исключительное дарование становилось всё очевиднее. Когда за обедом в купеческом доме Зверев желал показать игру своих учеников, он чаще всего посылал за Рахманиновым.
В мае 1888-го «зверята» поразят Танеева. Постоянная игра в четыре, шесть и восемь рук (четвёртым в ансамбле обычно выступал Сёма Самуэльсон) приносила свои плоды. После экзаменов Николай Сергеевич предложил экзаменационной комиссии прослушать Пятую симфонию Бетховена в восьмиручном исполнении своих подопечных. Когда Танеев увидел, что четверо мальчишек сели за рояль с пустым пюпитром, он даже привстал:
– А ноты?
– Они играют наизусть, – успокоил его Николай Сергеевич.
И вот замерли звуки последних аккордов знаменитого сочинения… Танеев, изумлённый, всё повторял: «Наизусть!» И Зверев решил его «доконать». Кивнул мальчишкам, чтобы исполнили Скерцо из Шестой Бетховена, «Пасторальной»…
Летом воспитанники выезжали на подмосковную дачу. Инструмент брали с собой. Наставник требовал, чтобы и здесь они работали каждый день. И даже дальний Кисловодск, куда юные музыканты отправятся в один из летних месяцев, не освободит от занятий. Только в 1887 году Серёже позволят отдохнуть с бабушкой. Летом 1888-го он опять со «зверятами».
За игру своих питомцев Николай Сергеевич мог не тревожиться. С теорией музыки дело обстояло иначе. В первые годы «зверята» слишком много времени уделяли занятиям за фортепиано. Весной 1888 года экзамен по элементарной теории сдавал только Пресман. Рахманинова и Максимова Николай Сергеевич решил показать осенью. Впрочем, и успехи Моти оказались весьма средние.
Летом наставник повёз мальчишек в Крым. Их сопровождал преподаватель консерватории.
Кто помнит композитора Николая Михайловича Ладухина? А вот его «Одноголосное сольфеджио» вошло в музыкальную педагогику как незаменимое пособие для развития вокально-интонационной способности чтения с листа.
Сам наставник ехал в первом классе. Преподаватель, повар Матвей и воспитанники – в третьем. Вряд ли Николай Сергеевич пожадничал. Скорее накануне проигрался.
Остановился Зверев в поместье Токмакова Олеиз. Дети хозяина – тоже его ученики. Неподалёку от поместья Николай Сергеевич снял домик, где поселил своих питомцев с Ладухиным. Крымская жара мало способствовала умственным занятиям. Много купались, гуляли. С профессором занимались всего по часу в день. Но толковый педагог, его умение заинтересовать мальчишек сделали своё дело: за два с половиной месяца «зверята» прошли и элементарную теорию, и начала гармонии, на что в консерватории отводилось более двух лет.
В Крыму все впервые увидели «необыкновенного» Рахманинова: то ходит мрачный, опустив голову, то задумчиво смотрит вдаль. То вдруг начинает что-то тихо насвистывать, размахивая в такт руками. Через несколько дней, когда они с Мотей остались одни, Сергей с таинственным выражением на лице подозвал его к роялю. Начал играть. Спросил:
– Не знаешь, что это?
– Нет, – признался Пресман.
– А как тебе нравится этот органный пункт в басу при хроматизме в верхних голосах? – И увидев, что Моте музыка пришлась по душе, не без довольства сказал:
– Это я сам сочинил и посвящаю тебе эту пьесу.
Осенью в Москве «зверята» элементарную теорию «закрыли» на «отлично». Рахманинов сумел сдать и экзамен по гармонии за первый год.
* * *
С детством пришлось расстаться той же осенью 1888-го, «зверята» переходили в старшие классы, к новым учителям – или к Пабсту, или к Сафонову. Рахманинов уже подумывал о последнем, Василий Ильич – при довольно трудном характере – был педагогом редким, способным открыть в ученике все особенности его дарования. Но разрешилось иначе. Александр Ильич Зилоти поселился в Москве, став новым преподавателем консерватории, и Зверев настоял на своём: лучших учеников, Максимова и Рахманинова, передал Александру Ильичу.
Учиться у собственного брата, пусть и двоюродного… Александра Гольденвейзера, который появится в классе Зилоти через год, поразит их общение: на «ты».
Жили «Лё-Се-Мо» всё так же у Зверева. Но и сам Николай Сергеевич уже глядел на воспитанников иначе. Как-то раз, узнав, что Моте не хватило денег, чтобы прокатить свою симпатию на лихаче, расщедрился: выдал тому пять рублей на будущее. Разговоры о сердечных делах возникали время от времени, у «Лё» и «Мо» узнать об их увлечениях не составляло труда. Но Рахманинов был скрытен и молчалив. Жизнь его сердца для других всегда будет за семью печатями.
Успехи Сергея по классу фортепиано становились привычными, и главное место в его жизни всё более занимала композиция.
Новый педагог по теории музыки, Антон Аренский, проникся к ученику симпатией. О педагогическом даровании Антона Степановича остались отзывы весьма противоречивые. Его ценили за талант, за то, с какой лёгкостью он мог придумать задачу по гармонии и тут же её решить. Но когда дело касалось умения объяснить, нетерпеливого и вспыльчивого Аренского понимали далеко не все. Иной раз он мог довести ученика до слёз потому, что сам пребывал в скверном состоянии духа. С Рахманиновым Антон Степанович вёл себя иначе. Сергея увлекли гармония, законы голосоведения, модуляции из одной тональности в другую, и учитель с необыкновенным для него терпением помогал в решениях, пробуждая в юном консерваторце ту природой данную изобретательность, которую давно в нём распознал. За сочинённые в курсе гармонии пьесы Рахманинов получал и «хорошо», и «очень хорошо», и даже «отлично». Когда же в конце учебного года ученик принёс десять написанных пьес, Аренский каждую отметил высшим баллом.
Экзамен шёл долго. Задание гармонизовать мелодию Гайдна для Рахманинова особой сложности не представило. А вот написать прелюдию от шестнадцати до тридцати тактов с двумя органными пунктами на тонике и доминанте, найти верную модуляцию из одной тональности в другую – над этим пришлось покорпеть.
Антон Степанович получал листы учеников, недовольно морщился, с тревогой посматривал на любимца. Тот просидел над заданием дольше всех. Но когда протянул своё сочинение Аренскому, учитель улыбнулся:
– Только вам удалось уловить верный ход гармонического изменения.
На следующий день студенты исполняли свои сочинения перед комиссией. Среди профессоров был и Чайковский. Сергей уже знал, что ему выставили высший балл, – за роялем был спокоен. Когда кончил играть, Антон Степанович шепнул Чайковскому о вчерашнем экзамене. Пётр Ильич благосклонно кивнул, согласился послушать. Своё сочинение Сергей сыграл наизусть. Увидел, как Чайковский взял экзаменационный журнал и что-то в нём пометил. Лишь спустя недели две Рахманинов узнает, что знаменитый композитор пятёрку с крестом окружил ещё тремя плюсами. Этот неожиданный итог Антон Степанович попытался скрыть от ученика, дабы – не дай бог – не возгордился. Но сам же в конце концов и проговорился.
За курсом гармонии – на следующий год – шёл контрапункт. Сергей Иванович Танеев к своему предмету испытывал особую слабость. Долгие годы он работал над фундаментальным трудом – «Подвижной контрапункт строгого письма». Полифония старых голландцев (та музыка, которую любят немногие, и у большинства студентов от неё сводит скулы) виделась Танееву началом всех начал, тем более что правила ведения голосов, их сочетания, которые ещё в добаховские времена стали редкостью, – одна из основ в подготовке будущих композиторов. Тема и её возможные превращения – движение задом наперёд (ракоход), зеркальное отражение (тема «вниз головой»), проведение темы в увеличении или в уменьшении (медленнее или быстрее) – всё, что приводило в восторг Танеева, повергало в тоску его учеников. И Рахманинов, и его сокурсник Скрябин отлынивали от этих задач как могли. То пропускали уроки, то приходили, не выполнив задания, ссылаясь на фортепианные занятия.
Позже, зрелыми музыкантами, они в собственном творчестве столкнутся с тем, чему учил Сергей Иванович, тогда не без пользы вспомнят и его уроки. Пока же добились только неприятности: огорчённый Танеев пожаловался Сафонову. Впрочем, Василий Ильич и сам скучал от этой музыки, так что пожурил студентов только для приличия.
Скрябин когда-то учился теории у Сергея Ивановича, ещё до консерватории, мальчишкой. Преподаватель знал характер непоседливого студента. Теперь зазывал к себе на дом, давал задание, запирал на ключ и уходил часа на два. Бывало, проворный ученик сбегал, вылезая из окна: квартира Танеева располагалась на нижнем этаже. Но добросовестный педагог так огорчался нерадивостью ученика, что того поневоле начинали мучить угрызения совести. И тогда Скрябин стал сочинять предельно короткие темы, чтобы сократить и сами упражнения14.
К Рахманинову Танеев нашёл другой подход. Об этом композитор расскажет биографу: «На клочке нотной бумаги он писал тему и присылал её к нам домой со своей кухаркой. Кухарке было строго-настрого приказано не возвращаться, пока мы не дадим ей выполненные задания. Не знаю, как подействовала эта мера, которую мог придумать только Танеев, на Скрябина; что касается меня, он полностью достиг желаемого результата: причина моего послушания заключалась в том, что наши слуги просто умоляли меня, чтобы кухарка Танеева как можно скорее ушла из кухни. Боюсь, однако, что иногда ему приходилось долго ждать ужина».
Помогло, впрочем, и честолюбие: Рахманинов услышал о «большой золотой медали» – её давали по окончании за отличные результаты в обучении по двум специальностям…
* * *
Его всё больше манила тайна композиции. Рахманиновских пьес того времени сохранилось не очень много: «Песня без слов», сочинённая в 1886–1887 годах, три ноктюрна конца 1887-го, Романс, Прелюдия, Мелодия и Гавот, написанные до 1991-го. Дыхание в эту музыку пришло от Шопена, Шумана, Мендельсона. И всё же – пусть ещё робким пером – юный сочинитель нащупывает свой путь в искусстве композиции, а его Романс – из тех сочинений, которые притягивают своей «сладкозвучностью».
Но сочинительство требовало сосредоточенности, а из комнаты с роялем неслись чужие звуки, не давая собраться с мыслями. Сергею не хватало уединения.
К Звереву он решился подойти октябрьским вечером 1889-го: нельзя ли получить отдельную комнату с роялем, чтобы заниматься композицией? Сергей Васильевич вспоминал: «Наша беседа началась спокойно и протекала в совершенно мирных тонах до тех пор, пока я не произнёс какие-то слова, мгновенно его взорвавшие. Он тут же вскочил, закричал и швырнул в меня первым попавшимся под руку предметом. Я оставался совершенно спокойным, но тем не менее подлил масла в огонь, сказав, что я уже не ребёнок и что тон его разговора со мной нахожу неподобающим».
Что взбудоражило Зверева? Не просьба, но какие-то неудачные фразы? Мотя Пресман оказался свидетелем скандала: «Зверев был взволнован чуть ли не до потери сознания. Он считал себя глубоко обиженным, и никакие доводы Рахманинова не могли изменить его мнения. Нужно было обладать рахманиновской стойкостью характера, чтобы всю эту сцену перенести».
Несомненно, Николай Сергеевич вдруг увидел перед собой не талантливого ребёнка Серёжу, а неожиданно взрослого и уверенного в собственной правоте человека. Далее туман сгущается, свидетельства путаются. Похоже, от возможного примирения уходили оба.
В конце концов, Николай Сергеевич назначил встречу у Сатиных, родственников Рахманинова. За четыре московских года Сергей был у них лишь дважды.
В гостиной их ждали. Собрался семейный совет. Николай Сергеевич говорил спокойно: несходство темпераментов, жить под одной крышей нельзя… Бросать бывшего подопечного на произвол судьбы не хотелось бы. Он надеется, что родственники смогут о нём позаботиться.
Ранним утром Рахманинов уложил нехитрый багаж и перебрался к консерваторскому приятелю, Слонову. Михаил Акимович учился по классу вокала, жил отдельно. У него Сергей рассчитывал получить пристанище на первое время. О дальнейшем не думалось: уроки фортепиано приносили только 15 рублей в месяц.
Конечно, он поторопился с уходом. Варвара Аркадьевна Сатина и Юлия Аркадьевна Зилоти, родные тётки, оббегали весь город. Хмурого племянника нашли только на следующий день. Не согласится ли Серёжа пожить у них? – Варвара Аркадьевна спросила его не без волнения.
И вот – дом в Левшинском переулке на Пречистенке. Глава семьи, Александр Александрович Сатин, тётя Варя, урождённая Рахманинова, его жена.
Юный музыкант не знал, что здесь творилось утром. Взрослые удалились за двери кабинета. Младшим, чтобы не глазели, дали разматывать шерсть. Сказали: сейчас сюда придёт ваш двоюродный брат, Серёжа, у него неприятности, и надо с ним быть подобрее.
Рахманинов увидел детей, которые разматывают большие клубки. Подсел, начал помогать. За таковым занятием и познакомились. Саша Сатин – ровесник. Наташе – двенадцать, Соне – десять, Володе – восемь.
…К замкнутому характеру Сергея скоро привыкли. И, конечно, настал тот день, когда Сатины услышали его заразительный смех.
2. Необыкновенное лето
Наступил год 1890-й. Сергей жил у Сатиных. Начались месяцы занятий, особенно трудные из-за ссоры со Зверевым. Но на экзамене свои «пять с крестом» за фортепиано он всё равно получит. Отличится и у Танеева по контрапункту, и у Смоленского по истории церковного пения. Рахманинов ещё не мог предвидеть, сколь значимым станет для его музыки Степан Васильевич. Смоленский преподавал не только в консерватории, он возглавлял Московское синодальное училище церковного пения. Вникнуть в древнерусское церковное пение, ощутить его красоту и стать одним из основоположников новой духовной музыки – с этим вошёл Смоленский в историю русской культуры. Но подлинно творческое общение Степана Васильевича и его ученика – дело будущего.
С Наташей Сатиной, ученицей Зверева, Сергей немножко занимался. Пытался сочинять. Сначала появится лермонтовский романс «У врат обители святой», потом «Я тебе ничего не скажу» на стихи Фета. Но музыка его словно жила в предчувствии чего-то необыкновенного.
Когда повеял тот волшебный ветерок в его биографии?
Сначала в их доме появилась Елизавета Александровна Скалон с дочерьми. Ехала из Петербурга в Ивановку проездом через Москву. Заглянула к брату. Родственное семейство встретило их шумно. Возрастом Наталья, Людмила и Вера Скалон – чуть постарше Наташи, Сони и Володи Сатиных, только один Сашок был вполне «по росту» скалоновской компании. Варвара Аркадьевна тут же познакомила гостей и с другим «взрослым» ребёнком – со своим племянником-консерваторцем.
Сергей вышел к барышням – высокий, молчаливый, худой, длинноволосый. Сёстрам юный музыкант не приглянулся: слишком хмур. С. временем, уже в Ивановке, они увидят другого Рахманинова.
Степная Россия, её неподвижный воздух в солнцепёк, стрекот кузнечиков, разлитый по нагретой земле. Качание трав при малейшем ветерке. Нескончаемые дали. И тенистый уголок в этом бескрайнем мире – с аллеями, птичьими голосами, заливом, скрипом уключин. И столь простое название: Ивановка.
Лето 1890-го – из тех, от которых в памяти остаётся ощущение сладкого восторга. Для будущих биографов оно подёрнуто завесой из каких-то неясностей и недомолвок.
Главное свидетельство этих месяцев – дневник Веры Скалон. Тоненькая тетрадь с пожелтевшими страницами. Несколько листов, выдранных из другой тетради, вложены сюда же. Записи карандашом. День за днём автор дневника заносит свои впечатления и переживания.
Что-то настораживает, когда рассматриваешь эту рукопись. Почему часть записей столь старательно убрана ластиком? Почему тетрадные листы и те, что вложены, – разной желтизны, будто часть дневника написана позже? Да и почерк слегка меняется: последние страницы будто писаны тем же человеком, но спустя годы, когда и почерк становится более «твёрдым». На первой странице – роспись. И она изумляет ещё больше: «Н. Скалон». То есть – не Вера, а Наталья? Наташа Скалон описывает события как бы от лица своей сестры? И, наконец, отсылка к другому, неизвестному нам источнику. После слов: «Теперь приступлю к описанию дня» – стоит: «(См. 5-ая тетр.)». Дневник, несомненно, отразил некоторые события того лета. Но его нельзя считать дневником. Это – произведение, которое лишь по форме напоминает дневник. Неясно, кому из сестёр оно принадлежит. Когда и зачем оно написано15.
Дневник был опубликован в приложении к то́му воспоминаний о композиторе. Ни росписи «Н. Скалон», ни отсылки к «5-й тетради» в напечатанном тексте не было. Доверчивые биографы, не видя рукописи, быстро сочинили историю о юношеской любви композитора.
Сохранились, правда, и его письма, главным образом – к Наталье Скалон. Но в них тоже множество намёков и ничего явного. Говорит только интонация. И если и о любви, то скорее к Наталье Дмитриевне, Татуше, Туки.
В Ивановке тесновато. Много и взрослых, и юных, и совсем маленьких. Александр Александрович занят делами хозяйственными, он в разъездах. Варвара Аркадьевна и Елизавета Александровна присматривают за детьми – и чтобы вели себя прилично, и чтобы от занятий не отлынивали. У младших Сатиных своя француженка – Жеан семнадцати лет. У сестёр Скалон – англичанка. Ей девятнадцать, и сёстры называют её не «мисс», но Миссочка.
Рядом живёт и семейство Зилоти. Александр Ильич до забавного мнителен, всё выискивает у себя хвори. Под стать ему и жена, Вера Павловна, дочь известного купца Павла Михайловича Третьякова. Стоит Александру Ильичу обратить внимание на кого-нибудь из девушек, у неё от ревности начинают ныть зубы. С ними рядом – их милые, крохотные дети, Ника и Ваня. Но это лишь «фон» главных событий душевной жизни Сергея Рахманинова.
Звуки одного рояля неслись из дома, звуки другого – из флигеля. В доме, предвкушая концертный сезон, играл Александр Ильич Зилоти. Во флигеле за инструментом Серёжа или, по очереди, сёстры Скалон, Соня и Наташа Сатины. Девчонки не особенно горели желанием отрабатывать ежедневные «уроки» – вздыхали, капризничали. Да и обязательное чтение отнимало у них много времени. Но всё скучное выветрилось из памяти, осталось – и у Рахманинова, и у Скалон – совсем иное.
Как всё смешалось этим летом! В компании девушек Серёжа стал своим, хотя и был «на особинку». Легко раздавал забавные имена. Татуше Скалон, самой старшей, – Ментор. Она и впрямь любила поучать, руководить. Людмиле – Цукина (очень уж восторгалась балериной Цукки). Младшей, Вере, – Брикушка, Беленькая, Психопатушка.
Словечко «психопат» в те годы было в моде. Оно то и дело крутилось у Рахманинова на языке. Он мог им окликнуть и Сашу Сатина, когда тот начинал наигрывать на окарине16, и себя обозвать. Но именно к Вере это Психопатушка походило как ни к кому другому. Слабенькая – порок сердца и ревматизм суставов, – чуть экзальтированная, она очень хотела нравиться. Были у неё и друг детства, Сергей Толбузин, и давняя с ним взаимная симпатия. Но воздух Ивановки действовал необыкновенно. Ей захотелось внимания со стороны «С. В.» (так будет обозначен Рахманинов в «скалоновской» тетрадке). Он был непонятный, странноватый. На беду – настолько странноватый, что Брикушка на него то и дело досадует. Очень уж внимателен к Татуше, к Тунечке, к Ментору, хотя она и старше его. Над Татушей он подтрунивал, когда та начинала кого-нибудь распекать. Её рукопись – она сочиняла роман! – взял почитать. С ней играл в четыре руки – Тунечка и правда хорошо читала ноты с листа, так что С. В. её только нахваливал.
Их возраст тоже играл свою роль. Верочке Скалон – четырнадцать и в августе исполнится пятнадцать. Лёле – шестнадцать. Татуше – двадцать один. Саше Сатину, как и Серёже Рахманинову, – семнадцать. Иногда сюда наезжал младший брат Александра Зилоти, Дмитрий Ильич. Он самый старший в их компании, ему двадцать четыре.
Внешний сюжет запутан и не особенно занимателен. Детская ревность Веры к Татуше, скрытое предубеждение Серёжи по отношению к Мите Зилоти, его же смешливые упоминания Толбузина, чтобы Вера услышала, намёки старших сестёр на её чувства. Внутренний сюжет – можно только угадывать.
Диалоги С. В. и Татуши понятны только им одним. Как и нередкие размолвки.
Рахманинов казался иногда старше, «серьёзнее» своего возраста. У него и фортепиано звучит «по-настоящему», и к тому же – хотя и волею случая – от Петра Ильича Чайковского через Александра Зилоти он получил совсем «взрослый» заказ.
Иной раз юный музыкант, сосредоточенный, уединяется, что-то сочиняет. В часы отдыха он совсем простой, невероятно смешлив. отлично управляется с вёслами и всегда готов катать сестёр на лодке. Милый, долговязый, лохматый (именно сёстры Скалон присоветуют ему коротко стричься).
Само место – Ивановка – казалось «заколдованным». Рядом с усадьбой – тенистый парк, беседки и везде цветы, цветы, цветы… Влажные овраги с водой и густой травой делали место необычайно живописным. Был и залив – та часть пруда, что словно бы делила одну сторону парка на два берега. И что могло быть лучше лунной ночи, плавного скольжения лодки, девичьих приглушённых голосов и редких восклицаний! Смотреть, как качаются звёзды в воде, следить за колыханием светлой дорожки, слышать «скалонистый» смех…
Их общая влюблённость растворится в далях времени. Какие-то эпизоды будут всплывать в воспоминаниях, как в полусне. Вот конь чуть не сбросил Лёлю Скалон, но С. В. подоспел, подхватил и, сам ловко вскочив в седло, обуздал норовливую лошадь. Вот стог душистого сена в поле, где так хорошо развалиться и мечтать, вздыхать… Лёля вспомнит его через многие годы:
«Омёт высокий, но с одной стороны отлогий. Серёжа кричит:
– А ну! Кто первый взберётся наверх? – Все карабкаются, хохочут, толкают друг друга. Я завалилась и никак не могу встать, Серёжа мне протягивает руку и с силой подтаскивает. Красные, запыхавшиеся, мы все устраиваемся удобно, как в гнёздышке, а Серёжа говорит:
– Как здесь хорошо, будем часто сюда забираться».
Рахманинов вспомнит это место через три года, в письме Татуше Скалон: «…Известные воспоминания, известные мысли, известное ожидание, сомнение, маленький страх и т. д. Вообще приходит срок доказывать справедливость слов, сказанных кем-то, когда-то и где-то! (Впрочем, я знаю где: на соломе!)».
Строки, из которых трудно понять что-либо, кроме скрытой горечи о несбывшемся. Но счастье всегда недолговечно. И всегда необъяснимо, как чудо.
Вера, Беленькая, вздохнёт: «Кто объяснит, наконец, за кем же он ухаживает?» Мог ли С. В. и сам вполне понять свои чувства? Внимание Психопатушки было мило. В Лёлин час, когда с двух до трёх она играла на рояле, он сидел иногда на табуретке рядом и ловил эти звуки с живым участием. Ему нравилось наблюдать, как Цукина Дмитриевна надувает губки, если Елизавета Александровна её одёрнет. Более глубокое, но трудно объяснимое чувство – к старшей. И в письмах его зазвучит: Наталья Дмитриевна, Татуша, Туки, Тата-ба.
Вере, которую загоняли домой до наступления позднего часа, он посвятит «ночной» романс на стихи Фета:
О, долго буду я, в молчанье ночи тайной,
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайный,
Перстам послушную волос густую прядь
Из мыслей изгонять и снова призывать;
Дыша порывисто, один, никем не зримый,
Досады и стыда румянами палимый,
Искать хотя одной загадочной черты
В словах, которые произносила ты…
Стихи – с трепетом, со стуком сердца. И в тот же опус 4-й войдёт и один из самых знаменитых романсов, «пушкинский», – «Не пой, красавица, при мне…». Его он посвятит Наташе Сатиной. Лёле, уже в 1896-м, преподнесёт «Я жду тебя» на стихи Давидовой. Татуше вскорости – Вальс для исполнения в шесть рук. Сам же обозначит, кто его должен играть: primo – Вера Скалон, secondo – Людмила Скалон, terzo – Наталья Скалон. Фортепианный Романс для того же состава исполнителей, законченный чуть позже, отошлёт Татуше ко 2 ноября 1891 года, в подарок на день рождения. Через три года – после доверительной и непростой переписки – посвятит ей романс «Сон», на стихи Гейне в переводе Плещеева. В письме намекнёт, что многое в этом сочинении «текст объясняет»:
И у меня был край родной;
Прекрасен он!
Там ель качалась надо мной…
Но то был сон!
Семья друзей жива была.
Со всех сторон
Звучали мне любви слова…
Но то был сон!
…Ивановка 1890-го, шумная, многолюдная. Несмолкающие звуки роялей. Рахманинов «долбит» этюды. Или с Татушей вместе они читают по нотам оперу Арриго Бойто «Мефистофель» – хотят решить о ней свой спор. Или – с Александром Ильичом – в четыре руки играют что-нибудь особенно замечательное.
Оба консерваторца – и учитель и ученик – погружены в Чайковского. Зилоти держит корректуру недавно написанной Петром Ильичом «Пиковой дамы». Серёжа делает четырёхручное переложение «Спящей красавицы». Иной раз наведывается с вопросами к Александру Ильичу. В это же лето рождается и его собственная музыка, непохожая на всё, что он писал до сей поры. Не потому ли, что именно в Ивановке он открыл её истоки?
Тамбовская губерния – это совсем другая Россия, не сходная ни с Онегом, ни с Новгородом, ни с Москвой. Рожь и овёс качаются под ветерком. Кое-где встречаются перелески, их тут называют кустами. И – степи. Те самые дали, которые войдут в его музыку долгими, протяжными мелодиями. Степной воздух, с запахом трав и земли. Радостные переливы жаворонков, что взлетают высоко под небеса. Медленное кружение ястребов. В полдень здесь словно застывает время.
Первый концерт для фортепиано с оркестром Рахманинов будет сочинять долго, целый год. Уже в конце 1917-го композитор заново переработает своё юношеское сочинение. И правка – подобна возвращению: он лишь отчётливее прояснит то восторженное и одновременно тревожное состояние необыкновенного 1890-го.
Бурное вступление с фортепианным ниспадающим, с задержками, пассажем может напомнить концерт Грига, который звучал в Ивановке из дома, где жил Зилоти. Правда, Рахманинов – жёстче, резче, твёрже. В мелодических движениях ощутимо «лирическое веяние» Чайковского. Но Рахманинов – мужественнее и непреклоннее.
В концерте царствует фортепиано. Оркестр лишь сопровождает его. Концерт получился лирический, хотя, в иных эпизодах, и с драматическими изломами, и с «эпическим дыханием». Главная тема – завораживает. Она была найдена здесь, в Ивановке. С побочной композитор мучился. Поначалу выходило бледно. Потом он найдёт новые интонации и краски17.
Вторую часть концерта исследователи сближают и с романсом «для Веры» – «В молчанье ночи тайной»18, и со всеми невокальными «Мелодиями», «Песнями» и «Романсами» композитора19, значит, и с тем шестиручным «Романсом» для фортепиано, который он напишет в следующем году для Татуши. «Баркарольный» фон во второй части неизбежно вызывает образы воды – не того ли самого пруда в Ивановке, по которому скользила лодка? Но явлены здесь и широта, и дальний горизонт, который отныне станет неотъемлемой чертой звукового мира Рахманинова. Есть в музыке и лёгкие позванивания, за которыми услышат и дождевые капли, и – далее – колокольчики и бубенцы, образ дальних дорог.
Третья часть концерта построена как рондо-соната. Здесь – и быстрые эпизоды, и те, что вобрали в себя «дыхание пространств». В концерте соединились и мятежные душевные страсти, и величие родных просторов. Предчувствие концерта и первые наброски связаны с Ивановкой. Завершение произведения – с той же Ивановкой, только через год.


