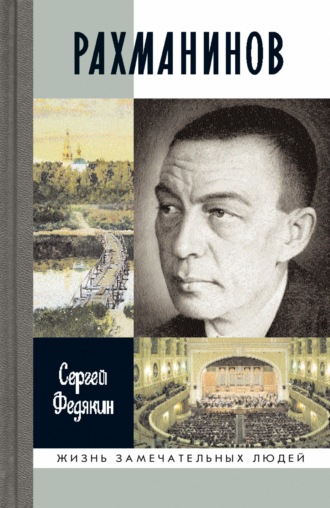
Сергей Федякин
Рахманинов
2. Петербургский сорвиголова
Осень 1880-го. Семья Рахманиновых перебирается в Петербург. Позади – Онег с его просторами, Новгород с его палисадниками и тихими закоулками. Перед глазами – прямые улицы, набережные с чугунными решётками, дворцы, доходные дома… Множество людей, экипажей, городовых, уличных продавцов… Всё это кричит, стучит, грохочет. И не важно, какой впервые Серёжа Рахманинов увидел столицу – озарённую солнцем или погружённую в дождь. В воздухе всё равно ощущалось то же, пушкинское:
Над омрачённым Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной…
Трагедия коснулась России в начале 1881-го. Не только ушли из жизни – один за другим – Достоевский, Николай Рубинштейн, Писемский, Мусоргский. Ранней весной взрывом бомбы убит император Александр II. С. временем на месте покушения возведут исторический символ – Спас на Крови. Первый камень ляжет в 1893-м, закончат строительство собора в 1907-м. Но история великой империи уже двинулась путём ужасов и катастроф: террор снизу – террор сверху, гибель царя, великих князей, градоначальников, и – бомбометателей…
Теперь исторический излом, переживаемый Россией, совпал с напастями, которые свалились на семью Рахманиновых.
…О петербургских годах композитора известно не так много. Какие-то клочковатые сведения, отдельные эпизоды. Но и за ними ощущается жизнь, полная невзгод. Размолвки между родителями всё чаще. Брат Владимир – в кадетском корпусе, сестра Елена – в пансионе. Сергей часто живёт у тёти, Марии Аркадьевны Трубниковой. Весной 1882-го трое детей – Володя, Серёжа, Соня – заболели дифтеритом. Выжили только мальчики. Сестрёнку композитор вспоминал и совсем взрослым.
Беда уже постучалась к Рахманиновым, но далее в тот год всё шло ещё вполне благополучно. 23 июля 1882 года Василий Аркадьевич составляет прошение, адресованное директору Санкт-Петербургской консерватории, а в сентябре Серёжа держит вступительные экзамены.
Музыкальные предметы он сдавал очень хорошо. Закон Божий, чтение, арифметику – несколько хуже. Зачислили его в «комплектные» учащиеся, и платить родителям приходилось только за обычные гимназические предметы по 50 рублей в месяц.
В первый консерваторский год ниточка судьбы юного дарования тянется более или менее ровно: ходит на занятия, выступает в концертах. Но далее начинаются узлы и зигзаги, и таких поворотов не ожидал никто.
Владимир Васильевич Демянский, учитель фортепиано, – наставник опытный и толковый. Из тех, кто стремится к каждому ученику найти особый подход6. Он всячески настаивал, чтобы ученики работали за инструментом постоянно. Учил отрабатывать произведение отрывок за отрывком, но так, чтобы за малым не терялось целое. Этому правилу Сергей Васильевич Рахманинов будет следовать и в зрелые, знаменитые свои годы.
Александр Иванович Рубец, большой, громкий человек, происходил из породы людей незаурядных. Некогда попал в консерваторию из судейских чиновников, двадцати четырёх лет от роду. Был принят за отличный вокал. Студентом обнаружил замечательный талант в области теории музыки. Он записывал народные песни, организовывал хоры, а его учебники стали незаменимым пособием для многих начинающих музыкантов.
И абсолютный слух, и ту лёгкость, с какой ученик выполняет задания по сольфеджио, Александр Иванович оценил сразу. Зачем столь талантливому мальчику сидеть в начальном классе? Не лучше ли сразу перевести его в класс гармонии? Дальше и начинаются «диссонансы».
Сразу скакнув выше на один курс, Серёжа ощутил себя в безвоздушном пространстве. Не зная азов, постигнуть теорию он не мог. Стал прогуливать занятия. Когда вернулся в класс сольфеджио, отвыкнуть от вольной жизни уже не мог.
Разлад в его консерваторских занятиях, разлад в семье. Пока никто не думал, что Любовь Петровна больна. О таких людях обычно говорят: «тяжёлый характер». До припадка – холодность, недовольство, ворчливость, после – вялость, слезливость. Василий Аркадьевич переносил истерические выходки супруги с трудом. Она – уходила в себя, иной раз забывая и о детях. Даже пожилым человеком Сергей Васильевич мог о матери вспомнить немногое: когда ушёл отец, они вместе плакали.
Преданная подруга и наперсница маленького Рахманинова – бабушка, Софья Александровна. Но она в Петербурге бывала лишь наездами. Любил он и тётку, сестру отца, Марию Аркадьевну Трубникову. Довольно часто жил у неё. Образ Серёжи запомнится Оле Трубниковой, его двоюродной сестре. Вот она, шестилетка, выглядывает из кроватки: что там делает её брат? И он начинает «пугать»: натягивает на голову простыню, подходит. Ей и страшно и радостно. Взвизгнув, она зарывается в подушки, слышит, как колотится сердце.
На воскресенье к Трубниковым приходил и второй Рахманинов, кадетик Володя. Стоило взрослым отправиться в гости, оставив детей под присмотром старой няни, начинался кавардак. Беготня, крики, грохот… Мальчишки залезали на стулья, на стол – и прыгали вниз. Качали свою двоюродную сестрёнку на одеяле. Додумались и до более опасных развлечений. Из обеденного стола вытаскивали доски, подставляли их наклонно к буфету и, как с горки, съезжали вниз. Однажды и малолетку Олю, чтобы доставить ей радость, спустили «с горы». Перепуганная няня только всплеснула руками: «Мучители! Сломаете ребёнку шею!»7
Серёжа рос сорванцом. И жил своей жизнью.
По пути в консерваторию частенько сворачивал на каток – звук коньков, полёт-скольжение – восторг! Но постоянное развлечение и на весь год – конка. Лошади тянут вагон, ими правит вагоновожатый. Запрыгнуть на подножку, когда конка разгоняется, когда кондуктор ещё далеко, – и мчаться. Вагон трясётся, дребезжит, по его содроганиям чувствуешь скорость… И соскочить нужно вовремя, пока городовой не подоспел.
Развлечение было опасным: под конкой калечились, ломали руки, ноги. Серёжа соскакивал на полном ходу, не боясь угодить под другой экипаж. Зимой поручни покрывались льдом, подобные трюки становились ещё рискованнее.
Никто не знал о его проделках. Гроза разразилась зимой 1884-го, когда он завалил экзамены по общеобразовательным предметам. Любовь Петровна всполошилась. На счастье, именно в это время в Петербурге оказался Александр Ильич Зилоти – двоюродный брат Серёжи, сын Юлии Аркадьевны, урождённой Рахманиновой, – и уже известный пианист. Некогда Александр Ильич учился в Москве, у педагога Николая Сергеевича Зверева. Потом сделал блестящую карьеру. Был учеником Франца Листа. Концерты Зилоти имели успех. В 1884-м, вернувшись из заграницы, он побывал в старой столице у своего учителя. Поиграл в непринуждённой домашней обстановке, ослепил зверевских учеников и виртуозностью, и блеском, и волшебным звучанием рояля. В декабре объявился в Питере…
От директора Петербургской консерватории, знаменитого виолончелиста Карла Юльевича Давыдова, Зилоти услышал: «Серёжа мальчик способный, но большой шалун». Поначалу Александр Ильич не хотел даже слушать игру двоюродного брата, но всё же склонился на просьбы матери.
Талант – необычайно редкий – был очевиден; совет, однако, был прост: наставить Серёжу на путь истинный может только такой педагог, как Зверев.
Прошло ещё полгода. На весенней сессии результаты маленького Рахманинова не улучшились. Тогда-то мать и решила, наконец, забрать сына из консерватории и воспользоваться советом и рекомендацией Александра Ильича.
…Эти странные, озорные и горькие годы всё-таки оставят и музыкальные впечатления. Связаны они будут с родными людьми.
О Елене, родной сестре, он и через десятилетия будет говорить с восхищением: «Она была удивительная девочка: красивая, умная, необычная и, несмотря на внешнюю хрупкость, обладающая поистине геркулесовой силой. Мы, мальчики, бывали потрясены, видя, как она играючи гнула пальцами серебряный рубль». Сводила с ума поклонников в свои шестнадцать-семнадцать. И маленький Серёжа с бабушкой обсуждали, насколько хорош или плох один, другой, третий, перебирая их достоинства и недостатки. Но кроме таланта нравиться, завораживать, был голос, необыкновенный голос. Она ни у кого не училась, умение пришло само собой. Серёжа слушал сестру – это несравненное контральто – с замиранием сердца. В исполнении Елены ему впервые открылся Чайковский.
Казалось, её ждало великое будущее. Она стала брать уроки, преподаватель настоял, чтобы Лёлю прослушали в Мариинском театре8. Когда спустя чуть ли не полвека композитор рассказывал биографу о сестре, его волнение ощущалось даже через возможные искажения памяти: «…Её голос и исполнение произвели там сенсацию. Елену немедленно ангажировали на сольные партии – честь, которой новички удостаивались чрезвычайно редко. Но, как я уже сказал, она не успела увидеть огни рампы».
Малокровие у девушки семнадцати лет – и смятение, пережитое братом: «Я помню жуткое чувство, которое испытал, когда она уколола палец и вместо крови из него потекла вода. Ей не довелось встретить свою восемнадцатую весну».
Другое сильное впечатление связано с бабушкой. Софья Александровна Бутакова в церковь брала и внука. Часами они стояли на службе – и в Петербурге, и, если летом, в Новгороде. Она усердно молилась, он слушал хор:
«Я всегда старался найти местечко под галереей и ловил каждый звук. Благодаря хорошей памяти я легко запоминал почти всё, что слышал. И в буквальном смысле слова превращал это в капитал: приходя домой, я садился за фортепиано и играл всё, что услышал. За эти концерты бабушка никогда не забывала наградить меня двадцатью пятью копейками – немалой суммой для мальчика десяти-одиннадцати лет».
Бабушка летом 1887-го купила небольшое именьице Борисово, чтобы лето провести с внуком.
…Дом на берегу Волхова, неподалёку озеро Ильмень. Кругом леса, луга и поля. Три месяца полной свободы. В глазах деревенских мальчишек он – герой: настолько здорово плавал.
Серёжу не стесняли ничем: мог купаться, удить рыбу, в сумерки взять лодку и плыть вниз по течению – видеть медленный лёт цапель, слышать, как в камышах, поблизости, кричат дикие утки, а издали доносятся вечерние звоны Новгорода.
Часто запрягали коляску, внук вёз бабушку в соседний монастырь на службу. Он видел, как звонарь управляется с верёвками, слышал, как колокольный звон летит над землёй.
Бабушка иногда приглашала гостей или сама с внуком отправлялась нанести визит. Его ждало неизменное фортепиано. Замученный в консерватории этюдами Крамера, сонатинами Кулау и Диабелли, он начинал импровизировать, выдавая свои мимолётные композиции за сочинения Шопена или других известных композиторов. Знал, что публика у него невзыскательная, знатоков нет, чувствовал себя за роялем вольготно и каждый раз срывал аплодисменты9.
В последнее лето перед отъездом в Москву пришла и печаль расставания. О будущем наставнике, профессоре Звереве, Рахманинов наслушался много неприятного: жёсткий режим дня, тяжёл на руку.
Перед самым отбытием Серёжа привёз бабушку в монастырь. Там отслужили прощальный молебен. Она дала денег, перекрестила и проводила на станцию. В серой курточке, которую бабушка для него сшила, с ранцем за плечами, Серёжа ждал. Софья Александровна купила билет до Москвы. Оба стояли подавленные. Она надела на внука ладанку, в которой лежали 100 рублей. Ему было тяжело и горько. Когда вагон дёрнулся и покатил, он заплакал.
Глава вторая
Москва
1. Среди «зверят»
«Высокий, тонкий, с прямыми седыми волосами, как у Листа, и неожиданно чёрными густыми бровями на бритом лице» – таким запечатлел этого человека один из современников10.
Поговаривали, что старожилы-ученики ещё слышали Зверева-пианиста. Говорили о необыкновенно певучем звуке, помнили, сколь неотразимо исполнял он до-диез минорную сонату Бетховена. Теперь Зверев не играл. Но его знали как ученика Александра Дюбюка и Адольфа Гензельта, корифеев в области фортепианной педагогики. О личной жизни Николая Сергеевича знали мало. Да и сам он, похоже, не любил рассказывать о пережитом, как потерял ребёнка, как рано овдовел. О чиновничьей службе тоже особо не упоминал11. На путь учительства подтолкнул его давний наставник, Александр Иванович Дюбюк. Он же и нашёл ему первых учеников.
Человек светский, Зверев хаживал в гости и принимал у себя. Жил на широкую ногу. За карточным столом отличался редким хладнокровием и к педагогическим заработкам нередко мог присовокупить и выигрыш. Что принесло Николаю Сергеевичу успех на новом поприще – талант преподавателя музыки, светская обходительность, изысканные манеры? Или – всё сразу, сам образ необыкновенного учителя? Стать его учеником непросто, цена уроков высока, авторитет незыблем – особенно в купеческой среде, откуда пришли первые его подопечные.
Музыкантики Николая Сергеевича всегда обращали на себя внимание. И когда открылась Московская консерватория, её основатель, Николай Рубинштейн, именно Звереву предложил должность преподавателя младших классов. Теперь необыкновенный учитель у себя дома – на полном пансионе – держал Леонида Максимова и Матвея Пресмана. Нельзя сказать, что воспитанники его жили и учились совсем бесплатно. Отец Пресмана одно время посылал кое-какие суммы. Но стоило Моте получить из дома письмо с печальным известием, что более нет средств, его наставник, пробежав послание и глядя в заплаканное лицо ученика, только качнёт головой:
– Чего ревёшь? Разве я когда-нибудь говорил твоему отцу о деньгах? Он посылал, сколько мог, теперь посылать не в состоянии. Ему об этом следовало написать мне, а не тебе. Будешь жить у меня по-прежнему.
Пансионеры не приносили дохода. Но он любил их показывать в домашних концертах. И если они играли с подъёмом, слушатели таяли от восхищения, а учитель приходил в доброе расположение духа.
Зверев был завален уроками. В восемь утра шёл на первое занятие. С девяти до двенадцати преподавал в консерватории. Потом опять ездил по частным урокам до самого вечера. И лишь после этого начиналась светская жизнь. Частенько учитель возвращался домой, когда его питомцы давно спали.
* * *
Москва встретила Серёжу неприветливо – дождём. Три дня он жил у тётки, Юлии Аркадьевны Зилоти. И… перебрался к знаменитому Звереву. Он быстро понял: «Слухи об исключительной строгости Зверева, которыми меня так напугали, оказались сущим вздором». В Николае Сергеевиче Звереве уживались и деспот, и добряк, и сумасброд, и человек широкой души. Но воспитателем был строгим: его «зверята» вели жизнь маленьких спартанцев.
…Общая спальня, рояль один на троих. В шесть утра – за инструментом первый, через три часа – второй, ещё через три – следующий. Пока один долбит упражнения, остальные постигают иные науки. Утренние «смены» отрабатывали по очереди: вставать в такую рань непросто. А наставник требовал чёткости, терпеть не мог халтуры. Когда полусонный ученик играл вяло, невнятно, спотыкаясь, грозный учитель, в одном белье, появлялся в дверях. После окрика сон слетал мгновенно.
Но и без воспитателя распускаться не получалось. Если Зверев отсутствовал, за порядком следила его сестра, старенькая Анна Сергеевна – сразу и хозяйка и надзирательница. Стоило кому-нибудь из подопечных опоздать с началом занятия или встать из-за инструмента раньше, Николай Сергеевич вечером узнавал о провинности и спуску не давал.
Основные уроки проходили в консерватории. В технике «зверята» шли примерно «на равных», частенько разучивали одну и ту же пьесу. И для педагога удобно: один сыграет не так – другой поправит.
Особой педагогической системы Николай Сергеевич не имел – для выработки техники играли скучные этюды и упражнения. Но он давал главное: постановку рук. К игре напряжённой рукой относился беспощадно. Не оставлял вниманием и звук: играть музыкально – сразу, не «тараторить» пальцами, но вносить в исполнение живое дыхание. Если ученик начинал «врать», выходил из себя.
…В тот день игра не клеилась. И Пресман на всю жизнь запомнил злополучный Второй концерт Джона Фильда.
«Пришли к Звереву в консерваторию на урок. Сел играть Рахманинов. Вначале всё шло как будто гладко. Вдруг – стоп!
– Ты что это играешь? – крикнул Николай Сергеевич. – Сыграй вот это место ещё раз! – Рахманинов повторяет. – Опять врёшь! Опять не так! Просчитай это место!..»
Рахманинова сменил Максимов. Когда дошёл до рокового такта, всё повторилось. Только Зверев в сердцах ещё двинул стул ногой, да так, что Лёля полетел со стула.
Мотя споткнулся на том же месте. Зверев был вне себя. Повёл учеников к Танееву:
– Потребую у директора, чтобы всех вас убрали из моего класса. Учитесь у кого хотите!..
Удручённые, они тянулись следом. Танеева в профессорской не оказалось. Зверев отлучился, велев ждать.
Сквозь дверные стёкла они смотрели на длинный, широкий коридор. Туда-сюда сновали ученики, поглядывали на них с любопытством. «Зверята» упорно рассматривали книги в шкафу, чувствовали себя неловко. И вдруг через предательское стекло увидели: их наставник, взбешённый, спускается по лестнице, а следом – понурый, руки по швам – сползает со ступеньки на ступеньку ещё один его ученик, Вильбушевич.
Они и сами испугались собственного хохота. Зверев обомлел, глядя на их нервный смех. Наконец рявкнул: «Вон отсюда!!!» И его подопечные стремглав бросились из кабинета.
Рахманинов, уже знаменитый музыкант, говорил о своём наставнике только хорошее: человек «редкого ума и огромной доброты». Да и ценили его люди замечательные: «Он оказался восторженным поклонником Достоевского, которого знал лично и чьи произведения изучал со всей серьёзностью».
Но и вспыльчивость Зверева была из ряда вон: «Когда он выходил из себя, то способен был наброситься на человека с кулаками и запустить в него чем попало; допускаю, что в каких-то случаях он мог бы без колебаний убить своего противника».
Тумака ученик мог получить за дурно приготовленный урок («Сегодня лень снова привела мальчика к неприятностям»). Но и под горячую руку попадать не стоило. Рахманинов припомнит не без улыбки: «Мне досталось от него тоже, четыре или пять раз, но в отличие от остальных не по “музыкальной” части».
Только на одного ученика Николай Сергеевич ни разу не повысил голоса. Тот появится в один из воскресных дней, маленький кадетик – тоненький и хрупкий. Звали его Александр Скрябин. Зверев скоро стал называть его ласково «Скрябушей», души в нём не чаял. Кадетик ходил, нервно потирая руки. Была у него и странная привычка – тремя пальцами руки проводить по вздёрнутому носику, будто он тянет его вниз. «Скрябуша» занимался только раз в неделю, но вперёд двигался стремительно. Привозил сразу несколько этюдов и пьес, играл по памяти, всегда отлично подготовленный12. Зверев знал, как расшевелить своих питомцев, затронуть гордость, заставить подтянуться. Однажды после урока с кадетиком довольный Зверев широко распахнул двери гостиной и позвал своих мальчишек. Скрябин заиграл вариации Гайдна – продуманно, технично, совсем «по-взрослому». В другой раз они услышали 12 пьес Йенсена. Кадетик приготовил их всего за неделю, но как! И красота звука, и техника – из области невозможного13.
…Строгость и забота. Наставник относился к своим «зверятам» почти с отеческой любовью. Звал коротко, не «Лёля, Серёжа, Мотя», но «Лё, Се, Мо». Кормил, одевал. Чёрную гимназическую форму – брюки и китель со стоячим воротничком – заказывал у лучшего портного, который обшивал и самого Николая Сергеевича.
Учили их не только музыке. Из языков – французскому и немецкому. А в воскресенье они ездили на уроки танцев, в дом, где их ждали девицы, тоже ученицы Зверева.
Был у них и ещё один преподаватель. С этой пианисткой встречались два раза в неделю. На двух роялях играли в восемь рук Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана…
Не пропускали и премьер – в Большом и Малом. Видели известных актёров. Перед глазами «зверят» прошли и знаменитые европейцы – Сальвини, Росси, Барнай, Элеонора Дузе, – и свои: Ермолова, Южин, Ленский, Садовские…
Вчетвером занимали дорогую ложу в бельэтаже. Зверев присматривал… «Лё, Се, Мо» уже знали правила: не глазеть в бинокль на публику, не разговаривать громко, не хохотать. И если кто-то положит локти на барьер ложи, а то и упрётся в него подбородком, услышит отрывистое ворчание:
– Заодно уж и подушку бы на барьер положил! Я что, потому беру хорошие места, чтобы вы себя неприлично вели?
После концертов – обсуждали. Не только коротко: «понравилось – не понравилось». Наставник ждал объяснения: почему игра того или этого замечательна? И почему – бледновата?
Зверев учил их вести себя в обществе, поддерживать беседу. Отсеивал знакомых с дурными наклонностями, особенно его раздражали хвастуны и притворщики. Требовал забыть коньки, верховую езду и греблю, дабы случайно не повредить руки. Запретил разговаривать зимой после бани. Зато дозволял брать любую книгу из собственной богатейшей библиотеки.
Однажды Рахманинов принялся за Достоевского, за «Бесов». Зверев пришёл рано в самом благодушном настроении. В гостиной сел за круглый стол рядом с питомцами. Вдруг повернулся к Сергею: «Ну, мой мальчик, что ты сегодня читал?.. М-да-а. Ты всё понял?.. Чудесно, друг мой. Принеси мне книгу».
Этот разговор композитор повторит биографу чуть ли не через полвека.
«– Ты помнишь это прекрасное место, где Кириллов высказывает свои идеи относительно смерти?
– Конечно, помню.
Он взял у меня книгу и открыл её на том месте, о котором говорил.
– Прочти, пожалуйста.
Я повиновался. Когда я кончил, он пристально вгляделся в меня, и лёгкая усмешка скользнула по его губам.
– А теперь, мой мальчик, расскажи мне о том, что ты прочёл.
Я начал было рассказывать, но с каждой фразой запутывался всё сильнее и сильнее. Кровь бросилась мне в голову, и я не мог воспроизвести или пересказать идеи Достоевского, которые, наверное, трудно было схватить в моём возрасте.
Не говоря ни слова, Зверев покачал головой».
Урок, который не забудешь: нужно не только прочесть произведение, но и понять его… Не только сюжет, события, но и глубинные «течения». Ведь идеи Кириллова – это не только мысли «сами по себе». Они живут в произведении, цепко связаны и с сюжетом, и с поведением других персонажей. Роман Достоевского подобен образно-смысловой «партитуре», он требует очень внимательного вчитывания. Вот что таилось и в этом покачивании головой, и в этой лёгкой усмешке.
День седьмой – или, по слову наставника, «отдохновение от трудов» – в неумолимый ритм повседневной работы вносит заметное разнообразие. Николай Сергеевич – гурман и хлебосол. Еда на столе – изысканная, публика за столом – тоже. Музыканты, актёры, писатели, адвокаты. Профессора консерватории – А. С. Аренский, С. И. Танеев, П. А. Пабст, Н. Д. Кашкин. Когда бывал в Москве – заглядывал и А. И. Зилоти. Появлялись заезжие знаменитости. Наведывался и Чайковский.
Трое мальчишек сидели рядом, за тем же столом. После еды, когда готовились карточные столы, занимали гостей. Играли то поодиночке, то в четыре руки, то в шесть. А то и в восемь, если присутствовал ещё кто-то из учеников. А бывали и Скрябин, и Фёдор Кёнеман, и Арсений Корещенко, и Константин Игумнов, и Семён Самуэльсон.
В такой день Зверев разрешал своим подопечным выпить по рюмке водки. В случае особых торжеств – по бокалу шампанского. Подобной «педагогикой» Николай Сергеевич приводил в замешательство многих. Но кривотолки его не смущали. Он и после театра любил с мальчишками заглянуть в трактир. Здесь, за ужином, их тоже ожидала рюмка.
Они знали: на следующий день кому-то в шесть утра быть за роялем. И однажды, когда наставник предложил поехать в театр, Лё-Се-Мо вдруг поинтересовались: нельзя ли после спектакля сразу отправиться домой?
– Но как! – Тень улыбки мелькнула на лице Зверева. – Ведь нужно поужинать!
Ответ его троица произнесла в один голос:
– Тогда в театр не хотим.
Николай Сергеевич посветлел лицом:
– Что ж! Значит, театр отменяется.
В ближайшее воскресенье они услышали, как Зверев втолковывал своим сотрапезникам:
– Ну вот, милые друзья, плоды моего дурного, по вашему мнению, воспитания. Отказались от театра, потому что я не захотел отказаться от трактира! Они побывали там, поглазели на посетителей. Отведали еды, попробовали водки. И всё в моём присутствии. Сами убедились, что в запретном плоде – ничего привлекательного. Моя миссия выполнена. Их уже, видите ли, в трактир не тянет! И рюмкой водки не удивишь!
Наставления в фортепианной игре сочетались с уроками жизни. Матвей Пресман на склоне лет припомнит историю, где одна черта Николая Сергеевича обозначилась со всей полнотой. Брат Моти, будучи проездом в Москве, попросил у него 25 рублей, пообещав немедленно выслать их из дома. Долг вернул, но в тот же день Рахманинов получил письмо от матери. Она жаловалась, что средств нет даже на дрова, чтобы протопить квартиру. Сергей не знал, что делать, собственных денег у него не было. Мотя отдал деньги товарищу, ещё не зная, какую пытку им придётся пережить. Когда Зверев спросил о брате, Пресман промямлил, что долг ещё не пришёл. Краски стыда наставник не заметил, глядел в другую сторону.
– Как ему не стыдно! Я ведь знаю, у него и на кутежи хватает. А вернуть взятые у тебя последние 25 рублей – не может!
И для Пресмана, и для Рахманинова началось мучение. Учитель о долге не забывал, спрашивал день за днём. Недовольство сменялось бранью. Наконец Николай Сергеевич не выдержал:
– Знаешь, Мо, я так возмущён, что решил сам написать твоему брату!
Потерянный Пресман сознался в обмане. Зверев выслушал, пожурил:
– Конечно, ты ничего плохого не сделал. Но – солгал. Теперь и самому стыдно, и брата выставил в дурном свете. И Серёжа нехорошо поступил. Вы со мной должны быть откровенны, между нами не должно быть тайн. И вообще, чем искреннее жить, тем легче. Прямой путь тернист. Зато, безусловно, твёрд и прочен.
Гневливый и чуткий, строгий и благородный, он поражал мальчишек и масштабом личности. А главное – об этом вспомнит Рахманинов спустя десятилетия: «…он буквально помешался на нас, своих мальчиках».
«Почти отец». Когда Зверев брал папиросу, они наперегонки хватались за спички, когда зимним утром шёл на занятия – помогали повязать кашне, надеть огромную енотовую шубу и бобровую шапку. Вечером, если он возвращался не поздно, усталый, но в благостном расположении духа, они укладывали его спать: поворачивали на бок, укутывали одеялом, по очереди чмокали в щёку. Ритуал и забавный и трогательный. Довольный, успокоенный, он произносил: «Лё, Се, Мо, как приятно…» Они хором досказывали: «…протянуть ножки после долгих трудов», – гасили свет, уходили к себе.
– Я почему-то уверен: когда помру, вам будет меня жалко. Только не нужно плакать! Лучше, когда судьба сведёт вас за бутылкой вина, выпейте за упокой моей души.
Николай Сергеевич произнесёт эти слова однажды, в минуту тяжкого недомогания. «Зверята» не забудут их. Уже в иной, более взрослой жизни они действительно собирались время от времени помянуть «старика». Что приходило на ум в часы «трактира без Зверева»? Как вечерами – если не ждал театр или концерт – играли с Анной Сергеевной в карты? Без денег, на «просто так». Старушка всё пыталась смухлевать, и Лёля Максимов, бывало, вспыхивал. Но детский её азарт забавлял: ёрзает на стуле, наклоняется, хочет «незаметно» глянуть в карты противника…
Возможно, припоминали, как Серёжа однажды предложил «сочинить что-нибудь». Вечер, горит лампа под абажуром. «Зверята» за столом, корпят над нотной бумагой. У Пресмана – малюсенький «Восточный марш», у Максимова – начало романса. Рахманинов сочинил этюд. Зверев узнал о затее. Каждого заставил исполнить. Какие-то эпизоды у Рахманинова ему показались интересными. Серьёзно к этим опытам наставник не относился, но о сочинительских наклонностях юного музыканта Чайковский узнает именно от Николая Сергеевича.
Не эти ли позднейшие встречи «Лё-Се-Мо» высветят те эпизоды из жизни маленьких музыкальных спартанцев, о которых позже напишет Пресман и расскажет сам Рахманинов? Такие разговоры с зазывным: «А помнишь?» – пропускают одно, закрепляют другое. И, конечно, повзрослевшие «зверята» не только посмеивались над былыми проказами или с благодарностью и грустью вспоминали минуты, когда наставник их был трогателен, добр и великодушен. Были события из ряда незабываемых, «из ряда вон».
Уже в первый «зверевский» год в Москву приехал Антон Рубинштейн. И как не вспомнить подчёркнутой уважительности директора консерватории, Сергея Ивановича Танеева? – «Выражаю просьбу… оказать честь… послушать учеников…»
Играли те из юных консерваторцев, кто успел уже проявить себя: Александр Скрябин, Иосиф Левин, Сергей Рахманинов. А после снова встал Танеев и попросил знаменитого пианиста сыграть для учеников.
Рубинштейн приехал только дирижировать. Но ради консерваторцев исполнил небольшую сонату Бетховена. Серёжа, не остыв от волнения после своего выступления, ничего не запомнил.
Вечером в доме Зверева – приём. За столом человек двадцать гостей, с ними рядом – три мальчика. В награду за хорошую игру Зверев дал «Се» поручение: подойти к Рубинштейну, почтительно взять его за полу фрака и отвести к отведённому месту за столом. Маленького пианиста распирало чувство гордости. Во время обеда он не думал о еде. Жадно ловил каждое слово, каждый жест знаменитого музыканта. Зашёл разговор о молодом исполнителе Д’Альбере – он только что дал концерты в Москве и Питере. Газеты о пианисте писали взахлёб: достойный преемник Рубинштейна! Кто-то захотел узнать мнение об игре виртуоза от самого Антона Григорьевича. Рубинштейн откинулся назад, бросил острый взгляд из-под густых бровей и проговорил с иронией, не без горечи: «О, нынче все хорошо играют на фортепиано!..»
Ещё более поразило «зверят» поведение музыканта в Большом театре, на сотом представлении «Демона». Зал был полон. В партере собралась самая изысканная публика. На галёрке – толчея. Зверев со «зверятами» – как всегда – в своей ложе.
Рубинштейн за пультом. Вторая сцена, поднимается занавес. Оркестр играет замечательно, публика – вся внимание, еле дышит. И вдруг – сухие удары дирижёрской палочкой.
Оркестр смолк. В мёртвой тишине раздался скрипучий голос маэстро:
– Я ведь уже просил на репетиции, чтобы на сцену дали больше света!
За кулисами – шум. Сцена озаряется. Рубинштейн спокойно поднимает палочку. Всё идёт с начала.
Независимость от публики, от оркестра, от организаторов концерта – ради исполняемого сочинения. Это юных музыкантов, похоже, поразило даже более самой оперы.
В следующий раз Рубинштейн приехал со знаменитыми историческими концертами. В семь выступлений он попытался вложить путь развития фортепианного искусства, от самых его истоков до конца XIX века: английские вёрджинелисты, Куперен, Рамо, И. С. Бах, Гендель, Д. Скарлатти, К. Ф. Э. Бах, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Вебер, Мендельсон, Шуман, Шопен, Лист – и далее, вплоть до русских композиторов: Глинки, Балакирева, Корсакова, Кюи, Лядова, Чайковского, Николая Рубинштейна и себя самого.


