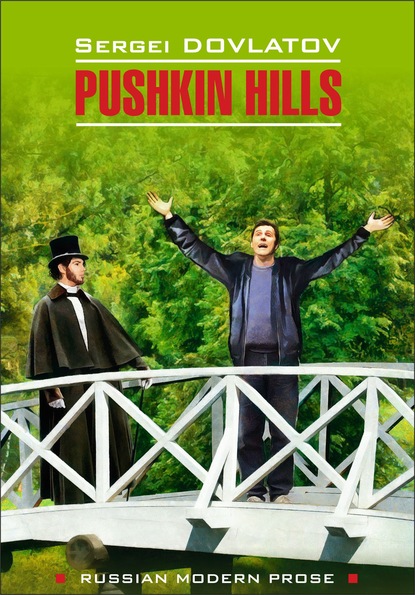Полная версия:
Сергей Донатович Довлатов Жизнь коротка (сборник)
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Сергей Довлатов
Жизнь коротка (сборник)
Публикуется с любезного разрешения Елены и Екатерины Довлатовых
© С. Довлатов (наследники), 2003, 2013
© В. Пожидаев, оформление серии, 2012
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013
® Издательство АЗБУКА
Жизнь коротка
Левицкий раскрыл глаза и сразу начал припоминать какую-то забытую вчерашнюю метафору… «Полнолуние мятной таблетки»?.. «Банановый изгиб полумесяца»?.. Что-то в этом роде, хоть и значительнее по духу.
Метафоры являлись ночью, когда он уже лежал в постели. Записывать их маэстро ленился. Раньше они хранились в памяти до утра. Сейчас, как правило, он не без удовольствия забывал их. Сохранялось легкое облачко нереализованной метафоры. Упущенный шанс маленького словесного приключения.
Левицкий кинул взгляд на белый, амбулаторного цвета столик. Заметил огромный, дорической конфигурации торт. Начал пересчитывать тонкие витые свечи.
Господи, подумал Левицкий, еще один день рождения.
Эту фразу стоило приберечь для репортеров:
«Господи! Еще один день рождения! Какая приятная неожиданность – семьдесят лет!»
Он представил себе заголовки:
«Русский писатель отмечает семидесятилетие на чужбине». «Книги юбиляра выходят повсюду, за исключением Москвы». И наконец: «О Господи, еще один день рождения!»…
Левицкий принял душ, оделся. Захватил почту. Жена, видимо, уехала за подарками. Герлинда – нечто среднее между родственницей и прислугой – обняла его. Маэстро прервал ее словами:
– Ты упомянута в завещании.
Это была их старая шутка.
Она спросила:
– Чай или кофе?
– Пожалуй, кофе.
– Какой желаете?
– Коричневый, наверное.
Потом он расслышал:
– Вас ожидает дама.
Быстро спросил:
– Не с косой?
– Привезла вам какую-то редкость. Я думаю – книгу. Сказала – инкунабула.
Левицкий, улыбаясь, произнес:
– De ses mains tombе' le livre,Dans lequel elle n’avait rien lu.(«Из рук ее выпала непрочитанная книга…»)
Регина Гаспарян сидела в холле больше часа. Правда, ей дали кофе с булочками. Тем не менее все это было довольно унизительно. Могли бы пригласить в гостиную. Благоговение в ней перемешивалось с обидой.
В сумочке ее лежало нечто, размером чуть поболее миниатюрного дамского браунинга «Элита-16».
Регина Гаспарян происходила из благородной обрусевшей семьи. Отец ее был довольно известным преподавателем училища Штиглица. Будучи армянином, сел по делу космополитов. В пятидесятом году следователь Чуев бил его по физиономии альбомом репродукций Дега.
Мать ее была квалифицированной переводчицей. Знала Кашкина. Встречалась с Ритой Ковалевой. Месяц сопровождала Колдуэлла в его турне по Закавказью. Славилась тяжелым характером и экзотической восточной красотой.
В юности Регина была типичной советской школьницей. Участвовала в самодеятельности. Играла Зою Космодемьянскую. Отец, реабилитированный при Хрущеве, называл ее в шутку Зойка Комсомодеянская.
Наступила оттепель. В доме известного художника Гаспаряна собирались молодые люди. В основном поэты. Здесь их подкармливали, а главное – терпеливо выслушивали. Среди них выделялись Липский и Брейн.
Все они понемногу ухаживали за красивой, начитанной, стройной Региной. Посвящали ей стихи. В основном шутливые, юмористические. Брейн писал ей из Сочи в начале Даманского кризиса:
Жди меня, и я вернусь, только очень жди,Жди, когда наводят грусть желтые вожди…Наступили семидесятые годы. Оттепель, как любят выражаться эмигрантские журналисты, сменилась заморозками. Лучшие друзья уезжали на Запад.
Регина Гаспарян колебалась очень недолго. У ее мужа-физика была хорошая, так сказать, объективная профессия. Сама Регина кончила Иняз. Восьмилетняя дочь ее немного говорила по-английски. У матери были дальние родственники в Чикаго.
Семья начала готовиться к отъезду. И тут у Регины возникла неотступная мысль о Левицком.
Романы Левицкого уже давно циркулировали в самиздате. Его считали крупнейшим русским писателем в изгнании. Его даже упоминала советская литературная энциклопедия. Правда, с использованием бранных эпитетов.
Даже биографию Левицкого все знали. Он был сыном видного меньшевистского деятеля. Закончил Горный институт в Петербурге. Выпустил книгу стихов «Пробуждение», которая давно уже числилась библиографической редкостью. Эмигрировал с родителями в девятнадцатом году. Учился на историко-литературном отделении в Праге. Жил во Франции. Увлекался коллекционированием бабочек. Первый роман напечатал в «Современных записках». Год тренировал боксеров в фабричном районе Парижа. На похоронах Ходасевича избил циничного Георгия Иванова. Причем буквально на краю могилы.
Гитлера Левицкий ненавидел. Сталина – тем более. Ленина называл «смутьяном в кепочке». Накануне оккупации перебрался в Соединенные Штаты. Перешел на английский язык, который, впрочем, знал с детства. Стал единственным тогда русско-американским прозаиком.
Всю жизнь он ненавидел хамство, антисемитизм и цензуру. Года за три до семидесятилетнего юбилея возненавидел Нобелевский комитет.
Все знали о его чудачествах. О проведенной мелом линии через три комнаты его гостиничного номера в Швейцарии. (Жене и кухарке запрещалось ступать на его территорию.) О многолетнем безнадежном иске против соседа, который чересчур увлекался музыкой Вагнера. О его вечеринках с угощением, изготовленным по древнегреческим рецептам. О его дуэли с химиком Булавенко, усевшимся в подпитии на клавиши рояля. О его знаменитом высказывании: «Где-то в Сибири должна быть художественная литература…»
И так далее.
О его высокомерии ходили легенды. Так же, как и о его недоступности. Что, по существу, одно и то же. Знаменитому швейцарскому писателю, добивавшемуся встречи, Левицкий сказал по телефону:
«Заходите после двух – лет через шесть…»
О чем говорить, если даже знакомство с кухаркой Левицкого почиталось великой удачей…
В общем, Регину Гаспарян спросили:
– Что ты собираешься делать на Западе?
В ответ прозвучало:
– Многое будет зависеть от разговора с Левицким.
Я думаю, она хотела стать писательницей. Суждениям друзей не очень верила. Обращаться к советским знаменитостям не хотела. Ей не давала покоя кем-то сказанная фраза:
«Шапки долой, господа! Перед вами – гений!»
Кто это сказал? Когда? О ком?..
Накануне отъезда Регина позвонила трем знакомым книжным спекулянтам. Первого звали Савелий. Он сказал:
– «Пробуждение» – это, мать, дохлый номер.
– В смысле?
– Вариант типа «я извиняюсь».
– То есть?
– Операция – «туши свет».
– Если можно, выражайтесь попроще.
– Товар вне прейскуранта.
– Что это значит?
– Это значит – цены фантастические.
– Например?
– Как говорится – от и до.
– Не понимаю.
– От трех и до пяти. Как у Чуковского.
– От трех и до пяти – чего? Сотен?
– Ну.
– А у Чуковского – от двух.
– Так цены же растут…
Регина позвонила другому с фамилией или кличкой – Шмыгло. Он сказал:
– Что это за Левицкий? И что это еще за «Пробуждение»? Не желаете ли Сименона?..
Третий спекулянт ответил:
– Юношеский сборник Левицкого у меня есть. К сожалению, он не продается. Готов обменять его на четырехтомник Мандельштама.
В результате состоялся долгий тройной обмен. Регина достала кому-то заграничный слуховой аппарат. Кого-то устроили по блату в Лесотехническую академию. Кому-то досталось смягчение приговора за вымогательство и шантаж. Еще кому-то – финская облицовочная плитка. На последнем этапе фигурировал четырехтомник Мандельштама. (Под редакцией Филиппова и Струве.)
Через месяц Регина держала перед собой тонкую зеленоватую книжку. Издательство «Гиперборей». Санкт-Петербург. 1916 год. Иван Левицкий. «Пробуждение».
Регина знала, что у самого Левицкого нет этой книги. Об этом шла речь в его знаменитом интервью по «Голосу Америки». Левицкого спросили:
– Ваше отношение к юношеским стихам?
– Они забыты. Это были эскизы моих же последующих романов. Их не существует. Последним экземпляром знаменитый горец растопил буржуйку у себя на даче в Кунцеве.
Зимой Регина получила разрешение на выезд. Дальше было всякое. Отвратительная сцена на таможне. Три месяца нищеты в Ладисполе. Душное нью-йоркское лето, когда они с мужем боялись ночью выйти из гостиницы. Первая контора, откуда ее уволили с формулировкой «излишнее рвение». Несколько рассказов в эмигрантской газете, за которые ей уплатили по тридцать долларов. Затем стремительное восхождение мужа – его неожиданно пригласила фирма «Эксон». А значит, собственный домик, поездки в Европу, разговоры о налогах…
Прошло лет шесть. Регина выпустила первую книгу. Она вызвала положительную реакцию. Кстати, одним из рецензентов был я.
Все эти годы она добивалась знакомства с Левицким. Через Гордея Булаховича познакомилась с его восьмидесятилетней кузиной. Но к этому времени та успела поссориться со знаменитым родственником. Конкретно, они заспорили – где именно стояла баня в родовом поместье Левицких – Ховрино.
Регина обращалась к Янсону, протоиерею Константину, дочери Зайцева – Ольге Борисовне.
Старый писатель Янсон ответил:
«Левицкий сказал обо мне Эдмунду Уилсону, что я, извините, говно…»
Отец Константин написал ей:
«Левицкий не христианин. Он слишком эгоистичен для этого. Адресочком его, виноват, не располагаю…»
Зайцева-Рейнольдс прислала какой-то берлинский адрес и записку:
«Последний раз я видела этого несносного мальчика в тридцать четвертом году. Мы встретились на премьере „Тангейзера“. Он, помнится, сказал:
– Такое впечатление, что неожиданно запели ожившие картонные доспехи.
С тех пор мы не виделись. Боюсь, что его адрес мог измениться».
И все-таки Регина получила его швейцарский адрес. Как выяснилось, адрес был у издателя Поляка. Регина написала Левицкому короткое письмо. Тот откликнулся буквально через две недели:
«Адрес вы знаете. После шести я работаю. Так что приходите утром. И, пожалуйста, без цветов, которые имеют обыкновение вянуть. Постскриптум: не споткнитесь о мои ботинки, которые я ночью выставляю за дверь».
Сидя в холле, Регина задумалась. Почему этот человек живет в отеле? Может быть, ему претит идея собственности? Надо бы задать ему этот вопрос. И еще – что Левицкий думает о Солженицыне? Ведь они такие разные…
– Здравствуйте, Иван Владимирович!
– Мое почтение, – ответил рослый, коротко стриженный господин.
Затем он, не садясь, поинтересовался:
– Выпьете что-нибудь?
– У меня кофе… А вы?
Левицкий улыбнулся и медленно продекламировал:
Я пью неразбавленный виски,Пью водку с зернистой икрой,А друг мой, писатель Левицкий,Лишь бабочек мучить герой…– Это стихи одного моего приятеля.
И затем, после двух секунд молчания:
– Чем, сударыня, могу быть вам полезен?
Регина слегка наклонилась вперед:
– Надо ли говорить, что я ваша давняя поклонница. Особенно ценю «Далекий берег», «Шар», «Происхождение танго». Все это я прочитала еще дома. Риск лишь увеличивал эстетическое наслаждение…
– Да, – кивнул Левицкий, – я знаю. Это что-то вроде Поль де Кока или Мопассана. Читаешь в детстве с риском быть застигнутым… Извините, чем могу служить?
Регина чуть смутилась. Главное, не делать пауз… А он и вправду женоненавистник…
– Я знаю, что у вас сегодня день рождения.
– Спасибо, что напомнили. Еще один день рождения. Приятная неожиданность – семьдесят лет.
Левицкий вдруг перешел на шепот. Глаза его странно округлились.
– Запомните главное, – сказал он, – жизнь коротка…
Регина, преодолевая смущение, выговорила:
– Разрешите кое-что преподнести вам… Я надеюсь… Я уверена… Короче – вот…
Левицкий принял маленькую желтую бандероль. Вскрыл ее, достав из кармана маникюрные ножницы. Теперь он держал в руках свою книгу. Старинный шрифт, отклеившийся корешок, тридцать восемь листков ужасной промышленной бумаги.
Он раскрыл шестую страницу. Прочитал заглавие – «Тропинки сна». Вот он, знакомый неграмотный перенос – «смущение». Да еще с непропечатавшимся хвостиком у «ща».
– О Господи, – сказал Левицкий, – чудо! Где вы это достали? Я был уверен, что экземпляров не существует. Я разыскивал их по всему миру…
– Возьмите, – сказала Регина, – и еще…
Она достала из сумки рукопись в узком конверте. Левицкий учтиво ждал. Давно разработанным усилием он подавил страдальческую гримасу на лице. Потом спросил:
– Это ваше?
Регина отвечала с должной небрежностью:
– Это мои последние рассказы. Не лучшие, увы. Хотелось бы… Если это возможно… Короче, ваше мнение… Буквально в двух словах…
– Вас интересует письменный отзыв?
– Да, знаете ли, буквально три слова… Независимо от…
– Я пришлю вам открытку.
– Замечательно. Мой адрес на последней странице.
Левицкий привстал:
– А теперь извините меня. Процедуры.
Звякнув ложечкой, Регина отодвинула чашку. «Мог бы поинтересоваться, где я остановилась…»
Левицкий поцеловал ей руку:
– Спасибо. Боюсь, мои юношеские стихи не заслуживали ваших хлопот.
Он кивнул и направился в сторону лифта. Регина, нервно закуривая, пошла к вертящейся двери.
Левицкий поднялся на третий этаж. У порога своего номера остановился. Вынул из конверта рукопись. Оторвал клочок бумаги с адресом. Сунул его в карман байковых штанов. Приподнял никелированный отвес мусоропровода. Подержал на ладони маленькую книжку и затем торжествующе уронил ее в гулкую черноту. Туда же, задевая стенки мусоропровода, полетела рукопись. Он успел заметить название «Лето в Карлсбаде». Мгновенно родился текст:
«Прочитал ваше теплое ясное „Лето“ – дважды. В нем есть ощущение жизни и смерти. А также – предчувствие осени. Поздравляю…»
Он зашел в свой номер. Тотчас позвонил кухарке и сказал:
– Сыграем в акулину?
На улице и дома
Моя жена сказала:
– И еще звонил Габович. У него есть дело. Обещал зайти.
– Я знаю. Наверное, хочет дрель попросить. Мне говорили, он купил стеллаж…
Габович был моим соседом и коллегой. Вернее, не совсем коллегой – он был филологом. Работал над сенсационной книгой. Называлась она – «Встречи с Ахматовой». И подзаголовок: «Как и почему они не состоялись». Что-то в этом роде…
Я начал зашнуровывать ботинки.
– Ты куда?
– Прогуляюсь. Куплю сигареты.
– А как же Габович?
– Если он меня застанет, это будет долгий разговор. А мне работать надо.
– Когда же ты вернешься?
– Как только он уйдет. Подай мне знак.
– Какой?
– Зажги, допустим, свет в уборной.
– Свет в уборной и так постоянно горит.
– Тогда потуши.
– Лучше я повешу на окно вот эту тряпку.
– Ладно…
Я спустился в холл. Крадучись, проследовал мимо лифта. Вышел на улицу. К этому времени начало темнеть. Кроме того, я перешел через дорогу. Так что Габович не должен был меня заметить.
Я купил пачку «Мальборо». Прогулялся до русского магазина. Взял для мамы газету. Тут же у кассы выпил бутылку «Перье».
Потом меня остановил Давыдов из «Русского слова». Спросил, как дела. Я в ответ поинтересовался:
– Как здоровье Эпштейна?
– Да вот, – отвечает, – собираюсь в больницу ему позвонить. Инфаркт – это, сам понимаешь, не шутки.
– Привет ему, – говорю…
Я вернулся к дому. Белой тряпки не было. А между тем становилось все прохладнее.
Тогда я зашел в «Подмосковье», спросил чашку кофе. Может, думаю, съем что-нибудь.
– Давайте, – говорю, – меню.
– Меню нет.
– То есть как это нет?
– Я вам и так скажу, что есть.
– Я не запомню.
– Запомните. Потому что у нас есть только шашлык.
– Поразительно, – говорю, – я как раз шашлык-то и хотел…
Я поел. Выпил кофе. К этому времени публика собралась, музыка заиграла. Помню, руководитель ансамбля воскликнул:
– Внук Ираклий поздравляет с днем рождения бабушку Натэллу. В ее честь исполняется лирическая песня…
Он выждал паузу и торжествующе договорил:
– Лирическая песня: «Ты еще жива, моя старушка!..»
Я расплатился и вышел на улицу. К этому времени стемнело. Наш шестиэтажный дом массивно выступал из темноты.
Однако тряпки не было.
Между тем я почувствовал холод. Зашел в спортивный магазин напротив фотоателье. Купил себе фуфайку за тридцать долларов. Тут же натянул ее. И лишь тогда заметил спереди эмблему – череп, две берцовые кости плюс шизофреническая надпись: «Ты это прочел? Значит, ты подошел слишком близко!»
Хожу я по улице в этой дегенеративной фуфайке. Приближаюсь к своему дому. Свет в окне горит, а тряпки нет.
Я подошел к автомату. Трубку берет жена. Я говорю:
– Отвечай только «да» или «нет».
– Нет, – сказала моя жена.
– Что – нет?
Молчание.
– Габович у нас?
– Да.
– А ты говоришь – нет… Он уходить не собирается?
– Да.
– Что – да? Да – собирается? Или да – не собирается?
– Я думаю – нет.
– Значит, не собирается?
– Нет.
– Смотри не угощай его.
– Ни в коем случае.
– Про тряпку не забыла?
– Нет…
Я снова прошелся до русского магазина. Встретил Давыдова. Он говорит:
– Ты знаешь новость – Эпштейн скончался. Я только что ему в больницу позвонил. Хотел заехать, навестить, и вот…
– Ужасно, – говорю…
Тут я решил позвонить одной знакомой женщине. Так, ничего особенного. Просто знакомая женщина лет тридцати из соседнего дома. Без мужа.
Порылся в записной книжке. Звоню. Эта самая Нелли мне отвечает:
– А, это ты?! Я думала, забыл меня совсем…
– Можно, – спрашиваю, – зайти?
Тут некоторая пауза возникла. И затем:
– Ты извини, я не одна.
– Ладно, – говорю, – в следующий раз.
В ответ раздается:
– Следующего раза не будет. Между нами все кончено. У тебя жена и дочка. Должна я наконец и о себе подумать?..
И Нелли повесила трубку.
Тут я задумался. Все люди жестоки по-разному. Мужчины, например, грубят и лгут. Изворачиваются, как только могут. Однако даже самый жестокий мужчина не крикнет тебе: «Уходи! Между нами все кончено!..» Что касается женщин, то они произносят все это с легкостью и даже не без удовольствия: «Уходи! Ты мне противен! Не звони мне больше!..»
Сначала они плачут и рыдают. Потом заводят себе другого и кричат: «Уходи!»
Уходи! Да я такого и произнести не в состоянии…
Я взглянул на часы – половина одиннадцатого. Кинотеатры закрыты. Денег практически нет. Дело приближается к ночи.
Окна мои призывно светились. Белая тряпка отсутствовала.
Зато хоть окончательно стемнело. Череп и кости на моей фуфайке перестали выделяться. Да и надпись утратила смысл.
Я снова позвонил домой. И звука еще не произнес, а жена мне твердо отвечает:
– Нет.
– Нет в смысле – да? Габович у нас?
– Да, – слышу.
И думаю – что там у них происходит? Может, какой-то серьезный разговор? Или какое-то важное дело?
Даже чувство ревности во мне зашевелилось.
Вешаю трубку. Звоню Рафаилу, который торгует недвижимостью. Благо живет Рафаил за углом.
– У тебя деньги, – спрашиваю, – есть?
– Допустим, нет. Зато есть виза, мастер-кард, америкэн-экспресс… А что?
– Поедем куда-нибудь.
– В смысле?
– Я не знаю… В Канаду… Или в Бразилию…
– С удовольствием, – отвечает, – но у меня Рита больна. Может, через недельку?
– Через недельку, – говорю, – я уже, пожалуй, дома буду.
– А сейчас ты где?
– Гуляю.
– Ты выпил?
– Это мысль. Брось-ка мне в окошко долларов пятнадцать.
– Я же сказал – денег нет. Завтра будут.
– А до завтра мне под окнами бродить?
– Если хочешь, зайди.
– Лучше сделай мне одолжение. Позвони в «Форест дайнер». Предъяви свою визу. Скажи, чтоб выдали мне дринк. Точнее, два. А деньги я при случае верну.
Я зашел в «Форест дайнер». Опрокинул два бокала рома с пепси-колой. Выкурил сигарету и решительно направился к дому.
Был первый час ночи. Мое окно светилось ярко и гостеприимно. Кстати, свет в уборной был погашен. Может, Габович погасил?..
Я поднялся в лифте на шестой этаж. Достал свой ключ. Дверь отворилась. Габович стоял на пороге. Он был в пальто. Он что-то говорил, жестикулируя и стряхивая пепел. Завидев меня, расплылся в улыбке.
Моя жена сказала:
– Я ему тысячу раз говорила – снимите пальто. А он ни в какую.
– Я же на минутку, – сказал Габович, – мне пора идти. Хотя теперь чего там… Сергей явился – можно поболтать…
Он снял пальто. Затем присел к столу и начал:
– Знаете ли вы, что у меня есть редкостные фотографии Ахматовой?
– Какие фотографии? – спрашиваю.
– Я же сказал – фотографии Ахматовой.
– Какого года?
– Что – какого года?
– Какого года фотографии?
– Ну, семьдесят четвертого. А может, семьдесят шестого. Я не помню.
– Задолго до этого она умерла.
– Ну и что? – спросил Габович.
– Как – ну и что? Так что же запечатлено на этих фотографиях?
– Какая разница? – миролюбиво вставила жена.
– Там запечатлен я, – сказал Габович, – там запечатлен я на могиле Ахматовой.
Когда он направился в уборную, моя жена шепнула:
– Веди себя прилично. Я тебя умоляю. И так все говорят, что у Довлатова совершенно невыносимый характер.
Лишний
Как обычно, не хватило спиртного, и, как всегда, я предвидел это заранее. А вот с закуской не было проблем. Да и быть не могло. Какие могут быть проблемы, если Севастьянову удавалось разрезать обыкновенное яблоко на шестьдесят четыре дольки?!.
Помню, дважды бегали за «Стрелецкой». Затем появились какие-то девушки из балета на льду. Шаблинский все глядел на девиц, повторяя:
– Мы растопим этот лед… Мы растопим этот лед…
Наконец подошла моя очередь бежать за водкой. Шаблинский отправился со мной. Когда мы вернулись, девушек не было.
Шаблинский сказал:
– А бабы-то умнее, чем я думал. Поели, выпили и ретировались.
– Ну и хорошо, – произнес Севастьянов, – давайте я картошки отварю.
– Ты бы еще нам каши предложил! – сказал Шаблинский.
Мы выпили и закурили. Алкоголь действовал неэффективно. Ведь напиться как следует – это тоже искусство…
Девушкам в таких случаях звонить бесполезно. Раз уж пьянка не состоялась, то все. Значит, тебя ждут сплошные унижения. Надо менять обстановку. Обстановка – вот что главное.
Помню, Тофик Алиев рассказывал:
– Дома у меня рояль, альков, серебряные ложки… Картины чуть ли не эпохи Возрождения… И – никакого секса. А в гараже – разный хлам, покрышки старые, брезентовый чехол… Так я на этом чехле имел половину хореографического училища. Многие буквально уговаривали – пошли в гараж! Там, мол, обстановка соответствующая…
Шаблинский встал и говорит:
– Поехали в Таллинн.
– Поедем, – говорю.
Мне было все равно. Тем более что девушки исчезли.
Шаблинский работал в газете «Советская Эстония». Гостил в Ленинграде неделю. И теперь возвращался с оказией домой.
Севастьянов вяло предложил не расходиться. Мы попрощались и вышли на улицу. Заглянули в магазин. Бутылки оттягивали наши карманы. Я был в летней рубашке и в кедах. Даже паспорт отсутствовал.
Через десять минут подъехала «Волга». За рулем сидел угрюмый человек, которого Шаблинский называл Гришаня.
Гришаня всю дорогу безмолвствовал. Водку пить не стал. Мне даже показалось, что Шаблинский видел его впервые.
Мы быстро проскочили невзрачные северо-западные окраины Ленинграда. Далее следовали однообразные поселки, бледноватая зелень и медленно текущие речки. У переезда Гришаня затормозил, распахнул дверцу и направился в кусты. На ходу он деловито расстегивал ширинку, как человек, пренебрегающий условностями.
– Чего он такой мрачный? – спрашиваю.
Шаблинский ответил:
– Он не мрачный. Он под следствием. Если не ошибаюсь, там фигурирует взятка.
– Он что, кому-то взятку дал?
– Не идеализируй Гришу. Гриша не давал, а брал. Причем в неограниченном количестве. И вот теперь он под следствием. Уже подписку взяли о невыезде.
– Как же он выехал?
– Откуда?
– Из Ленинграда.
– Он дал подписку в Таллинне.
– Как же он выехал из Таллинна?
– Очень просто. Сел в машину и поехал. Грише уже нечего терять. Его скоро арестуют.
– Когда? – задал я лишний вопрос.
– Не раньше чем мы окажемся в Таллинне…
Тут Гришаня вышел из кустов. На ходу он сосредоточенно застегивал брюки. На крепких запястьях его что-то сверкало.
«Наручники?» – подумал я.
Потом разглядел две пары часов с металлическими браслетами.