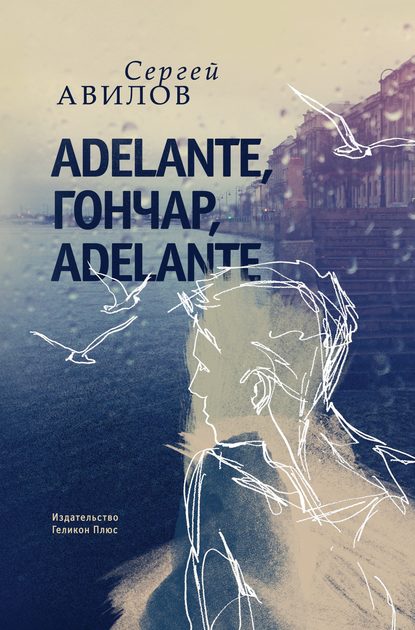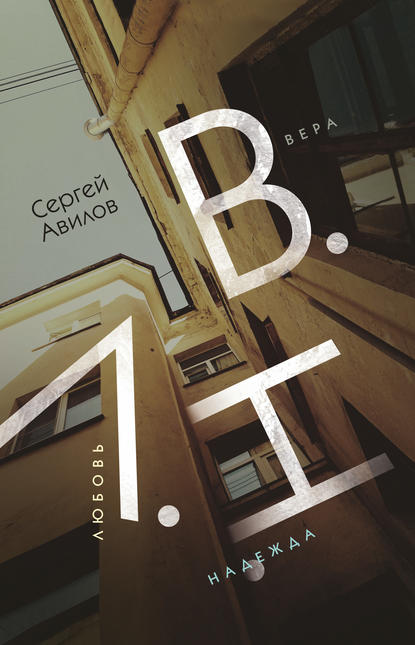
Полная версия:
Сергей Авилов В.Н.Л. (Вера. Надежда. Любовь)
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Сергей Авилов
В.Н.Л. (Вера. Надежда. Любовь)
© Авилов С., текст, 2016.
© «Геликон Плюс», макет, 2016.
Оса
К Осе я отправился утром. Когда немного оправился от его ночных звонков. Он позвонил мне часа в два… может, в три. В буквальном смысле снял меня с девушки. Девушка была постоянная, поэтому за часами ни я, ни она не следили. Позвонил и – я сразу заметил, каким тихим и унизительным шёпотом, – попросил:
– Принеси… – Оса вымаливал выпивку. Бухло. Керосин. Ему было всё равно – в жидкости должен был содержаться этанол.
– Принеси… – повторил он просьбу. Повышать голос выше шёпота у Осы, видно, не было сил.
– Оса, – после первого такого звонка я ещё пытался ему что-то объяснить. Для меня Оса не пустое место.
– Оса, – говорю, – денег на тачку сейчас нет (я лгал – деньги, конечно, были)… Пешком до тебя минут двадцать по ночному М-ску. Но это не главное, пойми, Оса. Это не главное. Главное, что у меня нет денег на выпивку.
Ударяя на последние слова, я как бы заявлял Осе, что деньги – деньги есть. Но они не на выпивку, нет, Оса.
– Пожалуйста! – Оса зарыдал в трубку. Как-то чередуя «кхе» и «аха»: – Кхе-аха, Кхе-аха… – Потом яростно раскашлялся, из него выходило перекуренное с переплаканным, и опять: – Кхе-аха. – К этому стало добавляться плаксивое «ы-ы».
– Оса… Осинушка… Спокойнее, – это подвывание от Осы я слышал впервые и, почувствовав, что подвывание не умолкает, брякнул вдруг с раздражением: – Да будь же ты мужиком, Оса!
Оса бросил трубку. Бросил с воем, но Оса мужиком был.
Я сидел на постели, голый, глядя себе под ноги. Что-то нехорошее с ним. Осой. Тем временем Катя, пол-одеяла на себя натянув, окукливалась в ночнушку. Хана моему сексу. Она, понятно, «не любит моих друзей за то, что они приносят портвейн». Эта цитатка даже приросла как-то к Кате, и я был не против. После двадцати пяти портвейн – это не только весело. Мне уже шёл 27-й.
– Оса, – пожаловался я ей, закурив.
– Я поняла, – закурила и она, дымом согнав с лица мешающий локон. – Бежим к Осе? – съязвила.
– Да никуда не бежим, – в темноте, когда не видно дыма, сигарета казалась невкусной.
– Нику-да мы не бе-жим, – протянул я ещё раз, шебурша волосы. И тут телефон снова ожил.
Оса.
– Поговори со мной. Мне страшно.
– Оса, ты меня, между прочим, с бабы снял, – ответил я ему игривым шёпотом.
– С Кати? – задал он максимально дурацкий вопрос.
А я ответил крутое, как мне казалось тогда, и постыдное:
– Неважно.
– Важно, Сережа, всё важно… – он плавал в каком-то своем разговоре, не говоря о том, что Серёжей вообще называл меня впервые. – Вот тебе сейчас что важно?
– Оса, – грубо оборвал его я; я знал, что такие разговоры могут продолжаться до утра.
– Всё-всё, – испугался он того, что я положу трубку. – Мне сейчас важно то, что мне никак не встать… Ноги что-то не ходят, – и резко меняя тон: – Принеси…
– Я не понесу сейчас, я приду утром, Оса! Подожди ты часиков пять-шесть, – я ещё пытался укротить рождающееся бешенство.
– Принеси, я подохну, принеси, подохну, слышишь? – фоном послышался сухой всплеск осколков, очевидно, пустой бутылки, в отчаянии хлопнутой Осой об пол или стену.
– Я не пойду, – устало ответил я. – Займи у соседей.
Говорил я глупость. Оса жил в частном секторе. В лучшем случае его облаяли бы местные волкодавы, в худшем – выстрелили бы из охотничьего ружья в нетрезвого человека.
Оса жил один. Мать его года три назад убило огромным рекламным щитом, сорванным со своего места порывом шквального ветра. Помню похороны без слёз. Одинокий, серьёзный Осинов. После официальных похорон мы, человек пять, сидели на берегу реки. Естественно, выпивали. И вдруг мне представилось… нет, подумалось… это не объяснить. Я чуть-чуть не сказал Осе, что мама его стала… почтовой маркой. Я обмер. Таких глубин цинизма в себе я не то чтобы не находил – даже искать не пытался.
Я положил трубку. Снова сидя закурил.
– Выключи телефон, – устало потребовала Катя. Я её боялся и поэтому выдернул шнур. А боялся я потому, что отбил её у более сильных и богатых. Боялся, естественно, в пределах разумного. К сожалению, примерно так же, как и любил.
Мы забрались под одеяло, и она, наверное, быстро уснула, а я боролся с раздражением к Осе. Было темно и тихо. И какая-то моя часть радовалась, что утром похмельный Оса будет радоваться тому, что принесу ему я.
Я смог проигнорировать даже полусонные, разнеженные сном прелести Катерины. Она любила с утра медле… О чем я опять?
Я попил воды из носика чайника, оделся наугад – зима в М-ске – явление непрогнозируемых ежедневных температур. Было слякотно и ветрено, посему я надел ветреную куртку и слякотные ботинки. Прихватил пакет.
«Жди, Оса, жди», – думал я, наполняя в магазине пакет звенящей надеждой.
От автобусной остановки до дома Осинова – минуть десять ходьбы. Частный фонд М-ска просыпается медленнее центра. По длинной грунтовке, ведущей к его дому, пролетит, не снижая скорости перед встречей с пешеходом, чей-то дорогой автомобиль. Или проедет полная адыгов или армян «копеечка», непременно обдав тебя чем-то из-под колес. Прохожих мало – в это время почти что и нет. Лишь медленно открывает изнутри лавку с продуктами, пристроенную к дому, пожилая армянка. С ней, как и с работающей в лавке дочкой её, у Осы тёплые отношения. Это я знаю.
Дом Осы – второй за поворотом. Я уже вижу его низенькую крышу и от предвкушения лицезреть Осу громче позвякиваю тарой.
Оса не закрывает калитку на запор. Оса и дверь-то в дом не всегда запирает. Я толкнул калитку, поднялся на крыльцо. В доме миротворческая тишина.
– Оса-а, – весело пропел я. Нет ответа.
«Спит, бедолага», – подумалось мне, и я толкнул входную дверь.
В прихожей было темно и ветрено. Да, именно ветрено – как будто, уходя, Оса забыл закрыть окна. Потом я в чем-то кроме догадок запутался совсем. Это был скотч. Местами перекрученные полоски скотча хаотично валялись под ногами, липли к ногам. Как будто кто-то спешно распаковывал большие картонные коробки. Тогда где же сами коробки? Я опасливо стал отлеплять полоски от подошв, но они липли снова и снова. Так, отлепляя эти полоски, полусогнутым, я вошёл в комнату. И увидел Осу. Он лежал на полу. Его ноги (меня поразило заметное даже в полутьме пятно мочи на его брюках) лежали так, как будто бы Оса хотел убежать. Скрюченная рука торчала из-под кухонной клеенки, за которую, убегая из этого мира, он успел схватиться. И ещё совершенно чёрный… или совершенно синий кусок лица. Где-то возле издевательски светлых Осиных волос. И опять скотч…
– Оса захлебнулся, – испуганный язык прилип к нёбу, получилось тихо. И безжалостно. Произнёс я это затем, чтобы просто почувствовать реальность, чтобы прийти в себя. Чтобы не бояться. Хотя чего?
Я опустил на пол пакет с бутылками. Опасливо подошёл ближе, мимоходом подумав о том, что неплохо бы вызвать «скорую». Хотя «скорая» или «неспешная» – Осе уже все равно, это было понятно.
Звуки поддавались с трудом. Каждый сделанный шаг, шорох пакета, несколько слов казались чужими звуками в этом доме темноты и ветра. Это позже, когда сюда нагрянут санитары и сонная, ленивая милиция…
Мне даже не пришлось накрывать его лицо – убегая, Оса сделал это сам, оберегая меня от ненужных подробностей. При этом оставив кусочек лица – для того чтобы у меня не было сомнений. Ах, Оса…
Я нащупал сигареты, сделал десяток оглушительных шагов назад, к выходу… Спустился с крыльца, увитого высохшим виноградом. Закурил.
Конечно, мы предполагали, чем это всё закончится. Потом скажут: «Неожиданная смерть»… Ай, да ну! Какая неожиданная – очень даже ожиданная. Если последний год Оса пил так, что даже навещать его было делом непростым. В чём-то геройским. Придешь с бутылкой – он быстро и тяжело пьянеет и засыпает. Без неё – злится. И только в моменты просветления Оса – вымытый, выбритый, бледный – говорил: «Брошу. Клянусь, брошу». Вот, бросил. Теперь я в этом абсолютно уверен.
Когда я переехал в М-ск, Оса был для меня находкой. Хотя всё началось немного раньше, Оса просто стал удачным продолжением того, чего мне хотелось. А ещё точнее – чего мне не хотелось. А не хотелось мне – работать! Мне безосновательно, но каким-то шестым чувством казалось, что я рожден для других, менее унизительных занятий. Повторяю, особых оснований для этого не было. Было лишь щемящее чувство, что я делаю что-то не то. Ни для кого. И не для себя в первую очередь.
Я с успехом окончил среднюю школу в Краснодаре. Нормальное отсутствие троек – тоже успех. Потом поступил в КубГУ. На факультет филологии. Я-то знал почему – я любил читать, любил слова… Многие же преподаватели считали, что любовь к словам – аналог лени. То есть нелюбовь к делам. К третьему курсу мы друг в друге разочаровались. И каждый пошёл своею дорогой… В армию я не попал. Полученная в детстве травма колена во время игры в футбол неожиданно оказалась козырем при прохождении медкомиссии. Правда, колено болит при перемене погоды и неприятно щелкает при резких сгибах. Дорога в университет сменилась дорогой на службу гражданскую. Не имея образования, тяжело найти достойную работу даже в большом городе. Поэтому сперва я довольствовался недостойными. Года два отстоял охранником в магазине одежды. Потом писал статьи в рекламном издании. Находясь при этом в офисе с девяти до шести. И испытывая одинаковое отвращение к обоим этим занятиям. Причем, будучи охранником, я не ощущал всей бессмыслицы этих занятий, оттого что был младше. С каждым годом ненависть к такого рода труду нарастала. Когда издательство благополучно развалилось и я оказался безработным, я почувствовал себя счастливым. Я отдалял поиски работы и существовал на сущие копейки. Какой восторг – просыпаться зимой в сделавшихся уютными сумерках, варить кофе на крошечной кухне. Никуда не спешить. Когда сущих копеек осталось совсем немного, надо было что-то придумывать. Меня пугала не сама перспектива труда – меня отвращало отношение людей к труду. Людей, которые могли стать моими коллегами и, что хуже всего, начальниками.
Я с тоской сходил на пять или шесть собеседований. Хотя всю их бесперспективность я понял на третьем… Я не был похож на маленького человечка, способного безропотно выполнять приказания, не переспрашивая и не ставя эти приказания под сомнения. Я не был похож на винтик – я был вполне себе боевой единицей. Инструментом. И на маленькие должности меня активно не брали. Для должностей больших у меня не было знаний. К тому же работодатели были тоже не без изъянов в голове. Кому придет в голову, например, приходить на работу за час до её начала и совместными шутками поднимать себе настроение, которое естественным образом поднимет процент проданных утюгов, чайников… Чего угодно… Однако было! Меня выводили из себя все эти менеджеры, супервайзеры, хайруллеры… Они говорили: «Наша компания…» А мне хотелось спросить: «Какая она ваша-то, а?» Становилось тоскливо. Я научился питаться макаронами без мяса и масла. С томатным соусом «Краснодарский». Просить помощи было не у кого… Поясню: отец мой попал под автобус, когда мне было года три. Я не стану говорить, что этого я не помню. Я просто не знаю, что из того, что осталось в голове, – правда, а что пришлось дорисовать воображению. По крайней мере, воображение не особенно-то резвилось – картина отца получилась законченной и приятной. То же говорила и мать. Отец был человеком мягким. Не пил, даже не курил. Черта, как мне кажется, показательная. Погиб – слишком по-житейски… Перегруженный пассажирами автобус, скользкая дорога… Несчастный случай.
Я всегда приписывал отцовские черты не тому человеку, что остался в памяти. Отцовские черты я приписывал фотографии, стоявшей в материнском серванте.
Мать. Я осваивал то ли восьмой, то ли девятый класс, когда я впервые увидел его – Николая. Он так и представился – Николай. И мне понравилось, что без всяких там «дядь». Просто – Николай. Ну он и был – Николай. Ни колай, ни дворай… Пел в театре «вторым басом». То есть самым низким. Когда его голос в спектакле был не нужен – играл второстепенных персонажей. Жил в какой-то общаге, сам же был… дай бог памяти. Из Чимкента – города в Казахстане. Хотя русский. Пил, пытаясь совместить в себе пьяницу и порядочного человека. Хотя пил как-то весело. Пил и пел… Плохо было одно – мать тоже хотела петь. А выбрала второе, менее энергозатратное его увлечение. На фоне своего пьянства Николай и не заметил, как пристрастил к этому мою мать. Он считал, что, пока не появилось похмелье, тревожиться не о чем. Нет, они жили мирно, не ссорились… Даже меня – любили. Да и я уже не нуждался в чрезмерной опеке.
Однажды Николай пошёл за пивом в три часа ночи. Или утра… В шесть его нашёл дворник – почти что возле парадной. При нём не было денег и документов. Самое страшное, что ему уже было всё равно. Какой-то проходимец – или их было много – проломил ему голову. До приезда врачей Николай пролежал на изумрудной весёлой траве с лицом, накрытым газетой. Ветер изредка приподнимал её уголок. Наверное, ветру хотелось её перелистнуть.
У матери оставалось два пути – бросить пьяное дело совсем или бросить трезвое. И тоже совсем. Она опять выбрала путь менее трудоемкий. И при этом максимально короткий. Похоронив её, я подумал, что больше хоронить мне некого…
Макароны подходили к концу. Соус «Краснодарский» сделался роскошью. Перспектив, казалось, не было. Оказалось – были. В М-ске, древняя, как и сам город, проживала родная сестра моей бабушки по материнской линии. Детей у неё не было. Мужа – не было уже. Последний раз я видел бабку на похоронах матери. До этого – раз пять за всю жизнь. Древняя, как и сам город, она оказалась не вечной. Её смерть и была моей перспективой. Хотя, казалось бы, само слово «смерть» вообще отрицает какие-либо перспективы.
В М-ске бабка оставила мне однокомнатную квартиру. Я тут же хотел её продать. А потом подумал: «А не сменить ли мне грязную мыльную воду Кубани на другую, м-скую реку?» И сменил. Квартиру в Краснодаре я сдал знакомой семейной паре. Проветрил бабкину квартиру от больничных запахов лекарств и выкинул все бабкины вещи. На скопленные ею деньги поклеил обои. Взял с семейной пары задаток и отметил новоселье, сидя в пустой, прохладной бабкиной квартире.
А потом у меня стали появляться знакомые. Друзья и подруги. И среди них – Оса.
Я сидел на скамейке на берегу м-ской реки. Благостное безделье ещё являлось для меня главным удовольствием. Пил пиво, глядя на полноводную, медленную здесь реку. На деревья, набухавшие тяжёлыми, влажными почками. На дымчатые от нераспустившейся зелени холмы на том берегу.
– Водку будешь? – услышал я откуда-то сбоку. Голос был робкий. Таким голосом обычно просят, а не предлагают. Я обернулся. Даже скорее просто скосил глаза. Мне лень было оборачиваться на такие просьбы. У меня была какая-то маленькая лужица своих денег. То есть если бы я захотел водки…
– Н-нет, – ответил с раздражением. Он поймал меня в неподходящий момент. Медленная река текла. И текли медленные, оттого внятные мысли.
Скосив глаза, я сумел его рассмотреть: невысокий, слегка полноватый. С круглым и очень детским лицом. Хотя было ему лет, может быть, двадцать пять. В руке – пакет, в котором угадывалась бутылка.
Он, тяжело отчего-то вздохнув, приземлился на скамейку рядом со мной. Повисла дурацкая пауза. Мне захотелось уйти – мой сосед имел вид неудачника. Стоит немного поправить свои финансовые дела – и неудачники начинают вызывать раздражение.
Он молчал, держа пакет в сложенных на коленях руках, и тоже смотрел на воду.
– Красиво, – обратился он, не поворачивая головы.
– Ну да, – снизошёл я.
А он, словно схватившись за эти скудные слова, словно изголодавшись по собеседнику, заторопился:
– Я люблю сюда приходить. Здесь тихо… Сидеть и думать…
– О чем? – спросил я с усмешкой.
– О словах…
Оказалось, Оса пишет стихи. К тому же является рок-звездой местного масштаба. Даже имеет своих преданных поклонников. Оса с группой катаются по всему Краснодарскому краю с концертами, за которые, плюс ко всему, получают деньги. Оказалось, что клубы и небольшие концертные площадки с удовольствием принимают у себя Осу и его команду – Оса и его команда приносят клубам и площадкам деньги. Не обижая при этом и себя, конечно.
Мы выпили Осиную водку там, на берегу м-ской реки, потом продолжительно и расточительно гуляли в баре неподалеку. Оса воплотил в реальность то, что было моей мечтой – ведь это я, я писал стихи и песни. И тоже нередко думал… о словах.
Когда я приходил к ним на концерты, Осу было не узнать. Без куртки, в концертных одеждах, он оказался не полным – накачанным. Они играли серьёзную, не хулиганскую, как можно было предположить по Осе, музыку. Тексты Осы были даже изысканными… А я – я предложил ему несколько своих. Мне показалось не стыдным, если эти песни пел бы Оса.
И всё получилось. Теперь песни мы писали вместе – я и он. В группу я, конечно, не рвался. Мои музыкальные познания ограничивались самоучителем игры на гитаре. Но при этом я стал полноценным её участником. Я писал слова, договаривался о концертах… Получал деньги. То есть фактически работал.
И вот когда мы были уже на какой-то ступени популярности, у Осы начались запои.
Сначала это было даже смешно. Оса приходил на репетицию растрёпанный и понурый, как мокрый, замёрзший воробей. Жадно глотал пиво из наших бутылок. Тяжело вздыхал. Жаловался на «мотор»… Потом резко веселел… Пел, периодически отлучаясь в уборную. Через некоторое время я обнаружил в бачке унитаза початую «маленькую». Оса стеснялся пить при нас. Я не стал рассказывать об этом Жене и Максу – гитаристу и басисту соответственно. Я с тревогой узнал в Осиных манипуляциях поступки своей матери. А поступки тем временем повторялись. «Маленькая» стала непременным атрибутом Осы. Она добавилась к блокноту и карандашу. И как только она добавилась, блокнот заскучал. Точнее говоря, не заскучал – в голове Осы всегда и в любом состоянии что-то делалось и рождалось. Блокнот был тут как тут. Но нетрезвые эмоции, заполняющие блокнот, были так далеки от Осиных стихов… Хотя даже среди этих плевел встречались жемчужные зерна. Ночной звонок. Я привык и устал от этих звонков за последнее время.
– Серый… Послушай… Я сделал опечатку! То есть описку, но как бы опечатку. Написал: «опечатки следов»… Опечатку в слове «отпечатки»…
– Погоди… – я сел на постели, зажег сигарету. Что-то интересное я услышал в этом жарком и, конечно, нетрезвом воображении. Я ведь тоже думал о словах…
– Смотри: «опечатки следов» – это как будто бы кто-то зашёл не туда… Зашёл и повернул обратно. И оставил «опечатки следов», а? Опечатки следов на снегу… А?
– Никто не поймёт, Оса…
– Почему?
– Потому что ты споёшь «опечатки», а услышат «отпечатки»…
– То есть исправят описку? Опечатку? А-ха-ха…
В общем, были зёрна. Но зёрен тех становилось всё меньше. К тому же Оса стал срывать выступления… И если первый раз он забыл слова и просто стоял (да нет, не просто стоял, покачивался) на сцене и музыканты спасали дело, то в туапсинском Дворце молодёжи он не смог выйти на сцену. Хотя за два часа до концерта он был трезв, похмелен, да. Ну попросил выпить пива. Выпил.
А потом всё покатилось… Ушёл Женя, Макс за ним. Надо пояснить – друзьями Осы они не были. Это были хорошие и правильные мальчики с музыкальным образованием. И надо сказать, с очень приличным… Оттого немного безумные, необычные Осиные стихи, обретая музыкальную причёсанность, звучали со сцены мощно и в то же время не разухабисто. Но, повторяю, друзьями Осы они не являлись. Другом его был я.
Я видел в Осе своё отражение. Видел то, кем я мог бы стать, если бы жизнь сложилась как-то иначе… Если бы хорошее во мне одержало верх. Как так? А вот как…
Сидели как-то вечером с Осой на берегу М-ской… В начале знакомства. Весна, вино… Воля. Я его спросил:
– Слушай, Оса… Почему ты себе никого не заведёшь?
– У меня есть Дейзи…
Дейзи – это собака. Мохнатая и подслеповатая, вся в репьях и колтунах собака.
– Оса, – взмолился я, – я о бабах…
Он помолчал, пожевал травинку… Сплюнул.
– Я влюблён, – коротко ответил он, рассчитывая на то, что смешным мне это не покажется. Расчёт оказался неверен, но у меня хватило такта не рассмеяться.
– А она? – спросил я через паузу. Я дал взгляду Осы паузу. Взгляд серьёзно скользил по зелени холмов на том берегу.
– Она? – переспросил он, будто не услышал. И вдруг выдал: – Она – ангел!
– Тогда тяжело, – пошутил я.
– Ну, – подтвердил он и глотнул из стаканчика.
Зная нелюбовь Осы к рисовке, я вполне поверил, что она – ангел. Кем впоследствии она и оказалась. Анемичная поэтесса. Из тех женщин, с которыми невозможно представить совместный секс. Какой-нибудь обмен энергией или что-нибудь в этом роде для них кажется более естественным. И оттого мне с такими неинтересно. Осе – очень интересно! Она считала его грубым животным с тонкой душой… Таких не бывает, был уверен я и поэтому не полюбил анемичную поэтессу. Ведь никакое Оса не грубое животное.
Отношений у них не было. Простое знакомство. Хотя как простое – Оса-то вон как переживает… Самое неестественное было в том, что он хранил ей верность! У Осы вообще был закон: в отношении женщин – никаких скабрёзностей. Грубое животное?!
Или вот ещё: приходит без звонка, с корзиной яблок. Неожиданно румяный и трезвый.
– Серый, я в сад пошёл, яблоки собирать… И подумал, что у тебя нет сада… На! – протягивает корзину…
Таких историй – масса. Главное качество Осы – доброта. Это вообще главное качество! Доброта и открытость. «Доброту не выбирают – с ней живут и умирают». Она либо есть, либо её нет! Нельзя хотеть быть добрым. Вот я – хочу. А Оса – добрый. Был… И теперь кончился.
Я курил, машинально ломая хрупкие, спящие зимой веточки винограда. Отламывал одну, длиною в палец. Со щёлканьем сгибал её пополам. Приступал к половинке…
За лесом начинал синеть небосвод, выкатывая плоское, бледное солнце. В сухой траве копошились птицы, склёвывали что-то и перепархивали дальше… Стоял обычный зимний день, тихий и безветренный. Мне вдруг захотелось написать: «В тихий и безветренный день не стало Осы». И написать это раз, и другой, и третий. Но я знал, что это будет позже – когда алкоголь разбудит онемевшие, каждый раз незнакомые, с железным привкусом, чувства.
Мне хочется повторить ещё раз – так и должно было быть. Оса не из тех людей, что благополучно встречают старость, но ведь всегда хочется надеяться на лучшее. Так?
Как-то так получилось, что жалостливый Оса завёл кур. По-моему, ему стало жаль цыплят, что продавались на рынке… Оса ухаживал за ними, если уезжал, просил соседей их кормить. Потом куры, естественно, выросли. Оделись в яркие перья и получили имена. Оса стал осознавать неизбежность куриной казни. Перспектива питаться куриными супами вгоняла его почти что в слёзы. Один старый адыг посоветовал ему так: встаёшь рано утром, берёшь птицу, поворачиваешься на Восток и с молитвой… Оса рассказывал, как он бегал по двору за не желающими даваться в руки курами, которые бежали-то от своей смерти. Я ещё тогда подумал, что человечество – единственные существа, что бегут не «от», а «к»… А Оса был из лучших его представителей. Человечества.
Я ломал виноград, находясь не в «сейчас», а в «до сейчас»… Я совсем не знал, что делать. Наверное, стоило вернуться в Осиное жилище, набрать телефон милиции. Или «скорой»? А что сказать? «Приезжайте, здесь человек умер»? Почему нет горечи? Я уже не говорю о слезах… Почему только досада?
Дверь скрипела ещё громче. И я этого боялся, будто боялся потревожить Осу. Он лежал так же страшно, но чтобы дотянуться до телефонного аппарата, мне пришлось переступить через его тело. Я стоял с аппаратом в руке, между кроватью и столом, а подо мною… Подо мною лежал мёртвый Оса.
Нажал две засаленные и оттого медленно возвращающиеся в исходное положение кнопки….
– Алло, «скорая»… Приезжайте, здесь человек умер.
Потом я отвечал на массу ненужных вопросов. Повесив наконец трубку, выбрался во двор, захватив с собой принесённое пиво. Присел на скамеечку рядом с крыльцом, открыл пиво и принялся ждать. Солнце чуть нагревало чёрные джинсы. Природа уже замыслила переворот, и мне казалось, что издалека, с гор, вот-вот спустится весна.
Беда приобрела послевкусие тогда, когда приехали они. Милиция, за ней – «скорая». Валили меня вопросами, а главное – выносили Осу. Носилки, естественно, не проходили в дверь. Я отвернулся, и мне была слышна только будничная, ленивая ругань. Я их понимал, конечно: из-за того что эти люди встречаются со смертью почти каждый день, они должны, обязаны просто создать себе защиту, нарастить корку… Психика – штука тонкая…