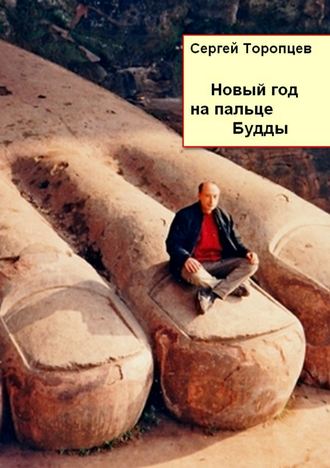
Сергей Аркадьевич Торопцев
Новый год на пальце Будды
Старое кресло
Памяти мудрого, доброго человека, замечательного режиссера театра и кино Хуан Цзолиня, ушедшего от нас 1 июня 1994 г. на 89 году жизни, – посвящается этот рассказ, в котором автор правдивые факты бытия сдобрил толикой правдоподобного вымысла.

Кресло, массивное и тяжелое, предназначалось для больших и грузных людей и, прекрасно осознавая это, переживало, когда его добротные пружины испытывали недостаточно кондиционные пришельцы. Часто в него любили забираться внуки, сворачиваясь калачиком, но им, только им, кресло со стариковской снисходительной добротой прощало это. И недовольно скрипело, когда его занимали несколько субтильные зятья и даже дочери, которым, согласно генетическим законам, было отпущено достаточно плоти, но все же не столько, сколько их отцу, деду их сыновей.
Именно он был Хозяином кресла. Не то, чтобы к спинке прикрепили номерок, как в театральном зале, или повесили табличку, как обычно делают на премьерах, отводя почетным гостям специальные ряды. Но все знали, что кресло, даже когда пустует, ждет Деда. И так к этому привыкли, что немедленно освобождали его при появлении Деда. Без Деда оно выглядело одиноким, осиротевшим, тоскующим, морщинистым, хотя снаружи его прикрывал такой же светлобежевый чехол, как стулья, окружавшие большой стол под светлобежевой скатертью, торцом приткнувшийся к камину, чьи серые мраморные плитки облицовки смотрелись почти в том же колорите, что чехол на кресле.
Без Деда каждый предмет играл лишь свою мелодию. Первые аккорды симфонии начинали звучать лишь с его появлением. Хотя сам он отнюдь не стремился к дирижерской палочке. Но она как бы постоянно находилась в его руке, готовая к начальному взмаху. Кресло молодело и расправляло складки на чехле. Мраморные плитки камина покрывались розовыми бликами волнения, вспоминая когда-то частые, а сейчас все более редкие бдения у извивающегося пламени. Камин в последние годы разжигали редко. Это давалось с трудом, словно он сопротивлялся.
Быть может, камину стало больно разгораться после того, как грубые хунвэйбины побросали туда огромную шекспировскую библиотеку Деда, которого они обозвали «агентом буржуазии», «прислужником американского империализма». Дед в привычной для него чуть снисходительной манере интеллигента и преподавателя попытался объяснить парням, что Шекспир – отнюдь не американец, еще даже не буржуа и вообще великое достояние человечества, но это их только разозлило, потому что они не знали большего достояния человечества, чем «Цитатник» Мао Цзэдуна в красной дермантиновой обложке, вульгарно сверкающий позолотой названия. Увы, все раритеты, которые Дед вывез из двух своих учебных поездок в Кэмбридж и Лондон, чтобы потом, как он надеялся, освещать их светом оставшуюся жизнь, были сожжены в прекрасном викторианском камине, так напоминавшем ему добрую старую Англию.
Жизнь оказалась крепче раритетов, она все-таки удержалась, не развалилась, как ни добивались этого грубые молодчики. А старому креслу вообще необычайно повезло, когда один из разгулявшихся хунвэйбинов, опьяненный вседозволенностью, со всего размаха плюхнулся в него, утверждая тем самым (иных способов у него не было в арсенале) свое верховенство. Креслу стало противно, у него даже появилась совершенно непристойная мысль запустить в наглеца одну из своих добротных пружин, и трудно себе представить, что бы с ним, креслом, стало после такого «контрреволюционного выпада». Оно грустно, одиноко, растерянно простояло несколько лет в пустом доме, из которого «за буржуазные излишества» выселили хозяина, и все же дождалось его.
О, Небо, сколько пыли пришлось выбивать из старого кресла, в то время еще не прикрытого чехлом! Его так и не удалось полностью очистить от въевшегося, как дешевый табак, духа хунвэйбиновщины, и потому на него набросили чехол, как сам хозяин нередко набрасывал светлосерое пальто на плечи, прогуливаясь вдоль Темзы, заполняющей лондонский воздух влажностью. Сравнение, конечно, не совсем корректно, и потому он никогда не развил его в художественный образ, но оно нередко приходило Деду в голову, когда он, уже утратив легкость молодости, грузно опускался в кресло, покрытое светлобежевым чехлом, и набрасывал на плечи такую же светлобежевую, с большими накладными карманами пуховку, потому что в большой комнате этого большого дома было довольно прохладно зимой, несмотря на электрические камины, функционально заменившие мраморный, который остался лишь как символ, как напоминание об ушедшем былом.
Ушедшем? Кресло прекрасно все помнило и ясно понимало, что и Дед ничего не забыл, а все, что произошло с ним и его народом, аккуратно, как в архиве, разложил по полочкам памяти – хранилищу бесценных для будущего воспоминаний о прошлом. О детстве, о юности, когда отец, желая приспособить сына к своему бизнесу, отправил его учиться искусству коммерции в Лондон, а сын, к стыду и огорчению степенного отца, пренебрег солидной профессией и увлекся другим искусством – театра, сначала любительского, а затем и профессионального, да настолько, что сам великий Бернард Шоу в 1926 году набросал юному китайскому театралу мудрое пожелание «не быть вторичным, создавать свой собственный стиль», поскольку «представитель школы Ибсена – не Ибсен, Ибсен же, хоть и не является представителем школы Ибсена, но это – Ибсен».
Конечно, ему не позволили выдержать единого стиля всей жизни, поскольку были периоды, и не краткие, когда приходилось делать не совсем то, что он считал нужным и правильным. Тогда он, как кресло, тоже набрасывал на себя чехол, но разглаживать складки, чтобы казаться довольным, ему не всегда удавалось. Ведь Шекспир научил его видеть реального Человека со всеми его морщинками, не покидающими даже блистательного Героя, изрекающего звучные лозунги, не замечая, что сам он безвкусно загримирован и из-под парика течет краска. Сам Дед старался оставаться, елико возможно, реальным и естественным.
Хозяина кресло дождалось. Но жизнь сильно потрепала его и научила снисходительности и терпению. Оно спокойно стояло в углу комнаты, поглядывая в окно, за которым на лужайке резвились внуки. Дед порой выходил к ним поиграть, развеяться. Но большей частью сидел в кабинете над книгой или рукописью. После «культурной революции» дом заполнила печаль. Верная спутница Деда яркая актриса Даньни уже не могла шагать в ногу с ним ни по тропе искусства, ни по тропе семейного счастья. Она почти не покидала своей комнаты на втором этаже рядом с его кабинетом, где он работал, постоянно ощущая ее беззвучное и болезненное соседство. Он как бы нес в себе некую вину перед ней – за ее ослабевшее сознание, не выдержавшее грубого напора революционных декораций. То есть личной вины его в том не было, но он как истый интеллигент ощущал ее – за преступления других, кого он не остановил, ибо был бессилен, за кровь невинных миллионов.
Этой кровью был рожден «Макбет». Инсценировка в жанре кунцюй называлась «Кровавые руки». Не диво поставить Шекспира, на этом изощряли свой талант не одно поколение режиссеров. Но обрамить эту ренессансную трагедию формами близкого и понятного китайскому зрителю застывшего средневекового отечественного театра, еще не познавшего Человека, и выплавить современное гуманистическое действо, этот призыв к Братству, к Любви, к Доброте – такое дано было не каждому! И он сотворил это чудо!
Старое кресло согревалось бродившими в Деде замыслами. Оно даже возмечтало принять участие в постановке, но, к его великому сожалению, по своей конструкции тридцатых годов никак не смогло вписаться в средневековый антураж. Может, оно и к лучшему. Театр плохо отапливался, актеры и режиссер репетировали в теплых пуховых куртках, а разве тонкий светлобежевый чехол спас бы кресло от старческих ревматических болей? И оно осталось на первом этаже дедова дома…
Вот уже пять лет не греют его бурные творческие замыслы Деда. Замер старый дом, оживляясь лишь по воскресеньям, когда вся большая дедова семья, как и встарь, собирается за большим, покрытым светлобежевой скатертью столом, что стоит торцом к камину, и вспоминает Деда, и каждый рассказывает о своих творческих замыслах – а все они люди искусства, режиссеры и операторы, художники и музыканты, – и старое кресло, стоящее рядом, так что ему слышно каждое слово, разглаживает складки, и на какие-то мгновенья ему кажется, что сам Дед примял его тяжестью своего большого и грузного тела.
И это не галлюцинация старого кресла. Потому что Дед, в сущности, не ушел от нас. Он остался в нас – как режиссер, как теоретик театра, как дед, как отец, как Человек. Остался в зрителях, коллегах, детях, внуках, друзьях. Остался в памяти старого кресла. И не покинет нас никогда....
Я бывал в этом доме, стоял возле кресла, пригнувшись к сидевшему в нем хозяину, и ощущал волны благожелательности, омывавшие меня. И хочу надеяться, что, когда я вновь появлюсь в этом доме, а он к тому времени уже станет, вне всякого сомнения, мемориальным, старое кресло признает во мне давнего и верного друга и не испустит ворчливого скрипа, когда я благоговейно погружусь в его старые пружины.
И мы с ним вместе вспомним мудрого и доброго Деда, любившего людей, преклонявшегося перед высшим созданием – Человеком и в своем удивительном творчестве соединившего Восток и Запад в созвучное, гармоничное единство.
Смерть под деревом

Его привез грузовой велорикша. Грубый деревянный помост прыгал по кочкам проселочной дороги, рикша, старик из местных крестьян, нервничал, притормаживал, постоянно замедлял ход, останавливался, чтобы взглянуть на больного, может, тростниковую накидку поправить, но конвоир – безусый парень в зеленой армейской робе с красной повязкой хунвэйбина – резко покрикивал на рикшу и велел двигать дальше, не обращая внимания на больного.
Рикша понимал, что ведет себя неправильно и может навлечь большие неприятности и на себя, и на свою семью. Но что он мог с собой поделать? Он не читал так много изречений из «Цитатника» Председателя Мао и поэтому не был так, как этот каменный парень, тверд в борьбе с врагами революции. Ему было жалко этого больного, которого он хорошо знал – передвижные бригады до культурной революции не раз привозили фильмы с его участием.
Потом уже другие бригады стали привозить другие фильмы, и этот актер больше не появлялся на экране. Передавали, что он контрреволюционер, и поэтому нынешнюю жалостливость рикши можно квалифицировать как буржуазный гуманизм или даже пособничество врагу революции.
Лучше не раздражать хунвэйбина, а то доложит по начальству, и рикша загремит. Сам-то он не боялся. Ну, пошлют на перевоспитание, так не в город же, этот рассадник буржуазной заразы, а в деревню, на землю, которую он полжизни копал, засевал, обрабатывал, жал, пока ревматические старческие косточки не заставили сменить работу. Крутить педали тоже не просто, но боль приходит только при дожде, в сырости, а так вполне терпимо. Придется, правда, много выслушивать всяких наставлений да лекций, но терпения крестьянину не занимать. Слава Небу, он неграмотный, так что читать «Цитатник» или редакционные статьи «Жэньминь жибао» не заставят. Так что бояться ему нечего. Но вот на старухе отыграться могут или сына в городе найдут, к нему прицепятся. Так что лучше помолчать.

Актер, а звали его Цай Шэн, хотя рикша этого не знал, ведь титры-то он, неграмотный, прочитать не мог, он даже не понял, что во время культурной революции все фамилии из титров исчезли – это была борьба с этим, как его, эгоизмом, – так этот бедный актер и сам уже своего имени не помнит. Он был слишком плох, болезнь зашла так далеко, что пришлось под расписку изъять его из коровника, где жили все эти контрреволюционные гниды, и, тратя так необходимые революции средства, силы, время – а он по своей собачьей сущности даже не оценит такого послабления в борьбе, – повезти его в уездную больницу. А зачем? Лечить, что ли, его там будут? Тратить на него нужные народу лекарства?! Подохнуть в коровнике даже сподручнее. Собаке собачья смерть.
Но так распорядилось начальство. Конвоир своими глазами видел большую бумагу, которая долго ходила вверх с докладом о болезни контрреволюционера Цай Шэна, виновного в том, что еще в буржуазном Китае до 1949 года снимался в антинародных фильмах и продолжил вредительскую деятельность, не признав в должной мере своих преступлений перед партией и Председателем Мао. Потом бумага вернулась к ним обратно, испещренная резолюциями разных больших начальников, которые в итоге разрешили отвезти его в уездную больницу, чтобы революционно подкованные врачи квалифицированно решили, что с ним делать и нужно ли что-нибудь делать.
У наглухо закрытых ворот больницы рикша остановился, и конвоир скрылся за ними со своей бумагой. Парень было заколебался, можно ли оставить контрреволюционера без наблюдения, но затем решил, что операция была проведена в полной секретности, сообщники не могли узнать о перемещении поганца, так что вряд ли они спланировали похищение, а сам поганец настолько слаб, что никаких контрреволюционных действий совершить не в силах, разве что умрет, не повинившись перед народом, но это он мог бы сделать и в присутствии конвоира, однако до сих пор не сделал. И парень ушел внутрь больницы.
Рикша, полуповернув голову, взглянул на актера. Бледное, как маска отрицательного персонажа в традиционном театре, лицо, обтянутые скулы, закрытые глаза во ввалившихся орбитах, треснувшие губы, которые актер время от времени неестественно медленно облизывал сухим, покрытым белым налетом языком. Рикша незаметно повел глазами туда-сюда, слез с велосипеда, достал свою тыкву-горлянку с водой и как бы невзначай приставил ко рту актера. Но тот или уже не воспринимал реальности, или не имел сил даже на глоток, и тогда рикша намочил тряпицу и выжал ее на жаждущие губы. Они зашевелились, словно в знак благодарности. Во всяком случае, это было признаком жизни и каким-то слабым контактом между рикшей и актером.
Вернулся конвоир, уже без бумаги. «Велено сгрузить и положить перед воротами, пока они не решат, что с ним делать». Рикша постарался остаться невозмутимым, но внутренне содрогнулся. Он, конечно, понимал, что есть революционные законы, не допускающие жалости к классовым врагам, но в его старом и, видимо, слишком размягчившемся сердце такие законы как-то не помещались. Что-то было в них бесчеловечное, и не мог старик заставить себя даже классового врага, но больного, слабого, беспомощного – не считать человеком, как по дороге проповедовал конвоир внушенные ему идеи.
– Хватай за плечи, – скомандовал хунвэйбин, беря актера за ноги, – снимай с повозки, клади.
– Как, прямо на землю? Дождь прошел, земля сырая.
– Что, хуже ему будет? – ухмыльнулся парень. – Даже приятно на травке полежать. Ну, ты вот что, – вдруг огрызнулся он, вспомнив о своих высоких полномочиях по переделке всей страны и всего народа, – делай, что говорят, и не вставай поперек революционного закона. Твои сомнения – буржуазный абстрактный гуманизм. Председатель Мао учит: «Мы должны очистить наши ряды от всякой мягкотелости и беспомощности». Тебе следует искоренять свои ошибочные взгляды.
В последней фразе прозвучала такая угроза, что рикша покорно взял актера за плечи и опустил на землю. Совсем еще мокрая после дождя трава холодом прошлась по рукам. Рикша взглянул на искаженное болью лицо актера – и вдруг решился на невероятной смелости поступок: сорвал с повозки тростниковую накидку и подложил ее под бессильное тело больного. Хунвэйбин дернулся было отреагировать на такой диверсионный акт, но рикшу спасла отворившаяся калитка. Вышел главный врач.
– Руководство, поддержанное коллективом, приняло решение проявить революционный гуманизм и, невзирая на контрреволюционное прошлое Цай Шэна, обследовать его болезнь. Ты можешь ехать.
– Помочь вам внести его в палату? – влез было в разговор рикша, но его обдали высокомерным холодом.
– Контрреволюционер не может быть помещен в больницу, в которой проходят лечение представители революционных бедняков и низших середняков. Мы перенесем его во двор под дерево и там проведем походное обследование.
Рикша смолчал, хотя сообразил, что формально тоже принадлежит к высшему классу бедняков. Но решения принимают лишь горластые. И они с конвоиром, сдавшим свои полномочия представителю больницы, поехали прочь. За их спинами заскрипели ворота, послышался сдавленный стон – актера, наверное, поволокли во двор. В окнах то тут, то там появились головы – слух о таинственном пациенте распространился мгновенно. Кино в деревне все эти годы было единственным доступным развлечением, и актера все узнали. Но молчали. Потому что он был не на экране, а в жизни. А в жизни он уже не был актером, любимцем зрителей, он был антинародным элементом. И все молча смотрели на этого контрреволюционера, которого сразил гнев революционных масс.
Актер долго лежал под деревом в забытьи. Ночью кто-то подложил под него одеяло и укрыл еще одним сверху, потому что, хотя июль все уже высушил и вернулась привычная жара, больного бил озноб. Потом еще не раз, так же ночами, кто-нибудь из персонала или пациентов сторожко приближался к актеру и смачивал ему губы водой, пытался кормить, но тот уже не мог есть.
Посовещавшись, руководство через несколько дней выделило врача для осмотра. Это был так называемый «босоногий врач» – крестьянин, по причине своей природной идеологической чистоты намеченный для замены буржуазной интеллигенции и направленный на краткосрочные фельдшерские курсы, после которых его стали именовать врачом. Еще не до конца разогнанный медперсонал больницы понимал уровень такой «босоногой» квалификации, но не смел в нем усомниться, ибо это означало сомнение в правильности политики партии и лично Председателя Мао.
«Босоногий врач», не страшась буржуазной заразы, подошел к пациенту, сосчитал его пульс. Сильно ускоренный, но, объяснил «врач», так и должно быть, поскольку у этой гниды даже в подсознании живет страх перед гневом революционных масс, что и заставляет сердце биться чаще, чем у идеологически чистого представителя народных масс.
Актеру дали какие-то таблетки и оставили под деревом. Шли дни. Время от времени приставленный к нему «босоногий врач» появлялся у окна и бросал подозрительный взгляд на больного. Иногда подходил, трогал лоб.
Однажды лоб оказался холодным. Пульс не прослушивался. Глаза актера были направлены на «босоногого врача», но смотрели не на него, а в себя или, вернее, в тот мир, куда переселилась его душа. Взгляд был спокоен и умиротворен.
Видимо, в отношении этого контрреволюционера была допущена какая-то идеологическая ошибка, и его душе позволили сбежать туда, куда не доносится рев классовой борьбы. Кому-то придется ответить за это!

Больно…
Памяти кинорежиссера

Чжан Нуаньсин
Больно… Очень больно… Нестерпимо больно… Отчего так нестерпимо? Столько разных болей было в ее жизни, и многие до того мига, пока не обуздаешь себя, казались нестерпимыми, хотелось кричать, выть, бежать. А куда бежать? Если боль снаружи, убежать еще можно. Да и то не всегда. Поймают, водворят на место, пропесочат на парткоме. И ушлют еще дальше.
Но боль сидела внутри. Как и сейчас. Ну, не совсем так, как сейчас. Прежде боль забиралась в нее извне. Из жизни. Ведь, как ни отгораживайся от жизни, та всегда рядом, отчетливо видная, и если в ней происходят чудовищные вещи, как не болеть сердцу! Но терпеть всегда можно. Во всяком случае, ей удавалось. Может, потому и появилась эта нестерпимая боль – как наказание за слишком долгое терпение?!
А откуда вошла в нее нынешняя боль? Жуткая боль! Такая, что… И кричать тут мало, и выть, а уж убежать – просто сил нет. Она лежит, распластанная, на белой кровати в белой комнате, и небо за окном белое. Люди, все в белом, проходят мимо нее, изредка притормаживая свое нескончаемое движение, но все больше мимо, мимо. Больно… Больно… А надо терпеть.
Это последняя боль, она твердо знает. А что будет потом? В каком новом образе возродится она и будет ли помнить то, что происходило в этом, нынешнем? И что лучше – помнить или нет? Было столько тяжкого, давящего, стискивающего… Но ведь забудешь – и пойдешь по кругу, повторяя все ошибки, заблуждения… Нет, надо разорвать круг и выйти на спираль. И вновь повторять, только чуть иначе – на новом витке?
Нет, дело, наверное, не в форме движения, а в тех поступках, которые ты совершаешь: какие-то из них способны разорвать повторяющееся движение. Какие?! Совершала она такие или нет? Узнает. Завтра, послезавтра, через несколько дней, когда с этим телом, ставшим чужим, даже враждебным, будет покончено и чистая душа отправится на новый уровень ощущений. Чистая? О, Небо, сколько на ней пятен!
Да хотя бы тот страшный день лю-сы2… Она и сейчас, если копнуть в самую глубину, не ответит себе, права ли была тогда, заколебавшись и не пойдя на площадь. Отчего? Трудно объяснить. Не менее трудно понять. Даже самой понять, а уж что тогда говорить о других. А простить? Совсем невозможно. Человек искусства, она жила эмоциями. Эмоции звали на площадь, в стихийную, неорганизованную, сбившуюся комом толпу, жаждавшую свободы.
Наверно, правильнее бы эту самую «свободу» закавычить. Не потому, что она была фальшивой, ненатуральной, грубо сколоченной. А потому, что та свобода, к которой они стремились и которую хотели осуществить тут, прямо на площади, не была настоящей, осознанной, сознательной свободой, естественной свободой естественного человека, необходимой ему не как, скажем, обеденный стол (перекусить можно и в уголочке на корточках), а как воздух, без которого нельзя жить.

Конечно, они могли бы существовать без свободы. Хотели, жаждали свободы, изнывали в тоске по свободе… Но могли обойтись и без нее. Обходились же столетия, тысячелетия, втиснутые в нормативизированные «ритуалы», и даже последние десятилетия, когда публично отказались от старозаветных канонов – и опутали себя новыми, не считая их таковыми. Они еще четко не представляли себе, что такое свобода и какой ценой человек обретает ее. Она казалась им чем-то вроде «Персикового источника», исполненного безмятежной гармонии3.
Но подлинная свобода сурова. Это они поняли позже, когда в предутренних сумерках на них пошли танки, давя людей и романтичную, цвета голубой мечты Статую Свободы, наспех сооруженную накануне при свете уходящего заката. Развевающиеся голубые одежды наматывались на гусеницы и с треском рвались, превращаясь вновь в тряпки.
Ее-то там не было, это он, вернувшись окраинными переулками, рассказал все. И то, что видел, и то, что ощущал, и то, что теперь задумал. Вернулся совсем другим. Уходил суровый, словно прощаясь с ней, струсившей, навсегда. Пришел поникшим, растерянным, в разодранной одежде и с растерзанной душой. Не таким представлял он себе торжество демократии. Подошел к ней, обмягший и мягкий. Попросил прощения. За что?! За злые слова, испепеляющий взгляд? Пустое. Она не была пророчицей, просто ирреальная интуиция художника, усиленная природным консерватизмом женщины, удержала ее, не объясняя. Интересно, будь Жанна-д-Арк художницей, встала ли бы она во главе войска освободителей? А Хуа Мулань – повела бы солдат на захватчиков? Нет единого типа женщины, как и мужчины, и в каждом конкретном человеке они, как инь и ян4, переплетаются, выплавляя личность, каждую в своей пропорции.
Быть может, поэтому, казнясь и терзаясь, она осталась в Пекине. Чтобы испить чашу до дна. А он пробрался в Гонконг, оттуда в Америку и осел в Лос-Анджелесе. Политэмигрантом. Писал, как и прежде. И не так, как прежде. Раньше они, по школе еще помнившие Белинского, называли его «неистовый Бе». Его гневные, разящие статьи о литературе, театре, кино, живописи звенели клинком шаолиньского монаха. Теперь же гнев обмяк и приходит, как мягкий зов буддийского гонга из сумеречной тиши леса.
Опустевшая квартира казалась гулкой и полной глаз. Как площадь, собравшая стихийную массу. Из тьмы (она почти не зажигала света) глядели на нее те, кто лег под гусеницы танков, и те, кто бежал в Гонконг, Лос-Анджелес, Чикаго, Париж, Осло, и те, кто в древности с тоской изгнанника следил за полетом гусей в родную сторону. Она чувствовала себя изгнанницей, оставаясь в своей стране. Могло ли быть такое?! Оказалось, могло.
Когда-то она написала картину маслом, в европейской манере, как было принято у тех, кого не удовлетворяло насаждаемое противопоставление отечественных «духовных ценностей» – «технократической заморской цивилизации». Картину не приняли. Она была странной, надуманной, эклектичной. Но в нее вошла она сама, мятущаяся, рвущаяся и сжигающая себя. И там были глаза – другие глаза, не те, что следили за ней из мрака опустевшей квартиры.
Тяжелую, давящую, спеленавшую все и вся тьму ночи разрывало пламя костра. Из мрака сурово смотрели на зрителя глаза, десятки глаз. В них был, так сказать, идеологический фокус картины. Она выписывала эти глаза самозабвенно, могла бы нарисовать сотни, тысячи, да пространство полотна не позволяло. Во взгляде этих осуждающих, казнящих глаз, фанатично блестевших, отражая огненные языки, вставал старый Китай, открещивающийся от идущих с Запада всяких новинок «демократии», «цивилизации», «свободы», «личности», «прав человека»… Обладатели этих глаз и слов-то таких не знали – но сурово карали тех, кто пытался принести им их. Они довольствовались тьмой своей ночи, истлевшей на плечах одеждой, костром, слегка согревающем тело. И цепко ухватили девушку в европейском платье, волоча ее к костру – не согревающему, а испепеляющему. Их самих вполне удовлетворяла ночь. Они еще не ведали дня, радостного света, жгучего солнца. Лишь костер – среди мрака.
Она писала этот свой «Алтарь юности» долго, несколько лет, с перерывами. Начала в семьдесят девятом. Прошел знаменитый пленум ЦК, объявили о переменах, потихоньку принялись реабилитировать тех, кого успели сжечь в ночи «культурной революции». Недосожженные увидели свет приближающейся зари. Она лихорадочно работала, переписывала варианты, увеличивала полотна – ей казалось, что глаза мрачных фанатиков должны обрушиваться на зрителя массой и яростью. А ее «неистовый Бе» загорелся новым жанром – он вывешивал на публичной «стене демократии» свои листовки, выплеснутые чеканным слогом из глубин свободолюбивой души.
И вдруг в восемьдесят втором «стену демократии», этот их лелеемый символ политических перемен, грубо, с вызовом разрушили. Они уже читали про «бульдозерную выставку» в Советском Союзе и сразу провели невеселые аналогии. Прошлое было еще так близко, так ощутимо, что она было дернулась если не замазать, то хотя бы спрятать обжигающий «Алтарь». Муж остановил, пристыдил. Но писалось уже без того азарта, словно что-то внутри надломилось.
Страну раскачивало. И хотя сюда, вниз, заоблачные громы долетали уже не столь оглушающе, как в недавние времена, но того упоения восходящей Свободой не осталось. Свобода подернулась белесыми облачками. Они обернулись темными тучами в восемьдесят девятом году – в этот злой день лю-сы.
А она как раз закончила картину и предложила ее к обсуждению. Вот так момент! Сгустился мрак, муж-невозвращенец… Друзья попридержали обсуждение, первые страсти поутихли, и картина встала в ряд «фольклорных мотивов». Пожурили за недоверие к народу, за выпячивание нищеты национальных окраин. «Алтарь» отправили в запасник. Ее вернули в строй. Все прекрасно. Как прежде…
Муж изредка присылал весточки. Не почтой, разумеется. Был он человеком общительным, поэтому за оказией дело не стояло. Но что-то странное произошло с ним. Он оказался в самом центре обожаемой Свободы, мог потрогать ее руками, купаться в ней. А свобода стала казаться ему какой-то неполноценной. Чего-то в ней недоставало. Чего-то существенного, без чего самый ее смысл искажался.
И, наконец, он понял: его свободе недоставало Китая! Прежние грезы были абстрактными, свобода казалась абсолютом, заменяющим собой все и вся. Нет, ему нужна была не «безадресная» свобода, а свобода в Китае. Не в Америке, а в Китае! И он уехал из бурнокипящего Лос-Анджелеса, где китайские иммигранты развили кипучую деятельность, даже фильмы приспособились снимать – там были такие громкие имена, как режиссер У Тяньмин, писатель А Чэн. Американцы охотно помогали, сами участвовали во всех акциях. Увы, это были именно акции, отдельные акции, не складывавшиеся в движение. И фильмы не становились Искусством, которому мало свободы вокруг, – ему необходима свобода внутри. Эти фильмы даже нельзя назвать плохими, они были никакими, безликими, ни китайскими, ни американскими. Этакий сохнущий «самшит в вазоне», по образу Ван Мэна из рассказа о писателе, который изменил творчеству ради карьеры.
И вот теперь лежит она в этом белом мире больничной палаты, продумывая свою жизнь и прислушиваясь к слабеющим импульсам собственного организма, необратимо разъедаемого метастазами.
Осталось совсем недолго. И он не сумеет прилететь проститься. Придут друзья. Не все, лишь самые отчаянные. Хотя в стране вновь потеплело, но привычный страх держится в душах. Надолго ли? Пролежит ли «Алтарь» в запаснике, пока не начнут выцветать и сыпаться краски, а на реставрацию разрешения «сверху» не дадут, – или настанет громкий час его вернисажа?! А будет ли он тогда громким? Что же они с мужем, их метавшееся поколение оставят после себя? Слабость, разочарование?
Нет! Они оставят нечто бесценное – опыт. И положительный, и отрицательный. Опыт гибельного смирения, опыт разрушительной борьбы. И уверенное осознание того, что Китаю нужна свобода, а свободе нужен Китай. И то, и другое – вместе. Свобода – в Китае!








