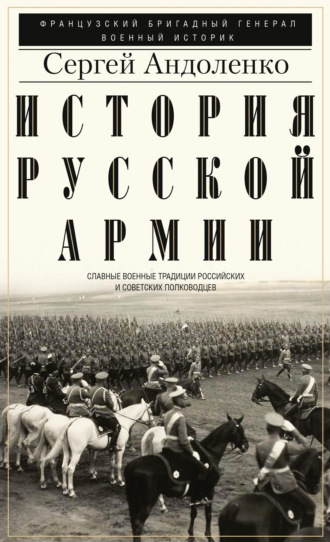
Сергей Андоленко
История русской армии. Cлавные военные традиции российских и советских полководцев
Глава 4. Елизавета Петровна (1741–1761)
Занятие престола Елизаветой встречено с энтузиазмом. Один из первых указов царицы гласит, что «употребление барабанов будет как при Петре I». Незначительная фраза показывает желание Елизаветы продолжить дело своего отца. Однако эта задача окажется непосильной для императрицы. Набожная, умная, но ленивая и нерадивая, Елизавета сможет проявить энергичность и решительность, когда речь зайдет о жизненно важных интересах страны, но она мало что понимает в военном деле и полностью перепоручает этот участок своим советникам. «Дщерь Петрову» любят, но в высшем обществе у нее немало врагов. Одни упрекают ее в незаконном происхождении, так как Елизавета родилась до официального брака Петра и Екатерины, другие, сочувствуя печальной судьбе малолетнего Ивана VI, считают узурпаторшей. В ее царствование произошел целый ряд заговоров. Поэтому при выборе свиты императрицы важную роль сыграют политические взгляды кандидатов. Часто придворных будут предпочитать людям умным и способным. Дав клятву никогда не подписывать смертных приговоров, Елизавета упразднила эту меру наказания. Решение гуманное, но оно помешает ей действовать с необходимой суровостью. Царствование же Елизаветы пройдет под знаком слабости власти. Первое, что должна была решить Елизавета, – вопрос о наследнике трона. Ошибка Романовых – она ищет такового среди немецкой родни. Ближайший к ней – племянник, сын сестры, юный Петр Голштейн-Готторпский. Он – внук Петра Великого – абсолютно ничего собой не представляет и к тому же немец до мозга костей. Юношу едва ли не насильно привозят в Россию, где объявляют наследником престола. Пришедшая освободить Россию от немецкого засилья, Елизавета вновь готовит стране ту же участь. Армия окажется беззащитной перед негативным иностранным влиянием. В ней начинает насаждаться опасная практика. Впрочем, во главе армии уже нет Миниха, сосланного в Сибирь. После кратковременного руководства фельдмаршала Ласси ею будет управлять Военная конференция, скопированная с венского Гофкригсрата. Военная власть, которую Петр Великий хотел видеть в руках одного ответственного лица, будет разделена между несколькими малокомпетентными людьми.
Однако армии в определенном смысле повезло. Среди фаворитов Елизаветы появляется талантливый военачальник, умелый организатор и образованный человек, граф Петр Шувалов. Благодаря его усилиям русская артиллерия займет ведущее место в Европе. Также удачей армии станет то, что в ее рядах служит замечательный военачальник – граф Салтыков, который станет победителем Фридриха II. Кроме того, в ее рядах окажутся несколько талантливых генералов, таких как Апраксин и Фермор. Наконец, под знаменами Елизаветы начнут военную карьеру два полководца, оставившие яркий след в истории России, – Румянцев и Суворов. Армия сможет не только достойно противостоять самой грозной из европейских – Фридриха II, но и побежать ее. «Эта русская армия, – пишет Альфред Рамбо, – с ее молниеносными победами, с упорством в сопротивлении, единственная среди армий стран коалиции ушедшая с поля боя со славой, стоила больше, чем правительство ее страны, ее дипломатия, порой даже больше, чем ее генералы».
Чтобы представить обстановку, в которой проходила Семилетняя война, необходимо рассказать о состоянии военного искусства в Европе того времени.
Военное искусство в XVIII веке
Определяющая роль французской армии в развитии военного искусства неоспорима. XVII век – апогей Франции. Силу ее армии составляет культ «удара». «Французская ярость» ярко проявляется в искусстве Конде, Люксембурга, Виллара и Тюренна. Полки, невзирая на ружейный огонь противника, отважно бросаются в штыковую атаку, нередко не имея разрешения стрелять в ответ. Считается честью первым пойти на противника. Это привилегия старых полков. Французская военная доктрина наступательная и духовная. Она ставит на первое место человека и моральный фактор. В XVIII веке качество армии существенно снижается. Боязливые командующие, фавориты королевских фавориток, сменяют великих полководцев времен предыдущего царствования. После кровопролитных войн последних лет царствования Людовика XIV энтузиазм сменился усталостью, ставшей благоприятной почвой для пропаганды идей философов. По выражению Декарта, общество отвергает все «истины» и ищет «новые пути». Люди блуждают в интеллектуальных спекуляциях. Доктрину удара сменяет новый дух – страх перед сражением, вызываемым боязнью генералов испортить карьеру.
Пехота добивается успеха преимущественно ружейным огнем. Армия скована в действиях большими обозами. Дневной переход в 12 км считается нормой. Операции проводятся в неторопливом, размеренном ритме: осады, марши и контрмарши. Полководцы стараются достичь цели, избегая сражений.
Появление Фридриха II усиливает кризис, в котором пребывает военная мысль. Он выдвигает новую теорию. Это гениальное мошенничество. «Фридрих играет с Европой, уча ее проигрывать» (генерал Байов). Солдат не обязан думать. Он должен в совершенстве знать свое ремесло. Выучку станут доводить до автоматизма. Тысячи таких роботов составляют батальоны. Это мощные машины, предназначенные для сокрушения всего, что окажется на их пути. Искусство войны заключается в том, чтобы быть сильнее. В соответствии с идеями века, главным считается обеспечение огневого превосходства, чего добиваются за счет усовершенствования ружей и тщательного обучения стрельбе, а это, в свою очередь, увеличивает скорострельность. Прусский батальон напоминает мобильную батарею, быстрота стрельбы которой в три раза выше, чем у других армий. Часть, которая лучше выдерживает залп противника и сохраняет строй, обычно побеждает. Один вид подразделения, дружно строевым шагом надвигающегося на врага, обычно производит на противника настолько сильное впечатление, что порой обращает того в бегство. Отсюда любовь пруссаков к плотному строю, доведенному до совершенства.
Прусская армия в значительной степени состоит из солдат, против их воли зачисленных в ее ряды. В роте 120 пруссаков и 80 иностранных наемников. Фридрих II без колебаний прибегает к услугам военнопленных. Чтобы они стойко сражались, необходима суровая дисциплина, которая внушает воину страх, убивая в нем человека, и превращает в машину для войны. Фридрих утверждает, что солдат должен бояться палки капрала больше, чем пули неприятеля. «Идти вперед, ровной линией, с хорошей выправкой – этим и выигрывают сражения», – говорит он. В поединках с деградирующими армиями прусская выигрывает одно сражение за другим. Многочисленные генералы спешат в Потсдам изучать у короля «правила победы».
Некоторые наблюдатели уверены, что наступила новая эра в военной истории. Они объясняют победы Фридриха «хорошей выправкой», «строем», суровой дисциплиной. Упускают то, что победы Фридриха являются результатом его неординарности, а введенные королем строгости обусловлены спецификой прусской армии. Почитатели Фридриха, а их множество, насаждают лишь внешние признаки прусской военной школы в своих армиях. Но присущая ей дисциплина, привитая французам или русским, является для них смертельной.
Семилетняя война (1757–1761)
От своих предшественников Елизавета унаследовала дружбу с Австрией. Она основывается на общности интересов двух стран в отношении Турции и Польши. Поэтому канцлер Бестужев будет поддерживать Австрию в ее борьбе с Францией, а затем с Пруссией. В обмен на субсидии в 1747 г. в распоряжение Австрии был предоставлен корпус в 30 тыс. солдат под командованием князя Репнина. Он пересек всю Германию, чтобы принять участие в боевых действиях в Голландии. Однако, когда он находился на Рейне, в Аахене был подписан предварительный мирный договор (1748).
Предоставление солдат иностранной державе возмущает общественное мнение. «Армия и нация чувствовали себя униженными. Служба по найму не может увеличить рвение к воинской службе у такого народа. Он инстинктивно желал другой политики, целью которой были бы величие державы, национальные и религиозные интересы» (А. Рамбо).
Успехи Фридриха II очень скоро начинают беспокоить Россию. Быстрая экспансия Пруссии, усиление ее военной мощи и высокомерие короля раздражают Елизавету. В 1749 г. дипломатические отношения между двумя странами разорваны.
В 1753 г. Бестужев анализирует положение. Захват Пруссией Силезии, разграбление Саксонии, притязания на польскую Пруссию, Ганновер и даже Курляндию определенно заслуживают внимания. Численность прусской армии доведена с 80 до 200 тыс. человек. Король постоянно делает заявления, оскорбительные для России. «Его предки, – говорил канцлер, – воздерживались от надменности, они искали союза с Россией!» Царица принимает решение: «сломить силы этого слишком проворного короля».
Официально Россия вступает в войну, выполняя условия союзного договора с Австрией. Она популярна в обществе. Мысль проучить немцев приятна. Но какая странная коалиция! «Австрийцы не желают, чтобы русские одерживали крупные победы: мы не раз увидим, как они мешали их операциям, пытались уменьшить их успехи и, если так можно выразиться, устраивали ловушки их генералам» (А. Рамбо). Но находящаяся в Санкт-Петербурге конференция рекомендует главнокомандующему «советоваться с австрийцами – мастерами в военном искусстве»[24]. Но самым трагичным и мучительным будет предательство офицеров и солдат со стороны наследника трона. Петр будет передавать Фридриху II, своему кумиру, все решения русского командования и сведения, касающиеся армии. Некоторые генералы, зная об этой его слабости и предвидя смерть Елизаветы, не всегда будут проявлять должное рвение при выполнении боевых задач.
Русская армия мало и плохо известна в Европе. Она считается ничтожной величиной в расчетах как союзников, так и противников. «Судя по его переписке, Фридрих II не слишком уважал этих солдат, которых собирался победить» (Р. Уоддингтон). Король презирает «мужиков»[25] и самодовольно заявляет, что они его нисколько не пугают. «Дай бог, – отвечает ему фон Кейт, – чтобы вы не изменили своего мнения на их счет». Французский военный атташе в Санкт-Петербурге пишет в Париж: «Если русская армия нанесет небольшой отвлекающий удар, это будет больше, чем от нее можно ожидать; если она потерпит хотя бы одно поражение, то будет уничтожена». Неверие в силы армии не ускользнет и от непосредственных участников боевых действий. Позднее, в Восточной Пруссии, Болотов[26] напишет: «Не только прусские солдаты, но и обыватели полагали, что мы слабее женщин и как вояки ни на что не годны».
Кампания 1757 г.
23 июня русская армия под командованием Апраксина вступает в Пруссию. Санкт-Петербургская конференция предписывает фельдмаршалу действовать энергично, но Апраксин осторожен. «Русская армия, – пишет он, – не должна ввязываться в рискованные операции. С таким врагом, как король Прусский, шутки плохи». Восточную Пруссию защищают 30 тыс. солдат под командованием фельдмаршала фон Левальда. Тот полностью уверен в своих войсках. «Даже двадцать наших не должны бояться тысячи казаков, – заявил фельдмаршал, – даже тысяче, как они, с нами не справиться». Вместе с тем Фридрих старается его поддержать. «Можете быть уверены, – пишет он, – что все, что будет делать Апраксин, будет делаться с неохотой, так как он стоит за великую княгиню»[27]. Русская дивизия Фермора легко занимает Мемель и 31 июля вступает в Тильзит. Дивизии Лопухина и Броуна 1 августа форсируют Неман, а 6-го входят в Гумбиннен. Фридрих пишет Левальду: «Атакуйте первую же часть русских, которая осмелится к вам приблизиться, разбейте ее, а затем сделайте то же самое с остальными». Тем не менее Апраксин 11-го берет Инстербург и соединяется с Фермором. Случай разбить русских по частям упущен. Они объединились в группировку численностью в 89 тыс. человек. Но вместо того, чтобы искать сражения, Апраксин, ссылаясь на трудности со снабжением продовольствием, направляется на Кенигсберг. При совершении этого маневра русские были внезапно атакованы неприятелем у Гросс-Егерсдорфа.
Гросс-Егерсдорф
30 августа, в тот момент, когда русские, не имевшие хорошо налаженной разведки и обремененные обозами, двигались через лесной массив, они были внезапно атакованы Левальдом. Растерянность была полной. «Все были в смятении, никто не знал, что делать. Наши командиры потеряли голову и, утратив управление войсками, бегали туда-сюда» (Болотов). Ценой неимоверных усилий Лопухину удается развернуть на поляне несколько полков. Эти части принимают на себя первый удар пруссаков. Болотов оставил свидетельство об этой схватке: «Пруссаки приближались в полнейшем порядке, с гордой миной. Подойдя на дистанцию ружейного выстрела, они произвели по нам плотный залп. Мы были сильно удивлены тем, что со стороны наших не раздалось в ответ ни одного выстрела. Пруссаки подошли еще ближе, и первый их ряд произвел новый залп. Мы не знали, что подумать, когда вновь с нашей стороны не прозвучал ни один выстрел. Пруссаки, подойдя еще ближе, произвели третий, самый убийственный залп. На этот раз все кончено, – воскликнули мы, – их всех перебили. Не успели мы договорить эти слова, как к нашему удовлетворению убедились, что у наших осталось много живых, ибо на залп неприятеля ответили наши ружья и пушки, не залпом, напротив, вразнобой, но более мощно, чем неприятель».

«Русские Лопухина защищались с энергией отчаяния. Бой шел на штыках. Нарвский и 2-й Гренадерский полки в несколько минут потеряли половину своего личного состава. Генерал Зибин был убит, Лопухин – смертельно ранен» (А. Рамбо). Но на звуки стрельбы примчался генерал Румянцев. Его четыре полка ударили в штыки во фланг прусским колоннам. Его примеру последовал генерал Сибильский. Под мощью удара неприятель подался назад. «Прусское отступление превратилось в бегство. В четверть часа поле битвы было очищено от неприятеля, а армия Левальда исчезла в лесах. В 10 ч русские бой выиграли. Были видны лишь их шапки, подбрасываемые вверх, и слышалось победное „ура!“. Это была первая победа, одержанная русскими в по-настоящему европейской войне. Их пехота показала себя миру» (А. Рамбо).
Апраксин не стал преследовать противника. Это странное решение вызвало недовольство в войсках. «Мы стоим на месте третий день после баталии, и каждое утро звучит сигнал „подъем“, а не „общий сбор“… Что мы здесь делаем? Для чего так долго ждем?» (Болотов). 8 сентября Апраксин собирает военный совет. Он говорит о тяжелом положении, в котором находятся войска после такого кровопролитного сражения, напоминает о проблемах с продовольствием и приказывает отступать. Отступление деморализует русскую армию и поднимает моральный дух пруссаков. Преследуемые Левальдом, тревожимые партизанами, терпя лишения, русские полки, эвакуирующие 10 тыс. раненых, покидают Восточную Пруссию.
Печальный исход кампании 1757 г. вызывает потрясение в обществе. Елизавета действует твердо. 28 октября Апраксин смещен с поста главнокомандующего и предстает перед военным советом. Во время допроса он умирает.
Кампания 1758 г.
Елизавета требует большей энергичности. Апраксина сменяет Фермор. Разногласия с союзниками, интриги австрийцев, отсутствие единого командования, колебания Фермора облегчат задачу Фридриху II, «который сам себе был Конференцией, Гофкригсратом, сохраняя за собой монополию на принятия решений, быстрые движения и молниеносные удары» (А. Рамбо). Но, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, русская армия продолжит свое возвышение. Если в 1757 г. она доказала способность бить пруссаков, то в следующем году покажет, что способна «держаться» против самого Фридриха, а в 1759-м разгромит его.
Кампания начинается в середине зимы. Задачу Фермора облегчает уход армии Левальда в Померанию. 13 января русские вошли в Тильзит, 22-го – в Кенигсберг. Очень скоро, «поддавшись панике», им покоряется вся Пруссия. Речь идет не о временной оккупации, а об аннексии. Население присягает на верность Елизавете. Фермор назначен генерал-губернатором провинции. Он завоевывает сердца жителей своим милосердием. Таким образом, в 1758–1762 гг. Восточная Пруссия является русской провинцией. «В сущности говоря, управление было мягким, местные свободы соблюдались, налоги взимались умеренные. Но покорность жителей по отношению к новым господам покажется легитимному государю чрезмерной, и, когда Фридрих вернет себе свое владение, он долго будет хранить обиду на жителей Пруссии» (Р. Уоддингтон).
10 февраля занят Мариенвердер, 17-го – Торн, 3 марта Эльбинг, но нерешительность Фермора замедлит ход операции. Только 6 июня армия возобновила наступление на Померанию. 1 июля она вступает в Позен. Фермор решает взять одну из самых важных крепостей Фридриха на Одере: Кюстрин. Нависшая над Бранденбургом угроза заставляет поспешить Дону (он сменил Левальда).
13 августа русские появляются перед Кюстрином. Они ограничиваются бомбардировкой крепости. «Фридрих II собственной персоной примчался, словно молния. Крики ужаса из угрожаемых крепостей и деревень, обобранных казаками во время набегов, стоны разоренных крестьян добавляли ему быстроты» (А. Рамбо). 20 августа он соединяется с Доной, приведя с собой 30 тыс. человек и 117 пушек. Он должен разбить русских. Король нисколько не сомневается в будущей победе. Он интересуется у Кейта[28]: «Что из себя представляет русская армия?» – «Сир, они храбры, хорошо сражаются, но у них плохие командиры», – отвечает тот. «Отлично, отлично, скоро вы узнаете, что я атаковал этих прохвостов и обратил их в бегство», – бодро заявляет король. «Сир, этих прохвостов не так-то легко обратить в бегство», – возражает фельдмаршал. «Что ж, вы сами увидите!»
Король неожиданно форсирует Одер при Густебизе, намереваясь с севера зайти в тыл русским. Но его маневр обнаруживают казаки. Фермор решает дать сражение. 23 августа он снимает осаду с Кюстрина и выдвигается навстречу противнику. Фермор потерял драгоценное время. Он мог бы разбить Дону до подхода Фридриха, но не сделал этого и рассредоточил свои силы, направив дивизию Румянцева к Кольбергу. Русская армия останавливается перед Цорндорфом, фронтом на север. Она насчитывает 33 тыс. регулярных войск, 3000 иррегулярных и 240 орудий. Так что силы равны. У русских превосходство в артиллерии, но они уступают в коннице, и узким местом является командование. Фермору далеко до Фридриха. Битва при Цорндорфе еще более, чем при Егерсдорфе, будет солдатским поединком.
Цорндорф
25 августа встающее солнце осветило прусские колонны, быстро охватывающие русские позиции. Это неожиданность. Фермор отрезан от обоза и от пути к отступлению. Однако он сразу действует по обстановке и разворачивает артиллерию против пруссаков. Битва начинается в 9 ч убийственным залпом прусских орудий. «На памяти человеческой, – рассказывает прусский офицер, – не было такого грома». Два часа русская пехота выдерживает этот адский огонь. Около 11 ч Мантейфель атакует правый фланг русских. Кауниц следует за ним, но отклоняется вправо. Русские тотчас используют эту ошибку и контратакуют первого в лоб, а второго во фланг. Ряды пруссаков тут же смешиваются. И тут в атаку бросается Зейдлиц во главе 56 эскадронов. Эта лава буквально разрезает русские боевые порядки. Однако солдаты и офицеры продолжают ожесточенно сопротивляться. «Мелкими группами, даже расстреляв все патроны, они защищаются до последней капли крови. Многие, даже со сквозными ранениями, продолжают драться, иные, потеряв руку или ногу, лежа пытаются поразить неприятеля оставшейся рукой. И ни один не просит пощады» (Болотов). Пруссаки тоже отдали дань мужеству врага. «Русские залегли цепью, – пишет Катт, – они целовали свои пушки, когда их рубили саблями, но не бросали их… раненные и упавшие, они продолжали стрелять. Мы никого не щадили». А вот восхищенный возглас, вырвавшийся из уст другого прусского офицера: «О русских гренадерах можно сказать, что с ними не сравнится никакой другой солдат». Пока русских воинов рассеивали, а генералы Любомирский, Уваров и Леонтьев пали на поле боя, вторая линия пассивно наблюдала за происходящим. Руководство войсками было утеряно. Фермор куда-то пропал и оставил подчиненных на произвол. Атакующий порыв прусской конницы погасило яростное сопротивление. Зейдлиц отказался от попытки развить успех и отвел свои полки к Цорндорфу. В этот момент пришел в движение левый фланг русских, которым командовал Броун. Впереди шли кирасиры. Прусская пехота не смогла удержать позиции. «Понеся потери от огня русских орудий, испуганная надвигающейся на них линией штыков, она была охвачена паникой. Даже не дождавшись соприкосновения с противником, обратилась в бегство» (А. Рамбо). Опасность угрожала самому Фридриху. Схватив знамя, он трижды пытался увлечь войска в бой – все напрасно. И тут произошло одно необычное событие. Русские нашли брошенные пруссаками бочки с водкой, напились и отказались подчиняться офицерам, даже затеяли с ними драку. Тут следует заметить, что дивизия Броуна состояла из молодых и плохо обученных солдат. В этот момент вновь появилась кавалерия Зейдлица. Левый фланг русских был полностью разгромлен. Генерал Броун получил 12 ран, генерал Черников раненым попал в плен. Все командиры бригад ранены или пленены. Кавалерия Зейдлица, рубя противника, прорывается через его левый фланг, но натыкается на другие войска, выдвигающиеся к высотам, и отходит. С этого момента бой превращается в артиллерийскую перестрелку, продолжающуюся до темноты. Потери русских достигают 18 тыс. человек, пруссаков – 12 тыс. Обе армии, истощенные боем, остаются стоять лицом к лицу. «Этот день был ужасен, – пишет Фридрих, – был момент, когда я подумал, что все катится к дьяволу. Никогда не встречал в противнике такого упрямства». «Сражение вничью, поражение или победа, Цорндорф – одно из тех имен, которые любая армия может золотыми буквами написать на своих знаменах» (А. Рамбо). Затем противостоящие армии оставляют позиции: Фермор отходит к Ландсбергу, где находится Румянцев, а Фридрих – в Силезию. 30 сентября русские занимают Штаргард. Там они пробудут в бездействии до конца ноября, а затем отправятся на зимние квартиры в Польскую Пруссию. Елизавета дала суровую оценку кампании 1758 г. Конечно, завоевана Пруссия, и сам Фридрих не смог сокрушить русскую армию, но Фермор не добился решающей победы. А вот главная цель, которую преследовал король, – отодвинуть русских от Берлина, – достигнута. Еще Фермора упрекают в излишней мягкости к немцам и говорят, что неприлично оставлять лютеранина во главе православной армии. Он смещен, на его место назначен русский из старинного рода – граф Салтыков.
Кампания 1759 г.
Назначение Салтыкова встречено с удивлением. «Он был храбрый человек, но стар и немного простоват, без образования и больших заслуг. Мы не могли понять, как этому старику, столь безобидному с виду, могли доверить верховное командование такой большой армией, как наша. В наших сердцах была грусть, и не осталось никакой надежды» (Болотов). Однако внешность бывает обманчива. Этот добродушный и простоватый старик проявит себя прирожденным руководителем. Он не согнется ни перед инструкциями Конференции, ни под нажимом австрийцев. Салтыков будет беречь своих людей и доверять их способностям. В ходе кампаний 1759 и 1760 гг. он одержит победы при Пальциге, наголову разгромит Фридриха при Кунерсдорфе и возьмет Берлин. Достаточно заслуг, чтобы занять достойное место в истории русской армии.
Салтыков принимает командование 19 июня. Он должен следовать на соединение с австрийцами Дауна, но узнаёт, что прусский корпус Веделя (сменил Дону) сумел вклиниться между ним и союзниками, и идет навстречу неприятелю. 23 июля Ведель атакует русских у Пальцига (Цуллихау). 40 тыс. русских против 30 тыс. пруссаков. Салтыков удачно выбрал место для боя и сделал свою позицию неприступной. Пять атак противника, одна за другой, разбились о русскую оборону. Понеся тяжелые потери, пруссаки потеряли строй. «Русская пехота продемонстрировала свою обычную стойкость, артиллерия удержала превосходство над артиллерией противника, наконец, конница впервые взяла верх над прусской» (А. Рамбо). Пруссаки потеряли 4269 человек убитыми, 1394 ранеными, 1200 пленными. В руках противника оказалось 7 знамен и 14 орудий. У русских 900 человек убиты и 3904 ранены. Среди убитых генерал Мику, француз, командовавший кавалерией.
Салтыков намеревается занять Франкфурт и оттуда угрожать Берлину. 20 июля Вильбоа овладевает городом. К нему присоединяются главные силы армии, а также австрийский корпус под командованием Лаудона. Наступление Салтыкова вызвало сильное беспокойство у Фридриха II. Король вновь спешит на помощь своей столице. Назревает генеральное сражение. Напрасно Салтыков просит о помощи австрийского главнокомандующего Дауна. Тот советует ему отступать.
Кунерсдорф
Салтыков размещает свою армию на трех высотах, с запада на восток: Юденберг, Шпицберг и Мюльберг. Позиции оборудованы фронтом на север. 60 тыс. союзников (в их числе 18 тыс. австрийцев) готовятся померяться силами с 48 тыс. пруссаков. Но Фридрих не намерен атаковать русских в лоб. Он обходит их позиции и располагается напротив Мюльберга. Салтыков приказывает армии развернуться на 180 градусов, поскольку теперь возникла угроза атаки с юга.
12 августа, в 9 ч, прусская артиллерия начинает обстрел Мюльберга, в 11 ч эта позиция подвергается одновременной атаке с фронта и с обоих флангов. Город обороняют пять полков Обсервационного корпуса князя Голицына. Это слабые части, «отличившиеся» при Цорндорфе нарушениями дисциплины. Они дрогнули и без приказа откатились к Ротворверку.
Салтыков еще раз приказывает войскам произвести перестроение, на этот раз фронтом на восток. Но пока оно происходит, Фридрих II осуществляет концентрическую атаку на Шпицберг. Пехота преодолевает овраг близ Кунгрунда и появляется в высшей точке Шпицберга, другие колонны охватывают город с севера, а кавалерия принца Вюртембергского атакует батарею русских, находящуюся на холме. К 3 ч дня пруссаки захватили половину русских позиций. Фридрих II торопливо составляет победный бюллетень.
В этот момент приходит известие о том, что прусский отряд завладел Франкфуртом и мостами через Одер, отрезав русским путь к отступлению. Отчаяние Салтыкова велико: «Командовавший нами старик, забыв обо всем, соскочил с лошади, при всех упал на колени и, воздевая руки к небу, со слезами на глазах стал молить Всевышнего прийти к нему на помощь в такой крайности и спасти его людей от верной гибели. Возможно, небо услышало мольбу благочестивого старика, с которой он обратился от чистой души, потому что вскоре произошло такое, чего никто не мог ни подумать, ни вообразить и чего меньше всего можно было ждать» (Болотов).
Пруссаки, атакующие Шпицберг по северному склону, натолкнулись на мощное сопротивление пяти русских полков и были отброшены в Эль-Буш. Центральные колонны, которые вел сам Фридрих, были рассеяны залпами шуваловских орудий и опрокинуты контратакой Берга. Русская кавалерия атакует принца Вюртембергского и обращает в бегство его полки. Но Фридрих упорствует, бросает всю кавалерию Зейдлица южнее Шпицберга. Обстрелянная артиллерией, она возвращается. И тут русская пехота благодаря мощной атаке прорывает боевые порядки неприятеля в центре, преодолевает Кунгрунд и отбивает Мюльберг. В отчаянии Фридрих, размахивая флагом, пытается восстановить порядок. Напрасно Зейдлиц предпринимает новую атаку, в которой получает ранение. Это полный разгром и паническое бегство.
«Пока жалкие остатки его армии отходили, Фридрих оставался неподвижным под истребительным огнем русских батарей, и потребовалось, чтобы один из его адъютантов взял за повод его лошадь, чтобы увести. Я видел много военных, наблюдавших за ним в тот момент и уверенных, что он поступал так в надежде погибнуть от пушечного ядра» (Д. Тьебо). Пруссаки потеряли 20 тыс. человек, 28 знамен и 172 орудия. Русские – 13 тыс., австрийцы – 1400. «Мое несчастье в том, что я еще жив, – писал Фридрих II. – Из армии в 48 тыс. у меня осталось меньше 3000. Все бежит, и я уже не господин над моими людьми. Думаю, что все потеряно».
Салтыков пожалован в фельдмаршалы. Однако его действия после сражения вызвали нарекания. Существовала возможность двинуться на Берлин и тем самым завершить войну. «Если бы русские воспользовались своим успехом, если бы они начали преследовать эти деморализованные войска, с пруссаками все было бы кончено», – скажет Фридрих. В этой связи впервые выскажется Суворов: «На месте главнокомандующего я бы немедленно пошел на Берлин!» Салтыков не желает преследовать противника. Раздраженный ненадежностью австрийцев, понеся большие потери, он решает, что русские и так сделали достаточно. К дьяволу славу захватившего Берлин, достаточно пролитой крови, пусть другие завершают то, что он так хорошо начал. «Я довольно сделал, – сказал он Дауну, – я выиграл два сражения, стоившие России 27 тыс. человек. Чтобы возобновить боевые действия, я буду ждать, пока вы тоже одержите две победы. Несправедливо, чтобы войска моей государыни действовали в одиночку». Канцлеру Воронцову он пишет: «Австрийские приказы, очевидно, заключаются в том, чтобы заставить других таскать для них каштаны из огня и беречь своих людей… Мы не можем ждать от наших союзников ничего хорошего. Поистине тяжело бессмысленно терять храбрых солдат». Но австрийцы не желают идти на Берлин. 1 сентября Фридрих пишет своему брату принцу Генриху: «Объявляю Вам, что свершилось чудо, спасшее Бранденбургский дом». Теперь Салтыков ограничивается наблюдением за противником. В ноябре он отводит армию на зимние квартиры на Нижнюю Вислу.
Кампания 1760 и 1761 гг.
Уступая настояниям Австрии, Конференция приказывает Салтыкову двигаться в Силезию. Непримечательная кампания. Марши, контрмарши, без конкретных целей и сражений. «Оба главнокомандующих стыдились того, что они сделали» (Болотов). В октябре, находясь в районе Франкфурта, Салтыков направляет отряды Тотлебена и Чернышева на Берлин. 9 октября они занимают столицу Пруссии. Француз Д. Тьебо оставил любопытное свидетельство о пребывании русских в Берлине: «Эти „поджигатели Пруссии“ были куда более дисциплинированы, более умеренны и менее варвары, нежели австрийцы. Они обеспечили охрану многих семейств, в первую очередь тех, что были рекомендованы знаменитым Эйлером. Они взяли умеренную контрибуцию, пощадили памятники и выпороли войскового священника за какое-то мошенничество, причем генерал почтительно поцеловал ему руку до и после экзекуции».


