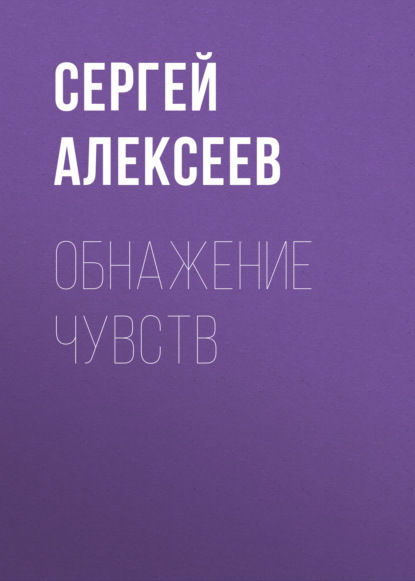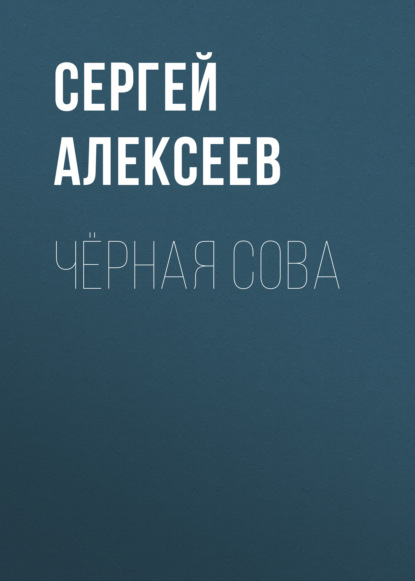- Рейтинг Литрес:4.8
- Рейтинг Livelib:3.5
Полная версия:
Сергей Трофимович Алексеев Белое пятно
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Сергей Алексеев
Белое пятно
От автора
4 октября 1993 года, когда за полдень группы спецназа Альфа и Вымпел вывели нас из горящего здания Верховного Совета, стрельба вокруг еще стояла такая, что двигаться по набережной в обе стороны было опасно. Кто в кого стрелял, не понятно, палили из гостиницы «Мир», с крыш и верхних этажей близстоящих зданий, в том числе, из недостроенного американского посольства. Стреляли и из «Белого дома», хотя его защитники уже сложили оружие, и вышли вместе с нами. Трассеры пронизывали вечереющее небо, рикошетели от земли, пугая осмелевших любопытствующих зевак. Изредка рыкали очередями из КПВТ бэтэры внутренних войск, выплевывая гильзы на асфальт, и работали засевшие где-то снайпера, выбивая бойцов спецназа и просто граждан, выведенных на ступени центрального подъезда и набережную. Все еще пытались завязать гражданскую войну. Однако Альфа и Вымпел, предотвратившие ее, стояли насмерть, и не отвечали на провокации. Они были рядом со мной, в бронежилетах, но открытые для поражения и лишь спокойно водили стволами автоматов.
Когда стрельба усилилась, с другой стороны реки, от гостиницы «Украина» подключились танковые пулеметы, хотя орудия их уже молчали. Зеваки разбежались кто куда, и на набережной под перекрестным огнем оказались всего двое – седобородый старик в пастушьем дождевике и опрятная деревенская старушка в черном полушалке, но в темных очках. Оба с костыликами, ветхие на вид, но стойкие! Пули щелкали по асфальту совсем рядом, рикошет пел в воздухе и рубил стриженные кустики, а они, то ли глухие, то ли слепые – стояли неподвижно и скорбно, как на похоронах. Только смотрели не в землю – на горящие верхние этажи. Женщины, бывшие рядом со мной, сначала махали им руками, кричали, и потом подтолкнули меня, дескать, сбегай, уведи их. Несколько человек в толпе перед Верховным советом уже ранило, а одного альфовца убило наповал. Я подбежал к старикам, попытался столкнуть их с места, однако дед замахнулся на меня палкой.
– Сам иди! – обозлено сказал он. – Нас не тронут.
Не глухой оказался, но, кажется, слепой, и старушка его тоже, ибо в руках обоих были одинаковые палочки, с которыми ходят незрячие. Они вывернулись из моих рук, отошли в сторону, но так и остались на набережной. Тогда подбежали женщины – знакомая депутатша и журналистка, стали уговаривать и оттаскивать их, однако старушенция, весьма бойкая особа, пригрозила своим костылем.
– Прочь! Ступайте прочь! – закричала она с явным немецким акцентом. – Сами вы слепые, знаете ли, что происходит? А происходит то, что я увидела еще сорок лет назад! И флаг американский, и танки!
Последние фразы были не совсем понятны, но почему-то потрясли меня не меньше, чем орудийный обстрел «Белого дома». Женщины не услышали в ее провидческих словах ничего особенного, стали допытываться у слепых, де-мол, вы случайно не заблудились? Знаете, куда идти, где ваш дом? По виду они были явными гостями столицы. Сердитый старик сначала отпихивался, затем бумажку показал, с адресом, дескать, не потерялись мы, только отстаньте. Иногда слепые носят такие на всякий случай.
– Мы из Сибири пришли. – добавила незрячая и говорливая старушка. – На коне ехали, на лодке плыли, в поезде четверо суток тряслись. Чтобы своими глазами посмотреть откровения Прахараваты.
И эта ее фраза зацепила, влипла в сознание, возможно, потому, что отдавала уже не странностью – неким старческим фанатизмом, религиозностью. По крайней мере, в последнем, совсем не знакомом слове, звучало нечто восточное, буддийское, хотя на вид вполне сельские жители среднерусской глубинки.
Нам все же удалось их сместить с открытой набережной в более безопасное место, однако старики там простояли не долго. Потом я несколько раз видел их мелькающие спины – неспешно уходили в сторону моста и щупали дорогу палочками. Это могло бы стать сиюминутным эпизодом в череде других странностей, испытанных перед горящим Верховным советом, однако история получила продолжение.
Нас продержали перед центральным подъездом до самого вечера, затем провели во двор соседнего дома – спрятать от огня, но и там стреляли. Мне с моими женщинами и еще группой защитников «Белого дома» удалось найти пристанище на шестом этаже у сердобольных москвичек, матери и дочери. На утро молодая хозяйка вывела нас к станции метро, и я начал обзванивать знакомых, чтобы спрятаться на несколько дней, пока идет «шмон». ОМОН вылавливал защитников на улицах, вокзалах и метро, было объявлено, что Верховный совет обороняли иногородние боевики, а я приехал из Вологды. После трех звонков стало ясно, что убежище у товарищей, даже очень близких, не найти – отказывали по самым разным причинам. И тут вспомнил про бумажку с адресом у слепого старика, поскольку странная эта пара не выходила из головы. Там была указана улица, номер дома и квартиры, и еще имя – Лаврентий Лукич: то ли старика так звали, то ли хозяина. Тем более, не так и далеко от Краснопресненской.
Через час он и встретил меня на пороге – пожилой, ухоженный человек с начесанным седым коком, сразу видно, бывший партработник высокого полета, но сейчас чем-то сильно расстроенный и мрачный. Дверь он открыл нараспашку, верно, ждал кого-то, однако далее передней чужого бы не впустил, но тут за его спиной появилась слепая старушка и сразу же меня признала.
– Ну и зачем ты сюда приперся? – с немецким акцентом, но как-то очень уж по-русски, как у старого знакомого спросила она. – Пойти больше некуда?
Пока ехал, готовился к этой встрече, думал, представиться писателем, объяснить, как очутился в здании Верховного совета, заинтересовать какими-нибудь деталями произошедшего расстрела. И прежде всего, извиниться за свой вид: нас две недели держали без воды и света, обложив здание стеной из колючей проволоки, за что Верховный совет стали называть первым концлагерем на площади Свободы. Но в тот момент понял, что ничего этого не требуется. Появилось ощущение, что все тут знают, угадывают и так не выгонят.
– Спрятаться надо. – честно признался я. – Дня на два…
Почти следом за мной пришел старик, отстраненный, даже нелюдимый, однако от вчерашнего вида слепца и следа не осталось – зыркал из-под бровей, как филин – тоже признал.
– Что у порога-то держите? – ворчливо спросил он домашних.
Меня проводили в ванную, дали чистую одежду, накормили и сначала уложили спать. В этот же день я услышал историю про Соржинский кряж, узнал, про экспедиции на Тибет общества Аненербе, что такое белое пятно и Прахаравата. Но обо всем этом – по порядку.
1
Особист сразу же показался ему человеком умным, но лукавым, скользким и фамилия соответствовала – Юлианов. Ерема такими людьми восхищался, поскольку сам так не мог, отличаясь прямодушием и тугоподвижностью ума. Слушал подобных говорунов, удивлялся, как у них все ловко и ладно получается, но вовремя вставить лыко в строку не умел и от того вечно расстраивался. Потом, с опозданием, он обычно находил слова, как отбрехаться на острую или вычурную мысль собеседника, и корил себя, мол, эх, надо было так-то ответить, то-то сказать. Однако вместе с восхищением он испытывал нарастающую неприязнь, а порой даже ненависть к таким людям, если по их вине сам вынужден был изворачиваться. Ерема собирался уже в обратный путь, на берегу Соржи лодку смолил, когда за ним прибежал дежурный милиционер. Домой заскочить и переодеться не дал, мол, особист нервный, ждать не любит, срочно требует для беседы, ненадолго, и больше ничего объяснять не стал или не захотел.
Хорошо отец предупредил, дескать, ухо держи востро, лишнего не сболтни. Де-мол, появился у нас тут МГБэшник, уже две недели живет, занял кабинет начальника поселковой милиции и казаков пытает, особенно промысловых, а до чего дознаться хочет – не понятно. И так зайдет, и эдак, похоже, его золото интересует, так прииски еще до войны позакрывались, или вроде китайцы-золотоноши. Ни с того, ни с сего начнет допытываться, кто и где во время войны был, как фронту помогал, есть ли заслуги перед властью, кто сколько пушнины сдал государству. Все вокруг да около ходит, куда клонит, никак не поймешь, больно уж хитромудрый этот капитан.
И почти у всех, с кем говорил, про Ерему спрашивал, похоже, поджидал его, однако сразу к себе не пригласил, а только через сутки, когда надо было готовиться в обратный путь.
А Юлианов в начале надумал в душу проникнуть, но скрыть своего высокомерия не сумел, поэтому полез туда, как разбойник, с ухмылкой, словно с ножом в зубах.
– Говорят, ты романтик, книги читаешь? И у тебя в каждой избушке – библиотека?
– Читаю. – настороженно отозвался Ерема. – Если интересные.
– А где берешь? У вас даже книжного магазина нет.
– Через посылторг выписываю.
Особист ждал чего-то другого, сначала разочаровался, однако блеснул хитроватым затаенным взором.
– А еще, говорят, ты любишь на падающие звезды смотреть?
Вот что бы тогда не отбрить его, сказать:
– Говорят, в Москве кур доят, а петухи яйца несут.
И далее бы вести разговор в том же духе, парируя язвительные нападки, но Ерема сразу набычился, спрятал глаза и почуял жар на лице. На самом-то деле он любил глядеть в звездное небо, считал его самым прекрасным явлением на земле, но об этом знать никто не знал, кроме близких, тем паче, заезжий особист.
– Что на них смотреть? – пробурчал Ерема. – Падают, да и хрен с ними, значит, лишние на небе.
Капитан от неожиданного сурового ответа даже челюстями лязгнул, погоны в звездах изогнул так, что они чуть не обсыпались. Однако лишь плечи воздел и никак более своего неудовольствия не выказал. Не теряя надежды, попытался зайти с другой романтической стороны.
– Расскажи-ка мне, друг любезный, что у тебя в Германии приключилось? Когда в армии служил?
– Ничего не приключилось. – пробубнил Ерема, презирая в себе тугодумие. – Отслужил срочную, пришел, работаю…
– Тебя в сорок пятом призвали?
– Ну да. В пятьдесят втором демобилизовали.
– Семь лет срочной? Разве столько служат?
– У меня не спрашивали сроков…
– Тебе же хотели офицерское звание присвоить?
– Хотели…
Вопрос последовал наводящий и ядовитый:
– Вместо этого из авиатехников перевели в аэродромную охрану? За что?
– У командиров узнай. – совсем уже грубо и туповато заключил он. – По моему, так ни за что.
– Узнал, – особист достал бумагу. – Может, сам скажешь? Для очистки совести? Хотя это дело прошлое, но наводит на вполне определенные размышления.
У Еремы под бородой зачесалось – верный знак крайнего возмущения. А еще пока лодку смолил, так выпачкал смолой, слиплась, как мочало…
– Я свою совесть ничем не замарал!
– Тебя перевели в охрану за порочную связь с немкой! – рубанул капитан. – Понизили в должности и звании, из комсомола исключили. И благодари командиров, не посадили. Уволили задним числом…
– Задницу они свою прикрывали! – огрызнулся Ерема. – Потому и уволили так.
И верно при этом клыки показал, поскольку особист резко изменил тон, заговорил заботливо, но будто каменный шар накатывал:
– Нам стало известно, у тебя на участке обитают злые духи. – вдруг заявил он. – Сталкивался с ними? Встречал?
Тоже можно было поиздеваться вволю над капитаном, поскольку Ерема ни в каких духов не верил, но как школьник на уроке, стал угрюмо оправдываться:
– Никого я не встречал. Ни злых, ни добрых.
– Как же? И даже не чувствовал? Ничего не замечал?
– Я в духов не верю. – упрямо пробубнил Ерема. – Это якуты в них верят, шаманы. А я хоть и бывший, но комсомолец…
– Они же всячески притесняют, не дают работать, – не внял ему особист. – Обворовывают промысловые угодья. Со мной можно говорить открыто, начистоту. Я уже с твоим отцом побеседовал, с братом Иваном. Они оба говорят, злые духи есть. Они и охраняют Соржинский кряж, не всякого туда впускают.
Вот что бы не зацепить въедливого капитана, и впрямь свалить все на злых духов, коих наслали на Соржинский кряж якутские шаманы. И пусть бы гадал сидел, дурят его сказками или на самом деле местные люди суеверны, но Ерема напрочь утратил полет мысли и тупо произнес:
– На чистоту и отвечаю – ничего сверхестественного не наблюдал.
– Не понимаю, отчего ты упорствуешь. – будто бы проявил участие капитан. – Отец у тебя каждый день с ними сталкивался, пока промышлял. Поэтому и охотиться перестал. Может, запугали они тебя?
– Как меня запугать-то?
– Мало ли как… Избушку сожгли, например, как у брата твоего, Ивана. Настороженные ловушки, капканы спускают, дичь пугают. Или хуже того, пригрозили самого с ума свести.
– Ничего такого не было.
– И шаманы не появлялись?
Ерема наконец-то справился со своим тугодумием.
– С виду ты человек вроде нормальный. – сказал, озирая особиста. – А умом, как якут, про духов рассуждаешь. Или для потехи только? Так мне некогда с тобой тут дурака валять. Надо лодку смолить.
Особист, видно, понял, ничего так не добиться и опять на круг пошел, расстелил карту на столе:
– Покажи-ка мне свой участок, Осягин.
Ерема посмотрел, нашел поселок, реку Соржа, точнее, нижнюю ее, северо-восточную часть – на всем остальном, словно кучевое облако, лежало белое пятно.
– Не покажу, его тут нету.
– Совсем нет?
– Соржинский кряж как раз посередине белого пятна.
– Этим летом топографическая экспедиция придет. – пообещал капитан. – Съемку будут делать, пробелы на карте заполнять. Но ты же слышал, это место называют белым пятном по другой причине. Будто люди заходят туда и пропадают?
Подобные байки про Соржинский кряж Ерема с детства слышал, но только в детстве им и верил.
– Болтовня все. – отмахнулся он. – Я ведь хожу там, живу и не пропал. И отец там промышлял, и дед.
– В том-то и штука. Одни туда входят и выходят свободно, а другие исчезают бесследно.
– А нечего с дурными помыслами ходить. – отпарировал Ерема и понял, что сделал это зря.
– То есть, ты все-таки веришь в сверхестественные силы природы?
– Ну, мало ли как бывает. – стал оправдываться он. – Раз на раз не приходится. Загадки, конечно, есть…
– Ты от кого услышал, что Соржинский кряж называют белым пятном? Это же термин чисто географический.
– Первый раз от геологов. – удачно признался Ерема. – В отрочестве я с ними ходил в поход. То есть, в экспедицию. Они и объяснили, что если нет топографической съемки, то территория слепая. То есть, темная, не изведанная.
– Поэтому там могут пропадать люди?
– Да кто особенно-то пропадал? Находили потом…
– Но китайцы пропадали?
– Говорят, пропадали…
– А однажды исчезла целая приискательская артель, человек десять. Слыхал?
– Слыхал. – усмехнулся Ерема. – Только они не исчезли – заблудились. И вышли потом на Индигирку.
– Километров за триста от Соржинского кряжа! И по дороге двух своих товарищей съели.
Он и про это слышал, поэтому отозвался ворчливо:
– А нечего там делать с недобрыми помыслами. Еще мой дед так говорил.
Особист положил перед ним лист бумаги.
– Укажи, как река протекает, и где горы стоят. Ты же хорошо эту местность знаешь?
– Ну, знаю…
– Нарисуй. – он дал карандаш. – Границы участка и примерное расположение твоих избушек.
Ерема наугад провел извилистую черту с севера на юг и наставил кружочков.
– Это Соржа и горы. – добавил пять крестиков. – Тут избушки…
Особист посмотрел рисунок, покачал головой.
– Да, сотрудничать с органами ты не хочешь, Осягин. Твой отец совсем другое расположение нарисовал. А напрасно…
– Как умел, так нарисовал…
Капитан все еще проявлял терпение и вопросы задавал неожиданные.
– Почему ты до сих пор не женился? Про тебя говорят, чуть ли не первый жених в поселке. Десятилетку окончил, авиатехником служил, мастеровой парень. А в лесу живешь один….
– Свою суженую жду. – теперь уже ухмыльнулся Ерема. – В нашем казачьем роду так положено.
– А может, завел себе на промысле бабенку? – капитан подмигнул, – Какую-нибудь якутскую шаманку?
– В Соржинском кряже якутов сроду не бывало…
И договорить не успел, как особист уже другой вопрос заготовил:
– Ты сейчас зачем из тайги вышел? С какой целью?
– Пушнину сдать, продуктов прикупить и завезти.
– А что так поздно? Все давно уже сдали пушнину.
– Я же к Сорже привязан. – уже без вызова проговорил Ерема. – Река вскрылась и поехал…
– Сколько же ты до Потоскуя плывешь?
– Двое суток.
– А обратно?
– Четверо по большой воде. По малой – неделю.
Юлианов не юлил – вертел вопросы в разные стороны:
– Ну и как? План по добыче выполнил?
– Вдвое перевыполнил…
– Это я слышал, портрет на доске почета висит, передовой промысловик.
– Угодья хорошие…
– Говорят, удачливый ты охотник, на ловца и зверь бежит…
Ерема не захотел продолжать такой разговор – стеснялся, поэтому свел его на нет:
– Как придется…
– Скажи-ка, Еремей Лукич, а заготовитель пушнины вас обжуливает?
– Не без этого. – сдержанно сказал тот, пытаясь понять, куда клонит собеседник. – Но по божески…
– Ты уже продукты закупил, и завтра назад, в тайгу?
– Пока вода не спала…
Капитан достал еще одну бумажку.
– Мука, крупа, соль, это я понимаю. Керосин, макароны… А вот кому ты купил ящик галет, сгущенное молоко и сорок плиток шоколада?
Ерема насторожился, но виду не показал.
– Как кому? Себе.
– Сорок плиток шоколада? Весь в магазине забрал!
– Было бы в ОРСе больше – взял еще…
– Но раньше ты никогда не брал таких сладостей.
Верно, особист думал, поймал его с поличным, к стенке припер – даже лезвие ухмылки уже зубами зажал.
– Раньше я у отца мед брал. – признался Ерема. – Нынче нету.
– Почему нет?
– Прошлым летом взяток был плохой.
– И ты решил побаловать себя сгущенкой, шоколадом?
– А что? Я в армии к шоколаду привык. Сухим пайком выдавали.
Капитан опять вздыбил плечи и от возмущения чуть ли не на крик сорвался:
– Ты мне кончай прикидываться! К шоколаду он привык! Что же раньше-то на него не тратился?
– Говорю же, мед брал…
– А нынче аж на три тысячи шоколаду купил?
– На что мне еще тратить? Семьи пока что нету, а я двадцать семь тыщ чистыми получил…
– И решил злых духов задобрить? Так сказать, воздать жертву?
Ерема только руками развел.
– Что-то я не пойму никак. Ты про духов серьезно толкуешь? Или придуриваешься?
И так захотелось треснуть по его масленой роже!
Особист тоже кулаки стиснул, но сдержался, чувствовалось, вскипает, однако целый стакан воды выпил, будто пожар внутри затушил. И голос сразу стал вкрадчивый, парной:
– Ладно, а зачем лампы искал? Ты же спрашивал у киномеханика электронные лампы?
Запираться тут не было смысла.
– Спрашивал, хочу старый приемник отремонтировать.
– Радио слушать? А лампы искал для радиопередатчика, судя по маркировке. Ну, и что ты скажешь?
Ерема пожал плечами.
– Должно быть, они одинаковые…
Особист не дал договорить, рубанул кулаком по столу:
– Хватит врать, Осягин! Кому потребовались лампы для радиопередатчика?
– Злым духам. – пробурчал тот. – Кому же еще?
Капитан на шутку не обиделся, напротив, облегченно вздохнул:
– Это уже ближе к правде… – и пригрозил. – Запомни, Осягин, будешь врать – срок схлопочешь. Теперь отвечай, откуда у тебя эта вещица?
И поднял за цепочку серебряные швейцарские часы, отобранные у Еремы, когда привели в милицию. У того ответ был заготовлен:
– Трофейные, с фронта привез.
– Ты же не воевал?
– Но в Германии служил…
– А надпись на оборотной стороне крышки читал?
– Там не по-русски написано.
– Верно, по-английски, и звучит это как Куз.
– Мне все равно, трофейные…
Юлианов всякую надежду потерял, рассердился:
– Сейчас в камеру! Посиди, подумай. Завтра мне все про духов расскажешь. И особенно про часы! Кто и когда подарил.
И вызвал дежурного милиционера…
* * *Безлюдную, благодатную эту землю даже стихии не трогали. Ураганы рассекались горами и проносились мимо, таежные пожары упирались в широкие, но мелкие каменистые реки, либо скалы с россыпями курумников и заглыхали еще на дальних подступах, суровые морозы распадались на два потока и уходили один на запад, другой на восток, огибая неприступный Соржинский кряж. Стоял он словно корабль между двух сибирских рек, разделяя водные и воздушные потоки, а может быть и все пространство до небесной выси. Даже Тунгусский метеорит, целивший в плоские вершины правого борта кряжа, будто на стену наткнулся. Редкие старики-очевидцы, в частности дед Еремы, своими глазами видел, как слепящая звезда сначала пошла к земле, но в последний миг будто зависла! А потом скользнула вверх, унеслась к Подкаменной реке и уже над нею хлопнула да сгорела. А тут ни единого дерева не свалилось, разве что по реке волна пошла, на горах лед растаял, и тундровые болота на вершинах в единый миг высохли. Зато другие звезды, совсем малые, падали на кряж часто, и часто рассыпались в прах или таяли – говорят, ледяными были. Еремин дед такую звезду находил и целиком принести не мог, так кусок отколол топором и положил у себя в избушке. На вид и в самом деле, как прозрачный лед, но теплый и не тает, а будто сразу испаряется. Полежал осколок такой звезды недели три – вдвое уменьшился. Остатки дед хотел в Потоскуй привезти, детям и внукам показать, но пока плыл на лодке по Сорже, метеорит исчез. Другие же казаки много раз находили оплавленные камни величиной с кулак и поболее. Считалось, тот счастливый, кто нашел остывшую звезду, от зубной боли помогала и от пупочной грыжи у младенцев.
Но вот когда золотая лихорадка охватила всю Восточную Сибирь, эта лютая стихийная хворь доползла и до Соржи. Долее всех не поддавались ей казаки, продолжали пахать, сеять, лошадей разводить, но неотвратимая напасть и их достала, заразились даже самые стойкие к зачумлению, жившие тут особняком, казачьи становища. Казаки давно не служили, при шашках не ходили, однако ремесло свое земледельческое помнили, снабжая хлебом и конями всю округу. И только зимой, зажиточные, но томимые бездельем, промышляли пушного зверя и рыбачили. Так ведь и стойкие казаки поддались искушению, побросали свои поля, с такими трудами отвоеванные у тайги, оставили промысловые участки и отправились на прииски. Или вовсе начали добывать золото на своих нивах, сдирая гумусный плодородный слой, под которым лежали сокровища.
А через три десятка лет лихорадка иссякла сама по себе вместе с россыпями и схлынула, как шрамы оставив шурфы, канавы, горы перемытого песка и приискательские названия поселков – Покукуй, Погорюй и Потоскуй. Это не считая двух десятков станов и заимок, где бараки, под завязку забивались зимующими золотушниками. Каждую осень они выходили из тайги и первые недели начиналось лютое веселье. Разумные да рачительные, гуляли пару дней и отправлялись к своим семьям, да таковых было на пальцах перечесть. Артельщики из дальних мест зимовать оставались, прогуливались вдрызг, а потом сидели куковали, горевали да тосковали, ожидая летнего сезона. Ну, мол, в следующий раз умнее будем, купим у казаков коней с санями, загрузим гостинцами да товаром и мимо всех кабаков, по домам. Бывало, фартовые покупали даже тройки – зимой по рекам катись – не хочу, мануфактуру брали штуками, сахарных головок дюжинами, инструмента плотницкого и всякого, и как тут не подвернуть к харчевне, чаю не попить на дальнюю дорожку? Тем паче, шальные румяные девки у дороги с подносом стоят, дармовую рюмку наливают и даже не зазывают? Напротив, торопят и доброго пути желают? Креста что ли на шее нет, мимо проехать? А поднесли лафитник – не заплатить за второй грех великий!
Миновало еще пятнадцать годков, и от болезни следа не осталось, половодья на речках выгладили перекопанные русла, хвойный самосев и глубокие мхи затянули раны и даже брошенные селения и станки золотушников, некогда бывшие до трех тысяч душ каждый. Пришлый народ быстро разъехался, рассосался по другим фартовым местам, а старожилам и особенно казакам ехать было некуда. Только вот пахотной земли в низовьях Соржи не осталось – большую часть срыли, перемешали с бесплодной глиной, поскольку поля были в долинах золотоносных рек, остальная заросла горьким осинником да ельником! Вольные пахари снова пожогами землю отобрали, да только она родить перестала, поскольку семена утратили, не стало ржи, ячменя и пшеницы, что вызревала в холодных долинах между гор. Пробовали и так, и эдак, возили семена из северных районов, по сусекам в амбарах скребли, полы разбирали, дабы зернышки отыскать, даже в колхоз собрались, чтобы пересилить беду, но местного хлеба больше не поели. Лошадей еще держали, но и них надобность отпадала, не стало покупателей – фартовых артельщиков, трактора да машины появились, по рекам пароходы зачастили. А потом после коллективизации вовсе строго-настрого запретили на своем подворье коня иметь!