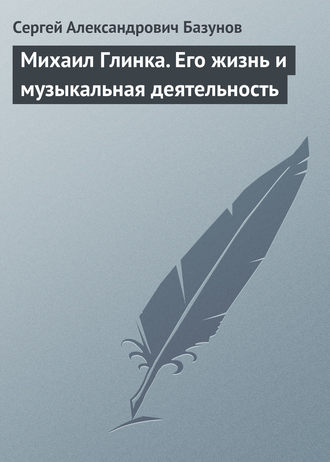
Сергей Александрович Базунов
Михаил Глинка. Его жизнь и музыкальная деятельность
И помимо официальной стороны поездка эта, продолжавшаяся около полугода, была очень полезна и важна для Глинки, потому что дала ему возможность изучить на месте малороссийскую песню и все богатство малороссийских напевов. Кроме Чернигова и Переяславля композитор побывал во многих других украинских городах, например в Полтаве, Харькове, Киеве, Ахтырке, и везде Глинка мог слышать настоящее малороссийское пение из уст самого народа. Да и у Тарковского, в доме которого путешественники поселились, был собственный хор, исполнявший украинские песни. Кроме того, к богатому помещику часто собирались местные любители пения, между которыми нередко попадались очень типичные представители настоящей Украины. Так, например, Глинка с особенным сочувствием упоминает об одном из соседей Тарновского, некоем Скоропадском. Будучи человеком образованным, хорошо понимающим музыку, он увлекался украинской стариной, держал себя простым казаком и неподражаемо пел чумацкие песни. Вообще украинские впечатления, поэтические и разнообразные, оказали на Глинку самое благотворное влияние, а кроме того, он успел за это время отдохнуть от своих домашних огорчений, и душевные силы его как бы воскресли. Пробудился опять его поэтический гений, и на Украине были написаны первые темы оперы «Руслан и Людмила». Сам сюжет, мысль о котором подана была ему кн. Шаховским, Глинка имел в виду еще в Петербурге в 1837 году; в Малороссии же написаны знаменитый марш Черномора, баллада Финна и превосходный «Персидский хор» («Ложится в поле мрак ночной»). Кроме того, там же, то есть в имении Тарновского, были написаны некоторые из лучших малороссийских романсов Глинки, например «Гуде витер», «Не щебечи, соловейку» (слова Забелы), аранжирована для оркестра элегия Геништы «Шуми, шуми» и проч.
По возвращении в Петербург Глинка лично представлял набранных певчих государю. Представление, отчасти не лишенное комизма, происходило в знаменной зале дворца, возле кабинета его величества. В назначенный день и час здесь собрались трепещущие певчие (по большей части мальчики, ибо большинство были альты и сопрано) под предводительством малорослого своего регента, то есть Глинки. Затем, по требованию директора, Глинка построил их полукругом, в центре которого поместился сам. Теперь представьте себе, читатель, добрейшего Михаила Ивановича в мундире, при шпаге, с форменной треугольной шляпой в левой руке и камертоном в правой. Вышел государь и прежде всего заинтересовался, что такое держит Глинка в правой руке. Глинка объяснил. Затем, полюбовавшись комической группой стоявших перед ним малышей, государь улыбнулся и сказал: «Ах, какие молодцы! Где ты подобрал их себе под рост?» Потом на вопрос, что певчие знают, Глинка смело отвечал: «Все требуемое по службе, ваше императорское величество». Государь проэкзаменовал хор и остался доволен.
Творческие силы Глинки, проснувшиеся под влиянием путешествия в Малороссию, не ослабевали и по возвращении в Петербург. Сюжет «Руслана и Людмилы» продолжал вдохновлять его, и в течение зимы 1838/39 года к темам, написанным в Малороссии, он прибавил несколько новых номеров, например великолепную каватину Гориславы «Любви роскошная звезда», каватину Людмилы из первого акта «Грустно мне, родитель дорогой» и др. Но, говоря собственными его словами, Глинка писал оперу «по кусочкам и урывками», а в течение 1839 года опера и вовсе не подвигалась вперед. Причиною такой отрывочной и несистематической работы нужно считать возобновившиеся домашние нелады, опять заставившие композитора бежать от семьи. Едва успев отдохнуть в путешествии по Украине от этих неприятностей, он тотчас по возвращении в семью был встречен целым рядом тяжелых оскорбительных сцен. От него требовали денег, его упрекали, что он не умеет зарабатывать деньги; и несмотря на то, что Глинка в то время получал до десяти тысяч рублей в год при готовой квартире и почти все деньги отдавал жене, упреки не прекращались. Дома нужны были, одним словом, не «Руслан», не романсы и, кажется, даже не сам Глинка, а деньги и только они. В довершение остального начались еще угрозы покинуть мужа. Бедный Глинка совершенно терял голову.
Наконец постоянные сцены и упреки довели нашего композитора до того, что он должен был предпринять чисто коммерческую аферу. Он решился издать «Собрание музыкальных пьес». Нужно было именно с единственною целью наживы составить сборник из чужих и своих пьес. Но собирать, то есть выпрашивать, чужие пьесы было весьма тяжело. «Собирать эти пьесы, – говорит Глинка, – мне было не только трудно, но и досадно…» Когда же это тяжелое занятие было окончено, неожиданно встретилось еще новое затруднение, а именно: ни один издатель не решался купить этот сборник. (Да и понятно: Глинка продавал чужие произведения). «Я плакал от досады, – говорит он, – и Платон Кукольник, сжалившись надо мною, уладил дело с издателем Гурскалиным». Составитель сборника получил в итоге что-то вроде тысячи рублей ассигнациями.
Вот какова была домашняя жизнь нашего Глинки. Нужно ли удивляться, что бедный композитор, уже и прежде спасавшийся от домашней неурядицы в обществе Кукольника и его друзей, теперь все более отдаляясь от семьи, тем теснее сближался с этим симпатичным ему обществом художников и литераторов. Это была целая ассоциация людей свободных, веселых, талантливых, шутливо называвшаяся «братия». Она образовалась еще в 1835/36 годах и существовала несколько лет подряд. Никаких обязательных правил братия не придерживалась; всякий этикет, меркантильность, всякая мелочность были изгнаны. Эта братия имела общую квартиру, хозяином которой считался тогда Платон Кукольник. Все было устроено просто, на холостую ногу, спали по несколько человек в одной комнате, а для отсутствующих или запоздавших членов общества всегда имелись свободные и лишние места. Общность целей и стремлений, литература и искусство связывали этот кружок, к которому принадлежали и Глинка, и знаменитый художник Карл Брюллов, и Кукольник, и многие другие. Сюда-то убегал Глинка от тягот своей семейной жизни. «Мне гадко было у себя дома, – говорит он, – зато сколько жизни и наслажденья с другой стороны: пламенные поэтические чувства к Е. К., которые она вполне понимала и разделяла, широкое приволье между доброй, милой и талантливой братией». Но прежде всего нужно сказать несколько слов о г-же Е. К. За этими инициалами Глинка скрыл имя особы, очень искренно и горячо им любимой. В последующие годы она была очень близка ему. Но первая, совершенно случайная, встреча с нею произошла весною 1839 года у замужней сестры Глинки, Марьи Ивановны Стунеевой. Глинка заметил ясные, выразительные глаза, стройный стан, особого рода прелесть и достоинство, разлитые во всей ее фигуре, и даже нечто страдальческое в выражении ее лица. Как все это было действительно не похоже на то, что он привык видеть дома. Достоинства, именно достоинства там не было, и потому здесь оно поразило Глинку прежде всего. Словом сказать, Глинка опять влюбился. Но нужно ли удивляться этому, и могло ли быть иначе?..
Весною 1839 года семейство Глинки переехало на дачу близ Лесного института, но сам он бывал там не часто. В городе пристанищем его была квартира Кукольника, откуда он все чаще и чаще навещал свою сестру Марью Ивановну: у нее проживала Е. К., служившая в то время в Смольном институте. Предлогом частых поездок в Смольный были занятия Глинки с оркестром института.
«Вскоре чувства мои были вполне разделены милою Е. К.,– говорит он, – и свидания с нею становились отраднее. Напротив того, с женою отношения мои становились хуже и хуже». Она, упрекавшая его прежде, когда это было несправедливо, в том, что он ее не любит, теперь все чаще и чаще грозила покинуть его. Наконец семейные отношения Глинки стали до такой степени невыносимы, что он сам решил оставить жену и 6 ноября 1839 года послал ей письмо, где говорил, что причины, о которых он считает нужным умолчать, вынуждают его расстаться с нею, что сделать это нужно без ссор и взаимных упреков и что он предоставляет ей половину всех своих доходов. Замечательно, что письмо это, по словам Глинки, не произвело сильного впечатления на Марью Петровну.
Дамы петербургских аристократических домов дружно ополчились против Глинки. Предводительствовали какие-то графини, и злословию их, по словам Глинки, не было предела. Но Михаил Иванович, захворавши от всех этих неприятностей, принял свои меры. Он переехал на квартиру приятеля Степанова и, кроме самых близких друзей, не допускал к себе никого.
Знакомства большого света пришлось, таким образом, забыть; по тем же соображениям Глинка нашел неудобным продолжать свою службу в Певческой капелле и 18 декабря 1839 года вышел в отставку. Так кончился для него этот знаменательный 1839 год.
Из числа его произведений этого периода кроме названных выше нужно упомянуть написанные для Е. К. романс «Если встречусь с тобой» (слова Кольцова) и «Valse-Fantaisie» (H-mol), затем другой вальс (G-dur), польский (E-dur), ноктюрн «La séparation»[13] (F-mol) и пр. Опера же «Руслан и Людмила», как сказано выше, в 1839 году не подвинулась вперед вовсе.







