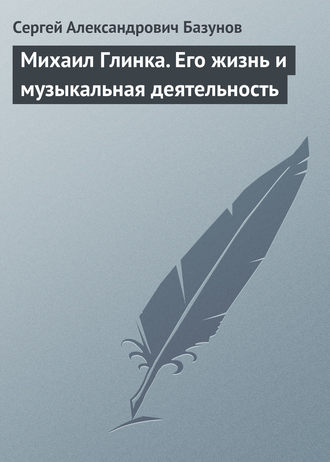
Сергей Александрович Базунов
Михаил Глинка. Его жизнь и музыкальная деятельность
Каковы же особенности гармонии народной песни?
Вся масса известных в музыке аккордов может быть разделена на две крупные категории: консонансы и диссонансы. (Примером первых могут служить терция и квинта – отдельно или вместе взятые; если же к терции и квинте, вместе взятым, мы прибавим еще септиму, то есть седьмой от баса тон, то получится аккорд второй категории, то есть диссонанс). Консонансы производят на наш слух, говоря вообще, впечатление покоя; их можно повторять, выдерживать долго, и слух охотно на них останавливается; словом сказать, аккорды эти отражают душевное равновесие человека. Диссонансы, напротив, производят впечатление тревоги, волнуют и беспокоят слух. В противоположность консонансам они являются отрицанием покоя; они воплощают настроение порыва, движения, страсти и, как всякая страсть, не могут продолжаться долго и непременно должны смениться состоянием покоя, то есть консонансом. Вот почему, между прочим, и в современной музыке диссонанс почти никогда не заключает пьесы, – в конце непременно нужен консонанс.
Сказанного достаточно, чтобы понять, что в народной гармонии должны преобладать консонансы. И действительно, правильно понятая и правильно гармонизированная народная песня состоит почти исключительно из одних только консонансов. Музыка отражает духовную жизнь народа, а характерными свойствами народной души именно и являются простота, ясность и устойчивость миросозерцания, стихийная сила традиции и отсутствие в массе порывов, нервности, сомнений и колебаний. Однако с течением времени неизбежный исторический процесс выдвигает из среды народа некоторые обособленные группы – интеллигенцию. Сложность миросозерцания этих новых групп увеличивается, место догмата занимают сомнения и вопросы, а с ними неразлучны тревоги, волнения. Взгляды, идеалы и верования колеблются, быстро сменяясь одни другими. И музыка, продолжая исполнять свое историческое назначение, добросовестно отражает эту тревогу человеческой души, переходя от величайшей простоты и ясности к бесконечной сложности современных диссонансов. В них так же верно отражаются разрозненность и жизненные диссонансы современного общества, как в народной песне – величавая цельность и душевный мир народной массы.
Таким образом, современная культурная музыка имеет, конечно, все права на существование, потому что она есть, несомненно, один из видов красоты; но точно такое же право должно быть признано и за народной музыкой, потому что в своем роде и она удовлетворяет самым возвышенным требованиям той же красоты. Вот что говорит по этому поводу г-н Ларош: «Музыканту, вскормленному исключительно на прямом и пестром стиле нашего времени, гармония из одних консонансов покажется ничтожною в своих средствах», но это лишь «следствие одностороннего современного образования», а быть может, и «незнания истории музыки». На самом же деле «эпоха процветания церковной и вокальной музыки раскрыла все несметное богатство сочетаний, возможных и в пределах консонанса». И, отметив богатство и красоту народной гармонии, он заключает так: «Сложность сочетаний трезвучий (консонансов) между собою сообщает музыке возвышенный, идеальный характер, соперничающий с глубиною вдохновения».
Что касается ритма русской народной песни, то и в этом отношении она имеет особенность, резко отличающую ее не только от художественной, но и от народной музыки Запада. Характерная особенность эта заключается в том, что у нас, то есть в нашей народной песне, преобладают так называемые несимметричные размеры, то есть пятидольные, семидольные (5/4, 7/4) и пр. Симметричные же ритмы, то есть правильно повторяющиеся четные размеры, свойственные всему Западу, так же как и нашей культурной музыке, встречаются в русской песне сравнительно реже и по происхождению своему относятся к более позднему времени. Общим правилом остаются, таким образом, эти нечетные, несимметричные ритмы, и необыкновенной прелестью своей русская народная песня во многом обязана именно этому оригинальному свойству. Таковы главные особенности, отличающие русскую народную песню. Они так значительны и до того характерны, что решительно выделяют русскую песню как особый, самостоятельный род музыки, красота которого и поэтические достоинства ныне признаны всеми единогласно. Нет двух мнений о значении этих прелестных образцов народного творчества. В наше время они признаются бесспорно произведениями глубокой, истинной поэзии и источником, из которого культурная музыка еще долго будет черпать свое вдохновение. Одна из величайших заслуг Глинки состоит в том, что он в основу своей музыки положил русскую песню и правильно оценил этот драгоценный источник. Отбросив жалкую систему подражаний избитым итальянским образцам, он наполнил произведения своего зрелого возраста живою поэзией народного музыкального творчества. Непонятый современниками, впоследствии он породил своим примером целую школу, девиз которой – национальность, а цель – самостоятельное творчество в духе народных образцов. Таким образом, Глинка является родоначальником русской национальной музыки и ему же будет она обязана ожидающим ее дальнейшим развитием. В настоящее время русская музыка стоит на правильной дороге. Изучая произведения народного творчества и находя в них источник своего вдохновения, она имеет под ногами твердую национальную почву, и ее, конечно, ожидает блестящая и великая будущность.
Глава IX. Последний период жизни Глинки
Путешествие в Париж и Испанию. – Парижские концерты Берлиоза и Глинки. – Жизнь в Испании. – Возвращение в Россию. – Пребывание в Смоленске и Варшаве. – Поездки в Петербург. – Третье путешествие за границу. – Возвращение в Петербург. – Упадок творческих сил. – Занятия церковной музыкой. – Последняя поездка за границу. – Смерть Глинки. – Похороны в Берлине. – Перенесение праха в Россию.
Последний период жизни Глинки не богат внешними фактами и не отмечен какими-либо крупными произведениями. Опера «Руслан и Людмила» была, очевидно, кульминационным пунктом его художественной деятельности. Но опера эта потерпела неудачу, и композитор ясно увидел, что двигаться дальше в избранном направлении нет никакой возможности; для Глинки в тогдашней России не было еще публики. «Твоего Мишу, – пророчески говорил он сестре, Людмиле Ивановне Шестаковой, – поймут через 25 лет, а „Руслана“ – через 100 лет».
Да и сил, пожалуй, уже не хватало у нашего маэстро; только он сам мог бы рассказать, сколько душевной энергии ему пришлось потратить на свою художественную деятельность, сколько сил вложить хотя бы в одного «Руслана»…
В последний период жизни он большей частью жил за границей, мало создавая, мало действуя и, так сказать, оставаясь только наблюдателем совершавшейся вокруг него жизни.
Свою заграничную жизнь Глинка начал путешествием в Париж, откуда предполагал перебраться в Испанию. В Париже он, между прочим, мог рассчитывать и на некоторую популярность; там отчасти уже знали его по корреспонденциям из России, в особенности по критическим отзывам Генриха Мериме (брата известного Проспера Мериме)[19]. Там познакомился он со знаменитым Гектором Берлиозом и сошелся с ним весьма близко. Нужно сказать, что в это время Берлиоз и его музыка были предметом самых горячих и разноречивых толков как во Франции, так и за границей. Мнения публики и специалистов разделились очень резко: иные восторгались новой музыкой Берлиоза безусловно, другие же, и притом большинство, столь же решительно бранили ее и отвергали всякое значение музыкальных идей французского композитора. Нужно было время, чтобы новая музыка завоевала себе права гражданства и общее признание. Поэтому особенно интересным представляется тогдашнее мнение о ней Глинки. Он вполне на стороне Берлиоза, художественное чутье ни на минуту не обмануло его, и он оказался одним из первых ценителей, правильно и по достоинству определивших значение творчества этого композитора. Вот небольшая выдержка из письма Глинки к Н. В. Кукольнику из Парижа от 18(6) апреля 1845 года: «Самая примечательная для меня встреча, это, без сомнения, с Берлиозом; изучить его произведения, столь порицаемые одними и столь превозносимые другими, было одним из моих музыкальных предположений в Париже… Я не только слышал музыку Берлиоза в концертах и на репетициях, но сблизился с этим первым, по моему мнению, композитором нашего века (разумеется в его специальности)… И вот мое мнение: в фантастической области искусства никто не приближался до этих колоссальных и вместе всегда новых соображений. Объем в целом, развитие подробностей, последовательность, гармоническая ткань, наконец, оркестр могучий и всегда новый – вот характер музыки Берлиоза…»
Что касается французского композитора, то нужно отдать ему справедливость, – он также оценил по достоинству гений Глинки и старался познакомить французскую публику с его сочинениями. Так, в марте 1845 года он дал несколько концертов, в которых исполнил между прочим некоторые из наиболее нравившихся ему произведений Глинки, например каватину из «Жизни за Царя», «В поле чистое гляжу», лезгинку и пр. Музыка Глинки имела успех, «succès d’estime»[20], как скромно называет его Глинка, и, ободренный им, наш композитор решился в апреле 1845 года дать свой концерт. На этот раз исполнены были в числе других произведений краковяк из «Жизни за Царя», марш Черномора из «Руслана», «Вальс-фантазия» (H-moll) и пр.
Зал был полон, аплодировали очень много, и хотя по этим немногим произведениям Глинки парижская публика не могла, конечно, составить себе ясное представление о размерах таланта нашего композитора, он все-таки имел успех и музыка его несомненно понравилась слушателям. Вслед за тем во многих солидных журналах, например в «Journal des Débats», в «Révue britannique», появились сочувственные отчеты и отзывы о Глинке и его концерте. Особенно обстоятельно писал Берлиоз, присоединивший к своей статье и краткую биографию своего музыкального собрата. Приязнь и добрые отношения обоих композиторов, таким образом возникшие, сохранились и в последующее время; они понимали и ценили друг друга…
Однако в Париже Глинка оставался не долго. Его влекло в Испанию, о которой он мечтал давно, чуть ли не с самого детства, и, пользуясь благоприятным случаем, в середине мая 1845 года он переправился через Пиренеи. Новые люди, новая природа, вся новая обстановка и мягкий климат, особенно благоприятный для болезненного организма Глинки, – все это оказало на него самое благотворное действие, и тяжелое настроение, не покидавшее его со времени неуспеха «Руслана», стало заметно светлее. В Испании он прожил более двух лет и побывал во многих испанских городах, везде изучая народные нравы, жизнь и в особенности национальные песни. Его особенно интересовали именно простонародные песни и характерные испанские танцы. Иногда случалось, что он просто останавливал какого-нибудь типичного простолюдина, и если оказывалось, что тот умеет петь или плясать, то Глинка зазывал его к себе, угощал, слушал и таким образом знакомился с народной поэзией в самом ее источнике. Но в Испании же всего яснее определилась, по нашему мнению, новая роль Глинки как только наблюдателя. В самом деле, за два года пребывания в этой стране он успел написать лишь известную «Арагонскую хоту» и «Ночь в Мадриде».







