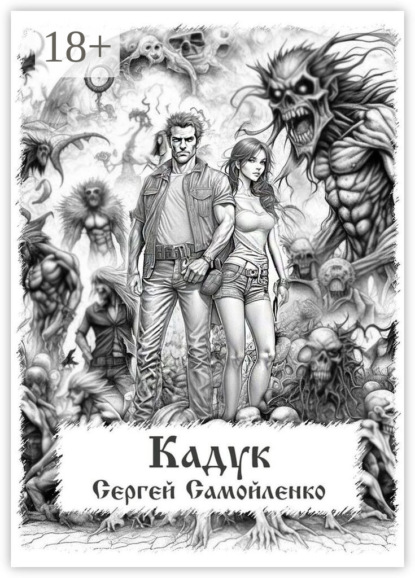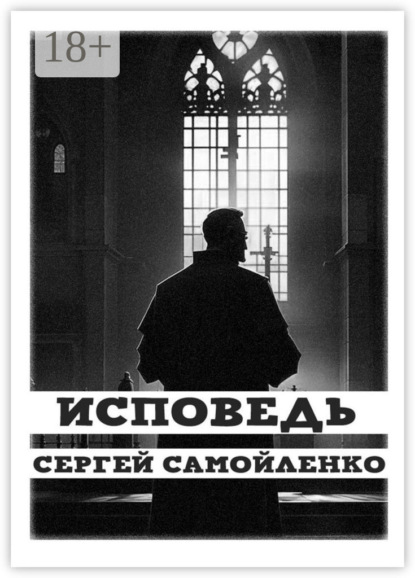Полная версия:
Сергей Самойленко Чердачок ужасов
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
– Может быть, – усмехнулся Патрик. – Но в тот момент мне было всё равно. Хоть сам Сатана – я бы не отступил. Эту женщину я хотел, как никого прежде.
Он осушил кубок до дна, шумно втянул воздух и довольно бодро поднялся. Схватил бутылку со скамьи, наполнил кубок и усмехнулся – коротко, с хитринкой, как человек, который знает больше, чем говорит.
– Мой дорогой Артур, – сказал он, – всё-таки сумел согрешить несколько раз с этой девушкой. Я узнал об этом случайно, но, признаюсь, не удивился. Скорее – восхитился. Он оказался хитрее, чем я думал. В нём появилась уверенность, лёгкость. Он светился. Был словно другой человек. Хотите ещё вина?
– Нет, спасибо, – покачал головой журналист. – Лучше скажите, как вы об этом узнали?
Патрик хмыкнул:
– О, всё раскрылось в лучших традициях дешёвой мелодрамы.
Он поставил бутылку обратно на скамью и задумчиво покрутил кубок с вином, слегка опустив взгляд. Через мгновение он перевёл взгляд на журналиста.
– Представьте: воскресная служба, полный храм, прихожане молятся. И вдруг двери распахиваются – входит та самая девица. Лицо ясно и выразительно, глаза полны дерзости, в руке – тест на беременность. Она подходит прямо к Артуру и громко, на весь храм, заявляет, что беременна от него.
Журналист широко раскрыл глаза.
– Да, – кивнул Патрик, – представляете, что началось? Вздохи, ахи, крики. Люди вставали и уходили, крестились, а кто-то просто стоял с широко раскрытыми ртами. Всё рушилось на глазах. А я… – он тихо рассмеялся, – а я радовался. Смотрел на Артура, потерявшего дар речи, и радовался. Потому что он наконец стал человеком. Потому что в нём жила страсть. Потому что он перестал быть идолом и снова стал живым. Наконец-то он понял, что смысл жизни – не только проповеди и правила, но и то, что за каждым поступком скрывается свой маленький человеческий хаос.
– Но почему она сделала это? – спросил журналист. – Разве не понимала, что разрушит его карьеру и жизнь?
– Понимала, – ответил Патрик. – Но вы недооцениваете отчаявшуюся женщину. Она знала, что Артур решил расстаться с ней, говорил, что не может жить во грехе, но и жениться не вправе. А она решила иначе. Когда узнала, что беременна, то просто не оставила ему выбора. Хотела заставить его быть рядом, во что бы то ни стало.
Он налил себе ещё немного вина, сделал глоток.
– Скандал был огромный. Артур потерял всё: сан, уважение, привычную жизнь. Он покинул храм, и те, кто ещё вчера называл его святым, отворачивались, словно его никогда и не существовало. Люди, которым он доверялся, перестали звонить, перестали здороваться, а его собственные мысли стали тяжёлыми и пустыми. В этом мире нет справедливости. Сначала тебя обожают, все благоволят к тебе, но стоит человеку перестать соответствовать законам и порядкам, которые навязывает общество, – и он мгновенно становится изгоем. При этом он ничего ужасного не совершил, всего лишь пытался быть счастливым, поддавшись естественным человеческим потребностям.
Патрик вздохнул и, глядя в глубину храма, продолжил.
– Артур стал… плотником, – Патрик усмехнулся, но в его улыбке скользнула лёгкая грусть. – Как Сын Божий, ирония судьбы.
Но жизнь его не задалась: заказов почти не было, денег хватало лишь на самое необходимое. Каждое утро он вставал и стучал молотком, будто пытаясь пробиться сквозь собственное разочарование. Я иногда навещал его, приносил продукты, помогал чем мог, наблюдая, как он молча работал, без прежнего блеска в глазах. Казалось, всё потихоньку приходит в норму, будто время залечивает раны. Но судьба решила иначе: маленькие надежды рушились одна за другой, а мир, казалось, продолжал напоминать ему о том, что прошлое не отпускает так легко.
Патрик на мгновение замолчал. Голос его стал тихим, будто выхватывал слова с трудом.
– Артура стали преследовать новые несчастья… Ребёнок родился мёртвым. У жены случился нервный срыв, её отправили в лечебницу. Артур сломался. Пил, обвинял себя, бормотал, что это кара Божья. Отказывался говорить со мной, не отвечал на звонки. Я беспокоился. Поехал к нему. И… – Патрик медленно выдохнул, взгляд устремился в сторону, словно пытаясь отвести глаза от воспоминаний. – Нашёл его повешенным. На виселице, которую он сделал своими руками.
Патрик допил вино и опустился на скамью. Рука дрогнула – кубок выскользнул из пальцев, покатился по полу, глухо звеня и теряясь под скамьями.
Тишина, наступившая после, казалась осязаемой, словно сама комната затаила дыхание. В ней отчетливо было слышно, как где-то под куполом скрипнула старая балка, как капля воска сорвалась со свечи и тихо ударилась о пол.
6
– Святой самоубийца обрёк себя на вечные муки в аду, – холодно произнёс журналист, едва скрывая торжество.
Патрик поднял глаза, и в них вдруг мелькнуло что-то такое, от чего молодому человеку стало не по себе.
– В аду или не в аду!.. – рявкнул он, опершись на скамью. – Что вы вообще знаете про ад и рай?!
Голос старого священника прозвучал неожиданно громко, с хрипотцой, будто из глубины. Эхо ударилось о своды и вернулось глухим отголоском.
Журналист пожал плечами, пытаясь сохранить спокойствие:
– Я лишь констатирую очевидное.
– Очевидное?! – Патрик зло усмехнулся. – Вы пришли к священнику и ждёте проповеди о любви к Богу? Что вы вообще хотите услышать, юноша? Исповедь, покаяние, святую ложь?
Он попытался встать, но тело не слушалось – от выпитого вина кружилась голова. Священник опустился обратно на скамью, тяжело дыша.
Журналист, напротив, словно приободрился.
– Я услышал всё, что хотел, святой отец, – в его голосе звучало злорадство. – И даже больше. Ваши откровения станут сенсацией.
Он усмехнулся, глядя прямо в глаза Патрику:
– Эталон непорочности нашего города оказался обыкновенным грешником. Знаете, такие истории читаются лучше любых проповедей. Газеты это обожают, а публика будет ликовать – она ведь любит, когда падают те, кто стоял слишком высоко.
Патрик побледнел.
– Вы… что вы несёте?..
– Кстати, вы спрашивали, почему я не записываю, – с насмешкой перебил журналист. – Всё просто: за меня работал мой маленький друг.
Он неторопливо поднялся, расправил полы пиджака и достал из внутреннего кармана диктофон. Остановив запись, он ехидно улыбнулся – слабое, еле уловимое жужжание стихло, и тишину храма вновь заполнил лишь трепет свечей, отражавшихся в металлическом корпусе устройства.
– Вот он, свидетель ваших грехов, святой отец, – прошипел журналист, помахивая прибором перед его лицом.
Патрик резко потянулся, пытаясь выхватить диктофон, но не удержал равновесия и рухнул на каменный пол. Звук удара глухо разнёсся под сводами.
– Вот видите, – продолжил журналист, глядя сверху вниз, – Всевышний уже карает вас. За распущенный язык, за лживость, за все ваши мерзости. Я знаю, вы больны. Смертельно. Вам осталось всего несколько дней. И проведёте вы их в унижении, когда все отвернутся.
Патрик, тяжело дыша, поднял голову. В глазах его стояли слёзы.
– За что вы так поступаете со мной?..
– За что? – усмехнулся журналист. – За правду, святой отец. Ваша растоптанная репутация вознесёт мою карьеру до небес. Я даже не ожидал, что смогу раздобыть такой материал. Но интуиция подсказала, что именно сегодня стоит навестить умирающего священника. И, как видите, я не ошибся.
Он присел и, наклонившись почти вплотную к лицу пожилого священника, прошептал:
– Всевышний ждёт-не дождётся вашей души на Страшном суде… если, конечно, Он вообще существует.
Молодой человек выпрямился, самодовольно усмехнулся и направился к выходу.
Всё казалось конченым.
Но едва он подошёл к дверям, как вдруг из темноты дверного проёма выступила массивная тень.
Журналист остановился. Из тени шагнула чёрная немецкая овчарка. Её шерсть блестела в лунном свете, зубы поблескивали, а низкое рычание прорезало тишину.
Он инстинктивно попятился.
– Вы спрашивали про собаку, которую мне когда-то подарил отец… – голос Патрика раздался за спиной, гулкий, уже без слабости. – Так вот, познакомьтесь. Это Джек.
Журналист резко обернулся – и замер.
Патрик стоял на ногах. Прямо. Уверенно. Взгляд твёрдый, дыхание ровное. В нём не было и следа болезни.
– Но как?.. – успел только выдохнуть журналист.
Но ответ утонул в кашле. Резкая боль пронзила грудь, будто сердце сжали в тисках. Он зашатался, упал на колени, пытаясь вдохнуть, но воздух не входил в лёгкие.
– Удивительно, правда? – Патрик подошёл ближе, присел рядом. Его голос был тих, почти ласков. – Вы думали, что я при смерти. Но, как видите, я абсолютно здоров. Совершенно.
Он наклонился к уху журналиста и прошептал:
– А вот вы… —
Собака приблизилась, встала рядом.
Журналист судорожно хватал воздух, глаза его стекленели.
– Хороший мальчик, – сказал Патрик, поглаживая Джека по голове. – Да, это тот самый пёс. И, представьте, он всё ещё жив.
Он улыбнулся – устало, спокойно.
– Но не спешите удивляться. Самое интересное… – он поднял взгляд, в котором сверкнул неестественный блеск, – впереди.
7
Патрик опустился на пол рядом с молодым человеком, который лежал, судорожно хватая ртом воздух, будто из церкви внезапно исчез весь кислород. В узких витражах ещё дрожал огонь свечей, и их отражения плясали по каменным стенам, будто молчаливые свидетели происходящего.
– Накануне моего дня рождения, когда мне вот-вот должно было исполниться девять, – заговорил Патрик тихо, но голос его всё равно гулко отозвался под сводами храма, – отец, под одобрительные крики изрядно подвыпившей мачехи, избил меня так, что я едва стоял на ногах. Всё из-за пустяка – показалось им, будто я отрезал себе чуть больший кусок хлеба, чем полагалось. От боли я не мог заснуть всю ночь. Я ненавидел их. Ненавидел до дрожи, до боли в зубах. И желал одного – чтобы они исчезли. Навсегда.
Он опустил взгляд, потом снова поднял глаза – взгляд был холодным и тусклым, будто в нём погасла свеча.
– Когда отец подарил мне щенка, – продолжил он, – моя ненависть будто рассеялась. Щенок был моей первой радостью, моей отдушиной. Но потом отец вернулся, чтобы забрать его. И всё вернулось. Только сильнее. Помните, я говорил, что, отбиваясь, дотронулся до руки отца? – он сделал паузу и посмотрел на журналиста. – Уже меньше чем через десять минут он бил молотком по мёртвому телу своей жены.
Он тихо засмеялся – хрипло, неестественно, словно кашель души.
– Необычный поворот, не правда ли? Иногда желания становятся реальностью, стоит лишь пожелать их достаточно сильно.
Патрик похлопал журналиста по плечу. Тот, не в силах ответить, хрипел, хватая воздух.
– Сейчас вы лежите передо мной и не можете сказать ни слова, – мягко произнёс Патрик. – Возможно, вы не совсем адекватно воспринимаете то, что я рассказываю. Пожалуй, стоит немного облегчить ваши мучения.
Он вновь коснулся плеча молодого человека. В глазах журналиста читались растерянность и страх. Тот судорожно вдохнул, затем ещё и ещё, и наконец смог выдавить слова:
– Как… как вы заставили отца убить мачеху? Как вы его контролировали? Вы… дьявол!
Патрик усмехнулся.
– Ну что вы, какой же я дьявол. Самый обыкновенный человек – мне нужны еда, сон, немного развлечений… и я, поверьте, могу умереть, как любой другой. Более того, перед тем как вы вошли, я уже был готов умереть. Смирился. Даже воспринял это как должное, как наказание…
Он замолчал, глядя куда-то поверх головы собеседника, словно вспоминая что-то далёкое.
– Знаете, почему? – тихо продолжил он, чуть опуская взгляд. – Потому что чувство вины не отпускает меня все эти годы. Оно живёт во мне, как тень, как тяжёлый камень, который не сдвинуть. Даже сейчас не даёт покоя. Я до сих пор корю себя за смерть… за самоубийство моего единственного друга. Единственного, если не считать пса Джека.
При упоминании имени, собака приподняла голову, глухо фыркнула и слегка повиляла хвостом.
– Хороший мальчик, – сказал Патрик и на мгновение улыбнулся, почти по-человечески тепло. – Я расскажу и его историю, она заслуживает упоминания. Но, думаю, вас сейчас больше интересует другое – почему я виню себя в смерти Артура.
Он наклонился ближе, голос стал глухим, будто выговорить это было трудно:
– Всё просто. Эту семью погубили моя зависть и похоть. Я уже говорил, что возжелал ту женщину, как никакую прежде. Не душой, не сердцем – телом. Это было чувство тёмное, липкое, как грех, от которого невозможно отмыться. Когда я узнал, что Артур был с ней, меня захлестнуло что-то дикое. Гнев – убийственный, ослепляющий, смешанный с лютой завистью, от которой перехватывало дыхание. Всё внутри будто воспламенилось. Зависть разливалась по венам медленно, как яд, проникая в каждую мысль, и вскоре я уже не понимал, где кончается чувство, а где начинается грех.
Патрик посмотрел прямо в глаза журналиста – в них всё ещё метались страх и непонимание. Тот приоткрыл рот, будто собираясь что-то сказать, но священник не дал ему и слова вставить, продолжив свой рассказ.
– А ведь Артур был счастлив, понимаете? Его вера не угасла, он не винил её за то, что потерял сан. Он считал, что именно она открыла ему глаза на жизнь. Что до встречи с ней он был глух и слеп, а теперь прозрел.
Патрик выпрямился и заговорил чуть громче, чтобы молодой человек мог отчётливо его слышать.
– Но зависть одного человека способна разрушить целые миры, – тихо произнёс он. – Я приходил к ним, приносил продукты, помогал по дому, улыбался… а внутри всё кипело: ревность, ненависть, которую я не мог побороть. Тайно я желал, чтобы их счастье оборвалось, чтобы всё это кончилось. Без жалости, без сострадания – лишь холодное, жестокое удовлетворение.
Он глубоко вдохнул, словно ныряя в память.
– Я обманул вас, – тихо произнёс Патрик, словно каждое слово давалось ему с болью. – Когда говорил, что Артур отказывался со мной говорить и не отвечал на звонки… это была ложь. Он звонил. Просил приехать. Голос дрожал, я помню – в нём было что-то детское, отчаянное. Я обещал, но не приезжал. Потом просто не поднимал трубку, а когда он стал особенно настойчивым – отключил телефон. Я не знаю, что на меня нашло в тот момент, почему я так поступил… Наверное, я тайно хотел, чтобы он страдал. Всё, что с ним происходило – преданность профессии и вере, всеобщее признание, любовь этой девушки – я видел и ощущал это, и зависть медленно съедала меня изнутри. Я был его другом и соратником, но всегда оставался позади, всегда в тени его славы и регалий. За годы всё это накопилось, слилось в комок зависти и злобы, и когда мой друг отчаянно нуждался в моей помощи, я отвернулся.
Патрик втянул воздух, ощущая, как прошлое обрушивается на него, плотным, давящим потоком.
– Я позвонил где-то через неделю – Артур не ответил. Когда я пришёл к нему домой, нашёл друга в мастерской: он висел на деревянной виселице, которую сам смастерил – аккуратно, добротно; видно было, что работа не на скорую руку. Артур, в полном отчаянии, пытался встретиться и поговорить со мной, и одновременно готовил для себя смертельную конструкцию. Судя по всему, он пролежал там несколько дней: тело начинало разлагаться, запах стоял невыносимый, воздух был густым и липким, словно сама смерть застыла в помещении. Я стоял и смотрел на него – и в одно мгновение всё понял. Понял до последней мерзкой мелочи.
Он замолк, и только редкие вздохи журналиста нарушали тишину.
– Я молился, ночи напролёт, – прошептал Патрик. – Но ни одна молитва не принесла облегчения. Вина не уходит, если корни её в самом сердце.
– Вы… чудовище, – прохрипел журналист, с трудом приподнимая голову. – Как такой человек может быть священником?!
Патрик посмотрел на него долгим, бездонным взглядом – в нём не было ни злобы, ни сожаления, только уставшее принятие.
– Возможно, именно поэтому, – тихо ответил он. – Только чудовище по-настоящему знает, что такое покаяние.
– Я никогда не стремился посвятить свою жизнь служению церкви, – тихо произнёс Патрик, устало опуская взгляд. – Мне всегда претили скучные проповеди и бесконечные нравоучения. Я хотел жить обычной жизнью – с женщинами, весельем, шумом, вином… В какой-то момент я даже думал оставить службу, но смерть моего друга перевернула всё.
Он замолчал, будто вновь переживая тот день, потом заговорил медленнее, отрывисто:
– Это была моя первая служба после смерти Артура. Я был разбит, но обязан был провести её достойно. После службы ко мне подошла молодая женщина – прихожанка, скромная, с уставшими глазами. Она попросила исповеди. Рассказала, что у неё двое детей, но жить ей осталось не больше месяца: врачи вынесли приговор. Она слышала, что когда-то в этой церкви служил священник, чудесным образом исцелившийся, и пришла в надежде, что он поможет и ей.
Патрик провёл рукой по лицу, словно отгоняя воспоминание.
– Я не стал рассказывать ей о трагической судьбе Артура. Просто пытался успокоить. Сказал, чтобы верила в лучшее, чтобы шла домой к детям. И, прощаясь, приобнял её – просто, по-человечески. Мне хотелось хоть как-то помочь этой женщине.
Он вздохнул.
– А когда она ушла, я почувствовал, что что-то не так. Сначала лёгкое головокружение… потом кровь из носа. Ручьём. Голова будто раскалывалась. Я потерял сознание прямо у алтаря. Очнувшись, понял, что едва держусь на ногах. Вытер кровь, накинул пальто и пошёл домой.
Патрик чуть усмехнулся, но в его усмешке не было радости:
– В переулке на меня напал грабитель. Пьяный, грязный, с ножом в руке. Требовал кошелёк. Я помню запах – перегар и тление, резкий и удушающий, словно сам воздух наполнялся угрозой. Он шарил по моим карманам, а я, собрав последние силы, схватил его за руку… и вдруг – будто что-то перелилось из меня в него. Я почувствовал странное облегчение. Боль ушла. Сознание прояснилось. А он… он рухнул на землю, корчась в муках.
Журналист слушал, широко раскрыв глаза. Патрик продолжил, глядя в никуда:
– Я смотрел на него и не чувствовал ничего. Ни жалости, ни страха. Только понимание: я владею чем-то, что не принадлежит людям. Даром. Или проклятием. Именно я, не Артур, исцелил его тогда, в приюте. Просто не осознавал этого. Я забрал его болезнь и передал другому.
Патрик сделал паузу, будто пробуя слова на вкус.
– Мне нужно было решить, как поступить с этим… даром. И я выбрал помогать. Хотя «помогать» – понятие растяжимое. Я научился чувствовать людей – их намерения, мысли, тьму внутри. Я чувствую, кто пришёл с добром, а кто с ядом в сердце. Могу передать энергию – исцеляющую или разрушительную. Всё зависит от моего состояния.
Он провёл рукой по груди, словно ощущая что-то внутри.
– Я могу забирать болезни, впитывать их в себя. Но если не передам их другому – умру. Болезнь развивается во мне медленнее, я научился сдерживать её. Я спасал хороших людей, отдавая недуг тем, кто этого заслуживал. Преступникам, которых исповедовал перед казнью. Иногда – тем, кто приходил ко мне с фальшивыми молитвами и злом в душе.
Журналист с трудом поднялся, лицо его побледнело.
– Вы… вы взяли на себя роль Бога! – выкрикнул он. – Кто позволил вам решать, кто достоин жить, а кто должен умереть?!
Патрик устало улыбнулся.
– Я просто воспользовался тем, что мне дано. И не ради выгоды, не ради славы. Этот мир несправедлив, и своими действиями я пытался хоть немного исправить его, уравновесить зло, – голос его стал тише, но в нём звучала сталь. – А ведь многие на моём месте сделали бы куда хуже.
– Это негуманно! – выкрикнул журналист, дрожа.
– Успокойтесь, – Патрик поднял ладонь. – Мне странно слышать слова о гуманности именно от вас.
Он достал из внутреннего кармана сложенную утреннюю газету, развернул и поднёс ближе к лицу журналиста. На первой полосе чёрным шрифтом кричал заголовок: «Убийца на свободе». Под ним – фотография молодого человека, лежащего сейчас на церковном полу.
– Узнаёте? – спросил Патрик холодно. – Конечно узнаёте. Вам ведь наплевать, что пишут. Скандальный журналист, разоблачитель, король грязных сенсаций. Вы нажились на чужих страданиях. Вам нравится растаптывать людей. И сюда вы пришли ради очередной статьи.
Он слегка склонил голову, взгляд стал пронзительным.
– Хотя вы пытались казаться дружелюбным, я сразу ощутил присутствие зла, заметил эту маску на вашем лице, а за ней – черноту порока. Внутреннее чутьё подсказывало мне довести дело до конца. Я пытался вспомнить, где встречал вас раньше, и, когда пошёл за вином, на своём столе обнаружил утреннюю газету с вашим фото. – Напиться и сбить беременную женщину! Она до сих пор в реанимации, потеряла ребёнка, а ваши деньги и связи купили вам свободу от наказания.
Патрик наклонился к молодому человеку, его голос обрел холодную тяжесть:
– И вы ещё смеете говорить мне о гуманности?..
Журналист попытался вскочить, но ноги подкосились.
– Я ещё доберусь до тебя! – прохрипел он и метнулся вперёд.
– Ну-ну, полегче, дружок, – Патрик перехватил его руку. Журналист вскрикнул, тело его выгнулось от боли.
– Я могу сделать так, что боль уйдёт… или станет невыносимой, – прошептал Патрик, и на лице его появилась усталая усмешка. – Всё зависит от твоего поведения.
Он поднял голову, всматриваясь в полумрак, освещённый колеблющимся огнём свечей.
– Странная штука – жизнь, – сказал Патрик, голос его стал тихим, почти шёпотом, будто он говорил не собеседнику, а кому то невидимому. – Я был готов уйти из неё тихо, оставить свой недуг при себе, не передавая никому. Думал, это станет моим последним искуплением, моим молчаливым ответом на всё.
Он на мгновение замолчал, встретившись взглядом с журналистом.
– И вдруг появился ты. Не знаю, случайно ли… Может, тебя послали свыше – как знак, как напоминание, что там, наверху, ещё не поставили точку. Что мне пока не время уходить. Что ещё осталась моя часть пути, которую нужно пройти. Думаю, тебе понравилась моя исповедь: занятная, поучительная… и главное – настоящая.
Он засмеялся – глухо, страшно. Смех покатился по каменным стенам, отражаясь эхом, будто кто-то другой, невидимый, смеялся вместе с ним.
Журналист вжался в холодный пол, а из его глаз смотрел не человек – один лишь ужас.
8
Патрик потрепал овчарку по голове и задумчиво произнёс:
– Пожалуй, я не стану тебя убивать.
Лицо журналиста на мгновение озарилось надеждой – короткой и хрупкой, как пламя свечи.
– Нет, не стану, – продолжил Патрик, и в его голосе скользнуло что-то тёплое и страшное одновременно. – У меня есть более интересная идея. Видишь Джека? – он ещё раз мягко погладил пса, и тот радостно завилял хвостом. – Ты, наверное, удивлён, что он жив до сих пор – собаки столько не живут. Отец подарил мне не овчарку, а чёрного спаниеля. Когда меня забрали в приют, монахи-воспитатели разрешили оставить пса. Они вели натуральное хозяйство и считали, что общение с животными помогает детям развивать чувство ответственности и доброту к ближнему. У нас было несколько собак, кошек и другой домашней живности.
– Каждый раз, когда у меня появлялась свободная минутка, – продолжал Патрик, – я навещал Джека и играл с ним. Один из воспитателей даже научил меня, как дрессировать пса, и я потратил много времени на тренировки. Джек вырос умным и добрым – настоящим другом, который всегда рядом.
Потом наступило время – и для собак оно тоже приходит. Джек лежал на земле, с трудом мог поднять голову. Я только недавно потерял Артура. Мне было больно от мысли, что потеря второго друга сломает меня. Я уже знал о своём даре – знал, что могу брать и отдавать болезни, но как помочь животному против старости, понять не мог.
Он прижался ко лбу собаки, и в его голосе прозвучала какая-то детская жалость:
Я сидел на траве и гладил Джека, когда вдруг раздался громкий, пронзительный лай. Сердце сжалось – я обернулся и увидел, как на меня мчится огромная овчарка, шерсть которой развевалась в воздухе, а глаза горели агрессией. Я инстинктивно выставил руку – готовый к удару зубов.
В тот момент, когда всё казалось решённым и боль уже должна была настичь меня, собака внезапно притормозила, прыгнула прямо ко мне и обрушила на лицо бурю радостного лизания. Я отшатнулся, смех и испуг смешались в горле.
И тут старина Джек, обычно тихий и покладистый, внезапно оскалил зубы, рыкнул и попытался меня укусить.
Патрик улыбнулся, но в улыбке не было радости.
– Теперь вы понимаете, какие у меня планы? – произнёс он. – — Я уже опробовал этот трюк несколько раз… правда, только на собаке. Но почему бы не попробовать и на себе? Хуже точно не будет.
Журналист сжался ещё сильнее, наблюдая, как рука связенника медленно тянется к нему. Он инстинктивно вжался в пол, прищурился, не в силах сопротивляться, и в тот момент, когда пальцы священника коснулись его, мир вокруг словно закружился и перевернулся несколько раз.