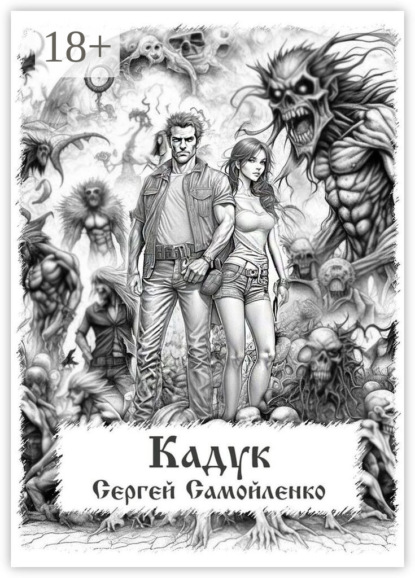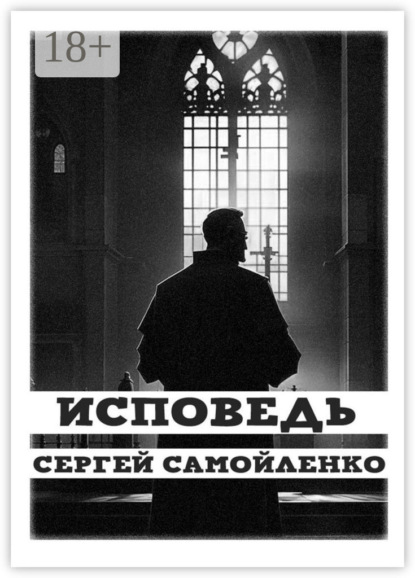Полная версия:
Сергей Самойленко Чердачок ужасов
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт
Дверь закрылась. Начались крики, потом – глухие удары. Сначала один, потом другой. Потом – тишина. И только тихие, влажные звуки за стеной.
– Я помню, как стоял на ступеньках, – голос Патрика стал тише, он почти шептал. – Мне было страшно даже дышать. Когда дверь открылась, на пороге стоял отец. В руке – молоток, с которого стекала кровь. Он улыбался. Впервые в жизни – по-настоящему.
Патрик закрыл глаза.
– Он сел рядом и потянулся за щенком. Я не мог пошевелиться – воздух вокруг сжался, и время будто остановилось. Да, отец был пьяницей и дебоширом, но я никогда не думал, что он способен на такое. Что произошло в его голове? Почему обычная, привычная ссора – крики, угрозы, которые звучали здесь каждый день – вдруг превратились в что-то невообразимо жестокое, заставившее его схватить молоток и улыбнуться этому ужасу?
Он вздохнул.
– Я посмотрел на его улыбку, на окровавленные руки, тянущиеся в мою сторону, и сорвался с места, бросившись бежать. На мгновение я обернулся. Отец всё так же сидел на пороге, добродушно улыбаясь. Но в его взгляде скользило нечто новое: глаза были живыми и одновременно пустыми. Мне показалось, что передо мной уже не мой отец – им словно кто-то управлял изнутри.
На некоторое время Патрик замолчал. В храме стояла почти осязаемая тишина. Где-то высоко под куполом едва слышно скрипнула древесина.
– Вы хотите написать репортаж, но ничего не записываете, – сказал наконец священник, глядя на незнакомца. – Вы всё запоминаете?
Журналист не ответил. Его голос прозвучал спокойно, почти мягко:
– Вы сказали, что вашим отцом кто-то управлял. То есть вы действительно считаете, что в него вселилась некая сила?
– Я не знаю, – медленно произнёс Патрик. – Я был ребёнком и многое мог придумать. Но одно я знаю точно: всё это не было случайностью. Мой отец не был убийцей. Он… просто перестал быть собой.
3
– Святой отец, ваш рассказ о детстве… очень драматичный. Но, думаю, именно эти ужасные события не могли стать единственной причиной, побудившей вас к служению. Скорее, они стали лишь частью пути, толчком. Ведь ваша вера в Бога… – молодой человек вдруг закашлялся, громко, с усилием, словно в груди что-то зазвенело.
– С вами всё в порядке? – обеспокоенно спросил Патрик.
– Да, всё хорошо. В горле запершило, – ответил журналист, чуть улыбнувшись. – На улице ветер, наверное, продуло немного.
– Такое случается, – кивнул Патрик. – Пожалуй, вы правы. События детства – лишь малая, но неотъемлемая часть моей жизни, которая действительно подтолкнула меня к выбору. Я тогда убежал от отца, спрятался в лесу и просидел там всю ночь. Ближе к утру меня нашли полицейские – я спал, прижимая щенка к себе. Не помню точно, что они говорили, всё было как в тумане, обрывками. Из их разговора я понял, что отец сам вызвал полицию. Он раскаивался. Когда они приехали, он сидел на полу, плакал, обнимал тело жены и не мог понять, как такое вообще произошло.
Отеца арестовали, а меня определили в сиротский приют при монастыре. Надо сказать, это была не самая худшая часть моей жизни. Три приёма пищи в день и отсутствие страха – тогда это было для меня почти чудом. После голода, побоев и грязи, дом с чистой постелью и тёплой едой казался раем.
Так как приют находился под покровительством церкви, нас обязывали изучать Священное Писание. Сначала это казалось скучным, утомительным занятием – бесконечные чтения, молитвы, наставления. Иногда мне хотелось сбежать, снова спрятаться в лесу, где было тихо, где не звучали чужие голоса.
Патрик посмотрел на журналиста и усмехнулся:
– Не ожидали, да? Думали, священники с детства только и делают, что молятся и учатся смирению?
Он тихо рассмеялся и покачал головой.
– Но, признаться, несмотря на строгость воспитания, монахи относились к нам с удивительной добротой. Это были терпеливые люди, которые понимали: мы – всего лишь дети, и за нашими срывами скрывалась не злость, а боль прошлой жизни.
Патрик на миг задумался, потом сказал:
– Был один случай. Очень странный, я помню его до сих пор. Тогда я держался особняком, но вскоре подружился с одним мальчиком. Всё произошло как-то естественно, без слов. Его звали Артур. Мы были ровесниками. О своих родителях он помнил немного – лишь то, что однажды они ушли из дома и не вернулись. Артур был прилежным, богобоязненным, настоящим примером для других. Он словно родился с молитвой на губах. Библию знал почти наизусть и любил цитировать её при каждом удобном случае.
Сначала это раздражало, – Патрик усмехнулся, – но потом я привык. Он был хорошим другом.
– А что со щенком? – вдруг перебил журналист. – Вы так и не сказали, что стало с собакой.
Патрик удивлённо посмотрел на гостя.
– Простите, святой отец – виновато произнёс тот, – просто, когда вы заговорили о друге, я почему-то вспомнил про собаку. Не должен был перебивать.
– Ничего, – мягко ответил Патрик. – Я не забыл. Обязательно расскажу.
Он сделал короткую паузу, как будто собирался с мыслями, и продолжил:
– Так вот, Артур был добрым мальчишкой, но и в нашем приюте, несмотря на всю религиозность, случались конфликты. Мальчишки остаются мальчишками, даже под присмотром святых отцов. Был у нас один старший парень – Том. Настоящий забияка. Ему грозили переводом в другое училище за выходки и насмешки, но у него был дар – редкий актёрский талант. Он умел каяться так искренне, что ему невозможно было не поверить. Вставал на колени, заламывал руки, рыдал, просил прощения у наставников и Бога. Его прощали – раз за разом.
Патрик тяжело вздохнул.
– А я почему-то видел в нём фальшь. Это ощущалось где-то в подсознании: я понимал, что его слова – всего лишь слова, в них нет ничего искреннего. Слёзы не трогают, слова не значат ничего. Всё ради выгоды. Я подозреваю, что монахи тоже это понимали, но каждый раз давали ему ещё один шанс.
Больше всех от его издевательств страдал Артур. Меня он почти не трогал. Возможно, считал «своим» – я ведь тоже был из неблагополучной семьи, и, быть может, видел во мне отражение себя. Поэтому относился ко мне с пониманием и почти никогда не задирал.
Он задумался, вспоминая.
– Я замечал, что когда мы были вместе с Артуром, Том не решался ударить его, но всегда находил способ уколоть словом – что-то сказать, толкнуть, обидеть. Мы были детьми, не могли дать отпор. У меня в груди копилась злость, тяжёлая и немая, а Артур принимал всё со смирением. Говорил: «Мы должны прощать своих врагов. Это заблудшая душа, и она однажды найдёт путь к свету».
Патрик на мгновение замолчал. В храме стояла густая тишина. Лишь ветер снаружи лениво хлопал створками окон, и казалось, будто кто-то невидимый проходит вдоль стен, слушая их разговор.
– Я помню тот день, – тихо начал Патрик. – Мы с ребятами бегали во дворе, когда Артур вдруг потерял сознание. Всё произошло мгновенно: он упал, будто кто-то выдернул из него силу. Монахи подхватили его и быстро унесли в дом. Суета, крики, тревожные голоса – я стоял в стороне, не понимая, что случилось.
Его поместили в отдельную комнату. Несколько дней я не видел друга: нам строго запрещали к нему заходить. Из разговоров воспитателей я понимал, что ему становится всё хуже. С каждым днём тишина за его дверью казалась всё более зловещей.
Однажды вечером я увидел, как из комнаты вышел доктор. Он что-то тихо говорил настоятелю, я не мог разобрать слов, но по лицу врача, по его опущенным глазам, по жестам рук я понял – всё плохо. Очень плохо.
Я спрятался за угол, стараясь не дышать. Мимо прошёл один из воспитателей, и я расслышал его шёпот:
«Бедняге осталось совсем немного. Пару дней, не больше».
От этих слов у меня внутри всё сжалось. Я отшатнулся, и вдруг почувствовал за спиной чьё-то присутствие.
Это был Том. Он стоял совсем близко, с той самой мерзкой ухмылкой, от которой по коже шёл холодок. Его глаза блестели от злорадства. Казалось, новость о болезни Артура доставила ему настоящее удовольствие.
Том толкнул меня плечом, заглянул за угол, убедился, что никого нет, и, словно ожидая этого момента, направился к двери комнаты Артура. Я кинулся следом.
Когда я вошёл, Том уже стоял у кровати, на которой полусидел Артур. Бледный, ослабленный, он держал в руках крестик и шептал молитву. Голос его был еле слышен, словно ветер в сухих листьях.
– Замолчи, – прорычал Том, и в его словах звучала злоба. – Думаешь, Бог тебя спасёт? Ты умрёшь, понял? Умрёшь, и никто тебе не поможет!
Он произнёс это с таким наслаждением, будто смаковал каждое слово. Артур заплакал, но продолжал молиться.
Я рванулся вперёд, закричал:
– Прекрати! Прекрати издеваться над ним!
Но Том был сильнее. Его кулак ударил меня в живот, и я рухнул на пол, не успев вдохнуть. Воздух вырвался из груди, в ушах зазвенело, а глаза заволокло туманом. Сквозь боль я слышал его смех – короткий, резкий, словно скрежет металла.
Он снова пнул меня, потом ещё раз. Каждое движение отдавалось в теле огнём. Я почти терял сознание, но всё равно слышал голос Артура – он молился всё громче, словно хотел заглушить ненависть.
И вдруг в коридоре послышались шаги. Монахи вбежали в комнату, оттащили Тома, а я остался лежать на полу, сжимая руками живот.
Том, уже стоя в дверях, всё ещё смеялся.
Смеялся, глядя прямо на меня.
– В тот момент, – продолжил Патрик, – я ненавидел его. Ненавидел так, как, наверное, человек способен ненавидеть только один раз в жизни. Вся боль, все унижения, весь страх, накопленный за годы, вырвались наружу. Я хотел, чтобы он исчез. Чтобы перестал дышать.
Священник замолчал. На мгновение воздух в храме словно застыл. Где-то снаружи тихо звякнуло стекло – будто от ветра или от чего-то ещё.
– Потрясающая история, – вдруг произнёс незнакомец. Его голос прозвучал неожиданно громко, почти весело. – Я даже не думал, что вы будете так откровенны.
– Вижу, вас это забавляет, – Патрик посмотрел на него с усталой укоризной.
– Увы, святой отец, – журналист пожал плечами, – сами посудите: ваш благочестивый друг при смерти, а здоровый подонок издевается над ним. Разве это не повод задуматься о справедливости Всевышнего? Вам не кажется, что уже тогда стоило понять – справедливости не существует? И, возможно, посвятить жизнь Богу было… ошибкой?
Патрик нахмурился.
– Простите, вы сейчас пытаетесь убедить меня в том, что вера – заблуждение?
Незнакомец вдруг вскочил и начал ходить из стороны в сторону, словно не мог усидеть на месте. Его движения были нервными, а в глазах – странный блеск, то ли возбуждение, то ли раздражение.
– Нет, – сказал он, остановившись, – не убедить. Но ваша история слишком наглядна, чтобы не признать очевидное: справедливости нет. Всё – случайность. Люди страдают зря.
Он сделал шаг вперёд, почти нависая над священником.
– И ваша вера, святой отец, скорее всего, всего лишь красивая иллюзия.
Патрик медленно поднял голову и спокойно произнёс:
– Мне стоило бы закончить разговор прямо сейчас… Но я этого не сделаю.
Он посмотрел незнакомцу прямо в глаза.
– Знаете почему? Потому что я хочу поставить под сомнение ваше высказывание. И для этого мне нужно закончить рассказ.
После слов священника, журналист опустился на скамью. Улыбка на его лице выглядела выжидающей, почти насмешливой.
Патрик медленно продолжил:
– Тем вечером всё моё тело болело. Я помню, как монахи помогли мне дойти до комнаты, уложили в постель, сделали компресс и дали настой из горьких трав. Жгучий вкус, тепло в груди, и боль понемногу ушла. Я заснул быстро, будто провалился в глубокую яму сна.
Проснулся оттого, что кто-то тряс меня за плечо. В тусклом свете лампы передо мной стоял Артур. Первое, что я подумал – это бред, галлюцинация после побоев. Но, как оказалось, мой друг был совершенно реален.
Он улыбался. Его лицо было свежим, глаза блестели, а дыхание ровное – будто болезни никогда не существовало.
Его внезапное выздоровление потрясло всех. Наставники, врачи, даже самые черствые из воспитателей не могли поверить. Говорили, что это чудо. Он был очень верующим мальчиком, часами молился, и потому все решили, что именно сила молитвы спасла его от смерти. В приюте не утихали разговоры – кто-то шептал, что ему явился ангел, другие уверяли, будто сам Господь коснулся его.
Артур стал местной легендой. Все приходили посмотреть на него, благословить, прикоснуться, как к святыне.
Но чудеса редко бывают без последствий.
К вечеру вспомнили, что весь день никто не видел Тома. Сначала никто не придал этому значения – многие даже облегчённо вздохнули. Однако, когда его наконец нашли, все замерли от ужаса.
Том сидел в тёмном углу пристройки, скорчившись, бледный, с блуждающим взглядом. Он не мог говорить – только сипло дышал и стонал. Казалось, его тело иссохло за один день.
Монахи помогли Тому добраться до комнаты – было видно, что каждое движение давалось ему с трудом и болью. Доктор, тот самый, что лечил Артура, долго не выходил оттуда. Когда всё же вышел, его лицо было белее мела. Увидев Артура, бодро гуляющего по коридору, он покачал головой и прошептал что-то одному из монахов. Я расслышал только обрывок:
«Все симптомы Артура… теперь у Тома. Это невозможно».
Он пытался объяснить случившееся, но сам не верил в собственные слова. Потом только сказал:
«Это чудо, но… не того рода, что описывают в книгах».
Официально объявили, что болезнь не заразна, что нужно лишь наблюдение. Но в приюте все шептались: Бог проявил милость к одному и покарал другого. Так рождались легенды.
Когда стемнело, нас, как обычно, позвали на вечернюю молитву. После неё, один из наставников подошёл к нам с Артуром и сказал, что Том раскаивается, что хочет извиниться и попросить прощения.
Я вспомнил все его издевательства, все унижения и сказал, что не пойду. Но Артур мягко взял меня за руку и тихо произнёс:
«Мы должны простить. Милосердие – это сила, а не слабость».
Я не хотел слушать, но его глаза… В них было столько убеждённой доброты, что я уступил.
Когда мы вошли в комнату, Том лежал на кровати, сжимающий простыню в судорогах. Его губы дрожали, лицо блестело от пота. При виде нас он начал плакать – навзрыд, по-детски. Умолял о прощении, говорил, что наказан справедливо, что чувствует себя чудовищем. Просил Артура помолиться за него, ведь он хочет жить, хоть немного, хоть ещё один день.
Я смотрел на него и не верил. В каждом его слове слышалась фальшь. Всё в нём – интонации, слёзы, дрожь – казалось мне игрой.
Но Артур, светлая душа, подошёл, взял его за руку и стал читать молитву. Голос у него был тихий, ровный, чистый, словно песня.
И вдруг Том резко перестал плакать. Его глаза распахнулись, и, с неожиданной силой оттолкнув Артура, он закричал – страшно, почти звериным криком.
Артур упал, ударился о край кровати, вскрикнул. Том метался, выкрикивал проклятия, обвиняя Артура во всём:
– Это ты! Это из-за тебя! Твои молитвы прокляты! Ты должен был умереть, не я! Верни всё назад!
Он пытался встать, но тело не слушалось. Его трясло от ярости, он шатнулся и снова рухнул.
Я помог Артуру подняться. Он хотел было броситься к Тому, помочь, но я остановил его:
– Не смей, – сказал я. – Он не достоин.
Артур пытался спорить, взывал к состраданию, но я не слушал.
Том лежал на полу, вцепившись пальцами в одеяло. Его губы дрожали.
– Помогите… прошу… – едва слышно произнёс он.
Я стоял в дверях, глядя на него, и внутри всё кипело. Никакого сострадания – лишь холодное, тяжёлое раздражение, будто сама его жалкая слабость вызывала отвращение.
– Все эти годы, – сказал я, – тебе прощали мерзости, издевательства, ложь. Теперь настало твоё время, Том. Время расплаты.
Я вытолкал молящегося Артура за порог и, перед уходом, обернулся к Тому. Взгляд встретился с его глазами, и на мгновение время будто застыло.
– Покойся с миром. Мы… обязательно помолимся за тебя.
Я захлопнул дверь.
4
– И вы совсем не чувствовали сострадания к умирающему? – со странной ухмылкой спросил журналист.
– В тот момент – нет. Только ненависть, – Патрик произнёс это спокойно, но взгляд его был таким тяжёлым, что в нём будто что-то сверкнуло – не гнев, нет, скорее тень давнего воспоминания, от которого не избавиться.
От этого взгляда незнакомец невольно отпрянул, и ухмылка растаяла, словно стёртая рукой.
– Ну, а как же быть с милосердием доброго христианина, помощью ближнему и всепрощением? – спросил он, стараясь вернуть себе уверенность.
– Я простил, – просто сказал Патрик.
В церкви повисла тишина. Лёгкий ветер пробежал по полу, колыхнув язычок свечи у распятия. Журналист подался вперёд, ожидая продолжения, но священник молчал, лишь слегка улыбался, глядя куда-то поверх его головы – будто слушал не его, а чей-то едва уловимый голос за спиной.
Молчание становилось гнетущим. Молодому человеку вдруг стало не по себе. Страх, странный, необъяснимый, медленно поднимался где-то из глубины груди. Ему хотелось встать и уйти, бросить это нелепое интервью и выйти на холодный воздух.
– Кто вы? – тихо спросил он наконец. – Вы действительно священник, посвятивший жизнь церкви?
– Да, я священник, – всё тем же ровным, почти ласковым голосом ответил Патрик.
Он медленно поднялся, подошёл к алтарю, посмотрел на распятие и перекрестился.
– Мой друг Артур всегда говорил, что я хороший человек и достойный служитель. После приюта мы вместе поступили в семинарию, – продолжил он, возвращаясь на место. – А позже оба приняли сан. Артур пользовался огромной любовью прихожан. Люди шли к нему нескончаемым потоком – больные, скорбящие, потерявшие надежду. Все знали его историю: чудесное исцеление, непоколебимая вера, молитвы, творившие добро. Он был для них словно живой святой.
Патрик чуть улыбнулся.
– Любой другой возгордился бы от такого внимания, но не Артур. Гордыня была ему неведома. Он разговаривал с каждым, выслушивал, молился, помогал. Люди находили в нём утешение, силу, веру… а я был его тенью. Помощник святого – звучит неплохо, правда? Хотя сам Артур всегда говорил, что я служу не менее ревностно, чем он. Артур считал меня не только верным другом, но и достойным священником. – Патрик чуть придвинулся к журналисту и тепло улыбнулся. – Думаю, это вполне отвечает на ваш вопрос.
Журналист сглотнул, опуская взгляд.
– Да… Прошу прощения, сам не знаю, почему спросил. Наверное, ваши слова о том, как вы сказали умирающему мальчику… перевернули моё представление о вас.
– Вы полагали, что мы, служители церкви, рождаемся безгрешными и всю жизнь ходим в сияющих нимбах? – усмехнулся Патрик, в его голосе скользнуло что-то усталое.
– Ну… пожалуй, да, – неловко усмехнулся журналист. – Вы упомянули, что к вашему другу приходили многие. Были ли ещё чудесные исцеления?
– Были, – кивнул Патрик. – Но знаете… часто чудо – это не вмешательство свыше. Иной раз оно рождается внутри человека. Чтобы исцелиться, нужно сделать шаг навстречу жизни, а не ждать, пока всё решится само. Священник ведь как врач души – он помогает понять себя, обрести смысл, а не только молиться. Ведь если ты болен – нужно идти к врачу, а не ждать, что Господь всё сделает за тебя.
Журналист прищурился:
– В ваших словах слишком много скепсиса, святой отец. Я ожидал услышать нечто иное – проповедь о безграничной вере.
– Я слишком часто задавал вопросы, чтобы верить без доказательств. В этом мы с Артуром всегда были разными, – мягко ответил Патрик. – Но, пожалуй, расскажу вам ещё одну историю об Артуре.
Он замолчал, глядя куда-то в сторону, словно вспоминая.
– Как-то вечером он попросил исповедовать его. Представьте моё удивление. Человек, олицетворение чистоты и благочестия, вдруг ищет прощения. Конечно, я согласился.
Патрик на мгновение прикрыл глаза.
– Артур рассказал, что беседовал с одной прихожанкой. Молодой женщиной, красивой… и очень одинокой. Он возжелал её – так сильно, что, закончив разговор, едва не потерял рассудок. И, не в силах справиться с желанием, уединился и предался греху.
Журналист приподнял бровь, но не перебивал.
– Он был в ужасе от содеянного, – продолжал Патрик. – Боялся Божьего гнева, страдал, почти плакал, спрашивал, как жить дальше. А я… я был поражён его чистотой. Для него это было преступлением против небес, а для меня – естественное проявление человеческой природы. Я подумал тогда: сколько же нужно силы, чтобы всю жизнь подавлять в себе плоть.
Патрик взглянул на журналиста, в уголках его губ мелькнула тень усмешки.
– Очень любопытно, святой отец, – заметил тот. – С какой лёгкостью вы нарушаете тайну исповеди. Но, видимо, вы хотите сказать, что не осудили Артура за этот грех, а скорее удивились его… невинности?
Патрик тихо рассмеялся, без радости.
– Вы полагаете, что священник не имеет права быть мужчиной? Что плоть ему чужда? – он чуть склонил голову. – Я так не думаю. Иногда, чтобы остаться целым, нужно дать слабости выход.
Он выдержал паузу и сказал почти шёпотом:
– Я тоже искушался. Часто. Иногда покупал любовь. И да, не смотрите так строго – когда кровь кипит, а глаза юных прихожанок сияют, читать проповедь становится почти невозможно. Приходилось снимать напряжение… за пределами храма. Зато на службах я был спокоен и собран, словно ничего не было.
Журналист присвистнул:
– Святой отец, боюсь, слово «святой» в вашем случае требует очень большой скидки. Ваш благочестивый вид – обманчив.
– Кто без греха в этом огромном, порочном мире, мой друг? – Патрик улыбнулся, но в его голосе звучала усталость. – Позвольте, я закончу.
Он снова замолчал, подбирая слова:
– После исповеди я не признался Артуру, что сам давно переступаю черту. Не стал советовать, не стал оправдывать. Возможно, я просто боялся разрушить его веру. А может… хотел сохранить в нём то, чего уже не было во мне самом. Я сказал, что Бог прощает искреннее раскаяние. Он поблагодарил меня и ушёл молиться.
Патрик тяжело выдохнул.
– А я всю ночь не мог уснуть. Меня терзала любопытная мысль – увидеть ту женщину, что заставила святого усомниться в собственном целомудрии.
5
Патрик медленно поднялся, осторожно вздохнул – и вдруг понял, что боль ушла. Где-то в глубине тела будто разлилось странное тепло. Болезнь, казалось, отступила.
– Кстати, у меня есть отличное красное вино, – оживлённо сказал он, чуть улыбнувшись. – Хотите выпить немного?
Журналист пожал плечами, стараясь сохранить лёгкость тона:
– Почему бы и нет? Бокал вина в компании священника не повредит, особенно если этот священник рассказывает такие истории.
– Сидите, сидите, я сам принесу, – махнул рукой Патрик и скрылся в глубине храма.
Через некоторое время он вернулся, держа в руках два старых металлических кубка, потемневших от времени. Разлил густое вино, тёмное, почти как кровь. Протянул один журналисту.
– Попробуйте, – сказал он.
Журналист сделал глоток, покатал вино на языке и одобрительно кивнул:
– Великолепно. С нетерпением жду продолжение вашей истории.
– Что ж, – Патрик чуть улыбнулся. – Итак. Мне не давала покоя мысль о той девушке, что так взволновала моего друга.
Он сел напротив, чуть пригубил вино, потом продолжил:
– И вот однажды Артур врывается ко мне в келью – я как раз готовился к службе, – и почти шепчет, захлёбываясь словами:
«Она здесь, Патрик… она там!»
Он был взволнован, лицо пылало. Я велел ему несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы прийти в себя. Потом мы вышли вместе.
У алтаря стояла она – красивая до такой степени, что взгляд невольно задерживался на каждом изгибе её тела и лица. Её присутствие одновременно манило и тревожило, словно невидимая сила проверяла границы моей выдержки. Улыбка была лёгкой, почти невинной, но взгляд – живой, дерзкий, с тихим вызовом. Каждое движение, каждая деталь облика казались продуманными до последней линии, и сердце невольно ускоряло ритм. Даже я, человек с опытом, почувствовал, как внутренний контроль соскальзывает, уступая место странной смеси восхищения и опасного притяжения.
– Перед такой трудно устоять, – улыбнулся Патрик. – Пожалуй, и я сам не против был бы согрешить с ней. И не один раз, – добавил он, пристально глядя на журналиста.
Журналист, к удивлению, не смутился – наоборот, усмехнулся и сделал ещё глоток вина.
– Да, – продолжил Патрик, – она была чертовски хороша. Всё в ней было… как нарочно создано, чтобы ломать святых. Фигура, походка, запах – всё будто соткано из греха. По мере того как Артур говорил с ней, я видел, как его лицо краснеет, а руки дрожат. Я завидовал. Завидовал страшно. Хотел быть на его месте, вдыхать аромат её волос, касаться кожи. Желание овладеть ею было сильнее здравого смысла.
– Святой отец, – журналист слегка прищурился, – не кажется ли вам, что дьявол сам явился к вам в обличье этой женщины, чтобы окончательно разрушить вашу веру?