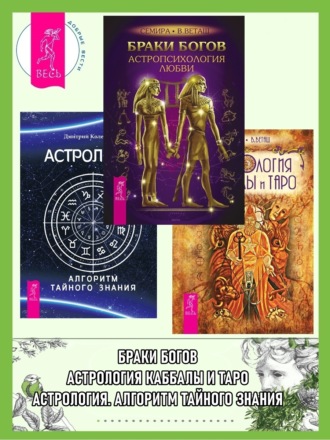
Семира
Браки богов: Астропсихология любви. Астрология: Алгоритм тайного знания. Астрология Каббалы и Таро
12. Воин и пастырь (мифология знака Овен)
Последний складывающийся образ мифологии, завершающий ее развитие и отмеченный в новых религиях, – образ воина и пастуха как идеального предводителя, воплощающего выход за рамки цивилизации в дикую природу и обретение там нового пути.
Наиболее архетипичный образ дикой природы – лес, в котором легко заблудиться и который пугает: как греческий Пан – того же корня слово «паника». Его хозяева – дикие звери и птицы: волк и сокол. Так, египетский бог-волк Упуат именовался «первым бойцом Осириса» и почитался как проводник людей в незнакомой местности. С волком тоже связан образ страха. Этот архетип указывает путь, и стихийные эмоции, такие как ужас, отчаяние или чувство абсурда, – экзистенциальные эмоции по Кьеркегору, могут дать направление пути. То, чего боится человек, то и надо превозмочь – чтобы никакие преграды не остановили его безудержное и безынерциальное движение к неведомой цели.
Архетип Овна воплощает прорыв в неведомое, чтобы выхватить оттуда новое и внести в цивилизацию.
Он не оборачивается на себя, в отличие от Льва, ставящего акцент на индивидуальности: ему не важно, как он выглядит (воин страшен в бою); и в отличие от Тельца, не обращает внимание на чувства, потому что они – отклик внешнего. А нужно видение изнутри себя, без предпосылок – как в феноменологии Гуссерля: как будто видишь явление впервые. И конечно, не думает о спасении души Рака: преемственности мировой души. Мудрость прикосновения к истоку утверждает превосходство личности над социальной традицией. И это последний знак, который побеждает коллективный разум: так Один, который принес себя в жертву на мировом древе и спустился в потусторонний мир, чтобы узнать судьбы будущего, сменяет на троне традиционного царя богов, громовержца Тора.
Военный предводитель богов юн, он воплощает молодость рождающегося весной нового мира.
Таковы индийский Сканда или греческий Арес. Причастный безудержной стихии битвы, воитель связан с весенним возрождением и грозами, как индийский Рудра или славянский Руевит. Гроза здесь – радостный символ пробуждения мира: только еще посева, а не урожайного дождя, как в архетипе Стрельца. Март, названный именем Марса, – первый весенний месяц, и вести войну зимой не полагалось: считалось, что Марс в это время спит. Кроме того, войско не должно было входить на территорию города, дабы не навлечь на него стихийные силы, и мальчики-маммертинцы, посвященные Марсу, выселялись за его ограду.
Русский бог весеннего Солнца и плодородия – Ярила – тоже имел военную функцию, но утратил ее в силу миролюбия древних славян, однако она возродилась – как возрождается все архетипическое! – в заместившем его христианском образе Георгия Победоносца.
Обладая овенской простотой и нравственностью и воплощая общечеловеческий идеал, военный вождь объединяет под своим покровительством разные территории и народности. Военные боги многоруки и многоголовы – что изображает единое войско, а также символизирует их способность возрождаться: непобедимый воин не гибнет.
Индийский Рудра тысячеглаз: глаза – символ сверхъестественной силы и магии разума. Египетский Гор обладает чудесным оком, которым он оживляет Осириса, заменяя его на престоле. Шумеры изображали своих богов и самих молящихся с огромными глазами: так они стремились передать власть внутреннего мира. (Эта ассоциация: глаза-душа – телесно рабочая: глаза действительно становятся большими и глубокими, когда говорит душа.)
В образе воина подчеркивается не только необходимость впустить в рамки цивилизации природную стихию, но и обуздать ее мудростью разума: найти стратегию и тактику ее применения.
Поэтому жестокому богу войны Аресу противопоставлена мудрая Афина. Самый распространенный мифологический сюжет (и ныне самый популярный сюжет кинематографа) противопоставляет двух воинов: сильного, но неразумного, и более мудрого и утонченного, где победа достается более справедливому и нравственному. На щите Афины изображена голова Медузы Горгоны – прежняя ее стихийная ипостась. Имя Медузы происходит от medo – «забота, обдумывание» и родственно индоевропейскому слову mntis («помнить») и нашим – «память» и «мудрость». Так что Палладу хранит древняя мудрость первозданной стихии. С помощью крови Медузы врач Асклепий воскрешал людей.
Воителю родственен другой архетипический образ – пастух, который, как и воин, много времени проводит вне цивилизации.
Пастух может выступать проводником в незнакомой местности, отсюда образ пастыря как предводителя, выводящего людей на новый путь.
Образ пастуха, защищающего стадо, сближается с семантикой героя и спасителя: слово «герой» (греч. heros) восходит к индоевропейскому ser – «охрана, забота», от которого происходит и латинское servo: «охраняю, спасаю» (а также «служу»). Исходный ностратический корень shehr’a имеет марсианское значение пробуждения и бодрствования (стоять на страже).
В образе пастуха в культуре воплотилось представление об идеальном естественном человеке, назвавшее «добрым пастырем» Христа, сделавшее юным пастушком играющим на свирели бога Кришну и послужившее прообразом средневековой идиллии пасторалей. До сих пор популярны изображения Христа с пастушьим посохом или ягненком на руках.
С образом пастуха слился еще один символ воинственности и весеннего возрождения – баран. Завиток рогов барана похож на росток, и спираль бараньих рогов – символ возрождающейся растительности. Голова барана с двумя завитками встречается уже на керамике VI тыс. до н. э., это один из излюбленных орнаментов неолита и эпохи бронзы от Прибалтики до Африки. Образ барана связан и с идеей жертвенности (как и образ воина). Египтяне после весеннего равноденствия украшали барана цветами и устраивали процессию, этот обряд стал основой христианской Пасхи. Ассоциация бараньих рогов с новым циклом жизни сделала спираль философским символом развития – и архетип Овна символизирует выход на новый виток спирали.
Битве войны, как и жертвоприношению, сопутствует наиболее непокорная и разрушительная стихия огня.
У древних существовало представление о двух видах огня: один – ужасающее пламя стихий, которых страшится человек, второй – поддерживаемый и управляемый самим человеком. Этот огонь и ныне горит в сердцах людей, освещая путь в неизведанное.
Первый обозначается «мужским» корнем: hngni, от ностратического henka – «пылать», от него наше «огонь» и имя индийского Агни (неслучайно связанного с радикальной трансформацией в учении Рерихов). Второй – искусственно поддерживаемый огонь очага – соотносим с женскими функциями: его название восходит к ностратическому qotti – «зажигать», к которому восходит имя его античной хранительницы Гестии/Весты. «Женский» огонь воспринимался лишенным связи с изначальной стихией, и у многих народов существовал обычай высекания огня под Новый год ради обновления огня очага, который мыслился потерявшим свою стихийную силу. Например, образ прусского «живого» огня Паникса («огонь») – имя которого родственно возрождающемуся из пепла Фениксу: самому известному символу начала новой жизни.
В индийской мифологии огонь-Агни рождает юного воина Сканду, военного предводителя богов, и мыслится пастухом – проводником людей, знающим все пути и всю мудрость мира, как сказано в Ригведе:
Я видел пастуха, без отдыха
Бродящего по дорогам туда и сюда.
Скрываясь в водах, текущих вместе и в разные стороны,
Он шевелится во всех существах.
Во всех мифологиях образ огня соотносится с очищением, преображением и разрушением старого мира. С самого момента основания Рима его граждане верили, что его ждет гибель в пожаре. Так трактовалось мистическое видение Ромула, которому предстали 12 орлов (число, часто связанное с эсхатологией: так как оно описывает круг времени – 12 месяцев года). В представлениях индейцев, когда на очаге Солнца закипает котел с водой, чаша терпения небес переполняется и они обрушивают на землю потоп. А в скандинавской мифологии в последней битве богов сжигает мир огненный великан Сурт. Но разрушение прежнего одновременно является творением нового. Эсхатологические мифы имеют смысл прежде всего осознания временной координаты с позиции вечного, как писал о том Н. Бердяев, – и внутреннего преображения, связанного с духовной функцией огня.
Исторически следы овладения огнем находят уже 700 тысяч лет до н. э. Поскольку поддерживать костер могла только достаточно организованная община, огонь костра и очага издревле ассоциируется с единством и объединением людей. В мифологии это единение отразил славянский образ огня-Сварожича, отождествлявшегося с Радегастом, имя которого можно перевести как «гостеприимный»: в образе огненного петуха он охранял чужестранцев, поручая их покровительству домашнего очага. Частые символы огня, пробуждения и бодрствования – петух (павлин) и сокол. Петух – символ славянского военного бога Руевита, павлин – индийских богов войны Муругана и Картикейи, сокол – славянского бога огня Рарога.
Пользование огнем создало полноту человеческого образа, утвердив его независимость от природы. Потому эта стихия символизирует эволюцию человека. Здесь можно вспомнить миф о Прометее, укравшем с Неба огонь, чтобы сделать людей бессмертными и непобедимыми перед лицом богов и стихий. Поддержание огня выступает как долг человека – что запечатлел образ Гестиии/Весты и отразили обряды весталок.
Образ огня очага мыслился центром Вселенной, и в античные времена Веста отождествлялась с неподвижно висящим в небе и заключавшим в себе огонь земным шаром – с самой Землей, которая хранит в себе пламя жизни.
Мистерии Зодиака
Чтобы лучше понять, что универсальная модель архетипов Зодиака дает для понимания психологии человеческих отношений, еще два слова об архетипах мифологии. Образные понятия, которые выделяет мировая мифология, постоянно воспроизводят себя в силу циклического повторения жизненных процессов. Центральные сюжеты мифов поднимаются до мистериального уровня, описывая драматизм жизни и ее вечные проблемы. И мифы современного мировосприятия рождены мифологическим мышлением древних. Оно оставило нам в наследство описание вечных мистерий жизни, относимых к разным архетипам и знакам Зодиака. Их проживает и один человек как актуальные сюжеты своей жизни (как Геракл – свои подвиги). Сюжеты этих мистерий полезно знать астрологу и психологу, поскольку они служат точкой отсчета и центром жизненной проблематики знаков Зодиака. Вкратце перечислим их, указав на психологические опоры знаков и проблемы, наиболее глубоко затрагивающие их суть.
Знак Рыб опирается на невидимые ритмы жизни, уводящие его за пределы внешнего существования в сферу подсознательного и иллюзии души. Жизненный драматизм этого знака составляет переживание своей отверженности или безволия, собственной малости во внешнем необъяснимом хаосе, в смешении потоков жизни и смерти. Смысл проблематики знака Рыб раскрывает мистерия предательства Триты: когда старшие братья посылают младшего брата в мир иной за тайной вечности. В жизни это предполагает допускание в свое тело и душу стихий, с которыми мы не властны совладать и которые, напротив, правят нами. Они выводят нас к неведомому и заставляют прикоснуться к изначальным истокам ради того, чтобы мы обрели силы на новую жизнь. И во взаимодействии Рыбы словно нарочно ищут такой сценарий предательства, чтобы уйти в свои глубины, а если его нет, то могут выдумать его в своей склонности к иллюзиям. Им надо понимать: впадение в иллюзию, что их предали, – тоже предательство по отношению к их ничего не подозревающим партнерам, которые заслуживают большего доверия.
Знак Водолея опирается на интуицию мысли, витающие в воздухе идеи и невидимые перспективы единого для всего мира творческого процесса. Мифологическая мистерия этого знака – сотворение мира, и его жизненный драматизм живописует граница, которая навеки разделила Небо и Землю для того, чтобы мир существовал. Она прошла между разными людьми, народами и странами и по уму и сердцу самого человека, разрушив его причастность к раю и блаженству души, вызываемую светлой мечтой о единстве, к которому он стремится вернуться. Возврат к всеобщему, безличному дружескому альтруистическому единству, питаемому идеей, – то, что греет холодную душу зимнего знака Водолея. Даже интимная любовь для него без этого неполноценна. Но хорошо бы ему помнить, что идеи не только эмоционально объединяют, они разделяют людей – образуя необходимое для творения пространство разлуки.
Знак Козерога опирается на осознание сути и смысла жизни, определение своих целей и своего места в ней. Его жизненная драма заключается в жертвовании человеком своих сил конечному миру Земли: жесткий закон «дашь на дашь», господствующий в материи. Сегодня он выражается законом сохранения энергии, а у древних выливался в мистерию жертвоприношений. Осознание смерти и конечности всего становится платой за создание чего-либо определенного и обретение родины в этом мире. И любовь, как внутренне вечное отношение, Козерог хочет увековечить в надежном результате, воплощении за гранью уничтожимого. И здесь, чтобы чувство не оказалось без остатка принесено в жертву делу, полезно знать, что плоды любви не ограничиваются очевидными свершениями ближайшего времени – их манифестация может простираться за рамки материально видимого, к социально не проявленным и рационально не опробированным сферам. Раскрытие чувств мистически чудесному видению реальности – тоже полезный миру и неуничтожимый результат, увековеченный в самой личности!
Знак Стрельца опирается на широту мировоззрения и традиции, которые дают ему возможность взглянуть на мир сверху, устанавливая мост между вечностью духа и ограниченностью материи. Драматизм этого знака составляет бесконечность борьбы добра со злом, отраженная в мистерии грозы, несущей плодородный дождь. Индоевропейской битвы громовержца со змеем: схватки идеи, несущей в себе энергию безграничного роста, со сковывающими ее материальными законами и жизненными инстинктами, которые ей противостоят. Стрелец нацелен на столкновение с внешними условиями и победу своих идей, и эта неуспокоенность дает ему романтизм. Судьба этого знака – вечно сражаться. Но в семье битва за добро должна принять по-женски мягкие формы. Готов ли этот мужской знак искать их и найти – чтобы патриархальные притязания абстракций ума не помешали естественным струям чувства?
Знак Скорпиона опирается на способность обнаружить те источники существования, которые остаются невидимыми остальным. Он стремится выйти к внутренним основам, чтобы уничтожить зависимость от внешнего. Постоянные трансформации окружающей реальности показывают необходимость избавляться от лишнего, теряя накопленное богатство тленного мира ради скрытой истины души, которая движет энергией жизни. Драматизм этого процесса очищения наиболее ярко раскрывают мистерии загробных судилищ. Для Скорпиона порой вся жизнь превращается в подобное переживание. Этому знаку, который более других склонен эмоционально страдать, надо осознавать, что конечная цель драматизации и усугубления всех конфликтов бытия, присущих лишь человеку, – это его освобождение от всякой обусловленности. Разжигая пламя страсти, своей или чужой, Скорпион должен уметь найти ответ на вопрос: зачем?
Знак Весов опирается на красоту и закономерность процессов внешнего мира, не содержащего ничего лишнего. Жизненная мистерия этого архетипа заставляет понять, что лишь в гармонии подобия верха и низа человек обретает подлинно человеческое существование: когда он строит свою жизнь такой, какой она и должна быть в самом высоком смысле. Драматизм этого знака составляет ограничение себя рамками культурных законов и ритуалов, которые порой не оставляют места для стихии искренних чувств и желаний, – искусственность рукотворного мира, созидаемого человеком. Так этические и эстетические нормы поведения помогают наладить гармонию брака, но усугубляют проблемы любви. Проблему представляет непрочность культурных моделей человечества, утопичность творческих замыслов, которым противостоит грубая правда физической реальности. И все же стоит ковать красоту человеческих отношений, подобно русскому хранителю брака Козьмодемьяну: в ней брезжит видение будущей эволюции человечества.
Знак Девы опирается на способность преобразования чуждой сознанию человека материи в нечто полезное его духу и разуму – на хорошо сделанные дела. Драматизм процесса труда – в полной самоотдаче духа миру материи, в добровольном подчинении мыслей и чувств малому и конечному, в скромной роли шестеренки огромного механизма, в утрате будущей перспективы ради сохранения настоящего. Мистерии Девы живописует картина срезания урожая и умирания богов растительности – за которыми следует буйная радость воскрешения жизни, духа и чувства изнутри. Это знак осознания мистериальной роли труда как части космического круговорота, знак Элевсинских мистерий, некогда помогавших людям познать взаимопереходы смерти и возрождения – но что другое дает познать их так, как любовь? Прокладывание каналов любви – тоже часть единого мирового процесса. Так ли мы сейчас относимся к труду любви?
Знак Льва опирается на свою самодостаточность и уверенное владение материей жизни. Основную жизненную драму здесь представляет конфликт самостоятельной личности и безликого общества, где личность в своих героических устремлениях отстаивает свою независимость в сражениях с установленным мироустройством. В мифологии эту мистерию отражает конфликт солнечного бога, покровителя героев — и громовержца, царя богов, который порой заканчивается поражением героев в их борьбе за признание перед коллективной волей. В современном мире человек обязан быть индивидуальностью: развивать новые природные таланты и являть себя героем по отношению к требованиям общества. В особенности, если он – Лев. Но достигнутый уровень жизни и сознательности общества пока не дает проявиться каждому так, как он мог бы, в том числе и в любви. И в этом проблема, которую призван решать знак Льва.
Знак Рака опирается на внимательность к живому, богатство внутреннего мира и причастность каждой души к совершенству вечности – которое живописует в мифологии образ напитка бессмертия. Мистерия этого знака – вечное обновление течения реки жизни, требующее преодоления привязанности к прошлому и материнской самоотдачи будущему. Драма Рака – одиночество индивидуальной души, отражаемое историей Чан-Э, и невыразимость тайны ее жизни (запечатленной в мифах об искажении вести о бессмертии, которую посылает людям Луна). Наш внутренний мир являет собой загадку, всякий раз открываясь нам по-новому, и каждому человеку – по-своему. Истина индивидуально-глубока, она ускользает от поверхностной яркости социального мира людей. Но все они вскормлены материнским молоком – и потому равно причастны к напитку бессмертия, который вместе пьют все боги. Как и ко Млечному пути нашей расширяющейся в бесконечности Галактики: это тоже загадка, но человек уверен, что может познать ее, потому что ею владеет его душа – столь же безграничная в охвате просторов мира, как и сама Вселенная. Так стоит ли тосковать о прошлом – и о детстве слияния с матерью: с божественной матерью-природой, из которого человечество уже вышло? Не лучше ли по-взрослому открывать наружу богатство ощущений интимности внутренней жизни, которая столь же важна для людей, как и внешнее жизнеобеспечение?
Знак Близнецов опирается на внутреннюю свободу и необусловленность поведения, на умение устанавливать все новые и новые связи. Драматизм этого архетипа рождает переход человеческим разумом границ естества и блаженства инстинктивной природы, отраженный в образе нарушения запретов: в мистерии грехопадения прародителей-близнецов. Теряя причастность к истинным истокам жизни и вечности ради творения собственного мира, разум выходит за пределы традиционного понимания добра и зла, чтобы освоить иные, новые сферы реальности. Мифологический образ вестника богов говорит о том, что наш интеллект играет роль экспериментатора и обманщика, но одновременно и проводника в прежде недоступные сферы жизни и смерти. Подобно тому, как близнецы заселили пустынную землю, любовь строит новый мир. То, что возникло в сознании одного и подтверждено разумом другого, не может не воплотиться в жизненной практике. Но разум соткан из противоречий – и чем серьезнее любовь, тем с большим чувством юмора мы можем к ней относиться.





