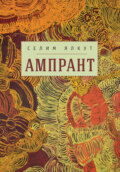Селим Ялкут
Место для жизни
Осень в Тель-Авиве
Цецилии
Осенью в Тель-Авивских гостиницах ни души,
Тускло светится мрамор и скучные бродят тени.
Официанты по стенам стоят, как карандаши,
Рассматривают уныло собственные колени.
Лишнее электричество отключено
Даже в святая святых – гостиничной синагоге
Рядом с «Восточным залом». Всюду почти темно,
Пусто. Остыл недолгий
След от былых гостей. Зрелище живота
Дается лишь для участников провинциального съезда
Вместе с мужьями и женами человек примерно до ста,
Иначе крутить невыгодно. Даром. И вся надежда
Впредь на новый сезон. Иностранцев, старух, повес,
Что, как гуси в полет, потянулись теперь до срока,
В «Клеопатре» плюш их привычных мест
Напоминает стихотворение Блока.
Только в баре есть жизнь. Там седой пианист
Артистичным глиссандо наводит на клавиши глянец,
Мужчина и женщина – врач-окулист
Гадают вполголоса – русский или испанец?
Красотка и удачливый коммерсант.
Он влюблен, но ведет себя, в общем, бесстрастно,
А она пережила недавно роман
И теперь упивается холодом и женской властью.
Это – тоже игра. И хоть она не устает повторять,
Что устала страдать и теперь ей никто не нужен,
Он спокоен, уверен, согласен ждать,
Одиночество – выбор намного хуже
Равнодушия. Тем более есть прогресс:
Сегодня они переставили мебель в его гостиной,
Он разделся до пояса, но не лез,
Приглашение вышло вполне невинным.
Это стоит отметить. Ведь много Наташ и Нюсь –
Эмигранток вполне достойных, но нищих
Сочтут за честь проявить свой вкус
И украсить стены его жилища
Рядом с тусклым золотом пышных рам,
Что скрывают объемные копии венского арт-модерна.
Подскажи, дорогая, что нужно развесить там,
Где есть еще место?.. Пока примерно,
А потом, как захочешь… И этот скромный успех
Вымораживает привычную тоску до рассвета.
Время забвенья, как белка, щелкает свой орех,
Вытряхивая боль из сердцевины сюжета.
Все приходит в свой час. Он мурлычет, как кот,
В такт партнерше и музыке. Складно, тактично.
Пианист кивает и скалит рот
И подыгрывает им интимно и лично.
Знакомятся. Он – босниец и адвокат.
Вдовец. Впрочем, это неинтересно.
С двумя детьми на руках он рад
Получить для начала вот это место.
Удивляются вместе. Казалось, сполна,
Сдана была карта, но вот невезенье.
Цыганской серьгою зависла луна
Над скучной водой голубого бассейна.
Поцелуй на прощанье. Он настойчив и строг.
Но она не готова. Звонит перед сном по привычке
И слышит от лучшей подруги упрек:
– Почему я должна узнавать твои новости
от косметички?
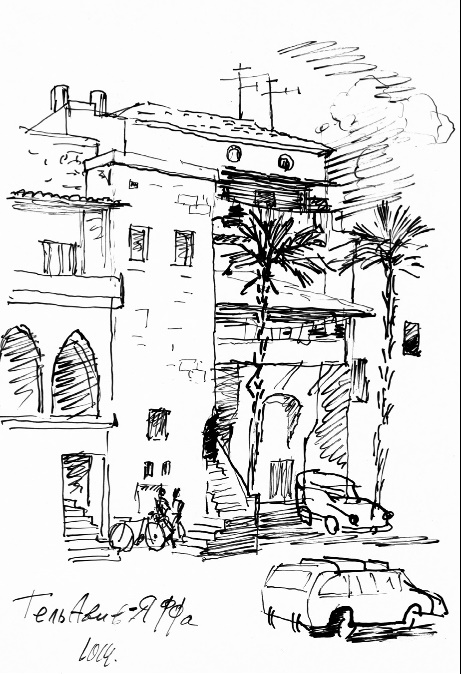
Осень в Хайфе
Лихтенштейнам
Черепаха, шагающая по дну пустого бассейна,
Размеренно и упрямо, как заведено у черепах,
Напоминает настойчиво и откровенно,
Что осень случается даже в райских садах.
Что прогнозы погоды, как странности отношений,
Уже отмеряны и предсказаны небесами,
Составлены предельно точно и достоверно,
Как поминальный список, спрятанный за образами.
Что уже приготовлено, но еще не надето
Платье из ранних сумерек и багряной листвы,
Что долги пересчитаны. И на смену лету
Наступает время ясности и простоты.
Русские в Израиле
Наши бывшие, перебравшись в США, Канаду, Германию, любят рассказывать о бывшей стране проживания со снисходительной иронией. С теплом или без. Нейтральная эмоция. Приятно подтвердить свой выбор. Сравнивают, как правило, с американцами. Те ближе к идеалу…
А самих русских это как бы не касается. Ездят, осматриваются, осваиваются. В Израиле разных можно встретить.
… – По ихним меркам это называется алкоголизм. – Говорит дама в черных рейтузах и развевающейся фиолетовой накидке. – Вот это – алкоголизм? Мне смешно. Коля, глянь. – Поднимает над головой три бутылочки из-под Карлсберга, надетые на растопыренные пальцы. – Ох, не дай бог, чтобы я так пила.
– Что ты, Лидочка. – Пугается краснощекий добродушнейший усач. – А мне как тогда? – Уходят, взявшись за руки. Видно, им хорошо вдвоем и выглядят убедительно. Даже со стороны душа радуется. Ветрено, осень подступает, но погода пока держится. Наверху в парке громко ссорятся пенсионеры-доминошники. Сплошь наши, а то какие же. – Молчать. – Рвется старческий голос. – Я прошу ма-алчать…
…В Иерусалиме, в подвале дома под мраморной лестницей, там, где в мирных строениях складывают дворницкий инвентарь, открывается вход в пещеру, одну под другой. Евангельские святыни. Встречает ловкий, привязчивый малый, сочится гостеприимством. Мазнет лоб, приподняв козырек от солнца. Если не вознаградить, гостеприимный меняется невероятно, и презирает искренне, со всей полнотой натуры.
Нижняя пещера за поворотом, накрыта каменной толщей, иконы в нишах. Русская паломническая группа топчется, толпится у образов. Места мало.
– Поднимаемся, поднимаемся. – Подбадривает втиснутый в угол гид. Места, действительно, мало, но торопит уж слишком по-хозяйски.
Люди уходят неохотно. Остаются забравшиеся сюда самостоятельно. Впрочем, не только.
– Вы, вы. – Подсказывает зоркий чичероне. – Да, да. Я очень прошу. Вы всех задерживаете. Не прикидывайтесь американцем. Я сам из цэрэу. Я вас вижу.
…Наши люди плотно осели на берегу Мертвого моря. На лавочках под навесом общаются немолодые дамы. Добираются сюда на автобусе, сговорившись заранее, сразу на весь день. Ведут неторопливый разговор, вспоминают, например, Кишинев. Почему нет? Одни – Кишинев, другие – Киев, третьи – Бельцы. Осторожно выходят к мертвой воде, подрагивая студнем белокожих тел, совершают таинственные манипуляции с лечебной солью. Бережок каменистый и диковатый, тем более для столь знаменитого места.
– Тоже, между прочим, можно благоустроить. Разве американцы так оставили? Нет, конечно. А эти – такие же, как наши. Ну, хорошо, лучше. Но что, намного?
Тут подскакивают русские молодцы с подругами. Эти на машинах, торопятся и обязательно фотографируются. Благо, можно подобрать подходящую позу. Будто и не в воде.
– Миша, ты снял меня с морем или с горами тоже?
– Витя, подожди, я по-турецки сяду… – Руку забрасывает за голову, красота, ноги вверх. – Снимай, снимай, я тонуть начинаю.
Солнце съезжает, прощаясь, за линию гор, они теряют объем и застывают иссиня-темным строгим силуэтом. Небо полнится розовыми вечерними облаками, они покрывают зеркало вод, из пенной глади всплывает белая, вымоченная в соли луна. Горы за морем, с иорданской стороны начинают светиться, камень, остывая, отдает набранный за день жар. Краски еще соперничают, постепенно теряя силу, море безнадежно темнеет, пресный душ смывает осадок с последних купальщиков. И голос новой Венеры взывает из глубин.
– Вовик, давай ко мне… Ой, без рук лежу. Мамочка…
Сквозняк
Сквозняк в Израиле – важное достоинство квартиры. Есть такие, где накрывает с самого утра духотой, плотной, как резина. Не спасает даже вентилятор, разгонять застывший жаркий воздух все равно, что месить грязь. В рекламе при сдаче квартиры указывают (например): две комнаты и сквозняк. Два сквозняка (есть и такое) – почти невозможная роскошь. Сквозняк – кондиционер бедных. Галина мама говорит: – А мы думали, что c собой брать. Если бы я могла привезти те сквозняки, которые мы имели в Бендерах, мы были бы здесь шикарные люди.
Галина мама носит халат пятьдесят четвертого размера, сама Галя перешла недавно с сорок шестого на сорок восьмой. Махнула на себя рукой. Так она говорит.
Жалюзи в квартире весь день закрыты, стоит густой сумрак. Жильцы привыкли ориентироваться на звук. – Леня, не хлопай дверцей холодильника. – Кричит Галя сыну. В Бендерах она работала воспитательницей в детском саду, могла и на пианино подыграть. Здесь такой работы нет. Галя закончила кулинарную школу и пошла поваром во французский ресторан. Обучение обязательно. Нужно знать, например, марак фон бло – это такой суп. Сами повара дома готовить не любят, но Галя – исключение. Накормить кого-то вкусно – для нее праздник. Тут она в маму, можно представить, какие пиры могут задать эти женщины. Но нет мужчин, а Леничка плохо ест. Ребенок сидит на золотой жиле, нефтяной скважине и не понимает. Вырастет, вспомнит, будет жалеть. А пока хватает на бегу, что попало.
Событие, когда на субботу, не просто субботу, а праздник Субботы, который, как известно, начинается в пятницу после захода солнца, приезжает из Иерусалима Галина подруга Света. Приезжает вместе с сыном Яшей. Тот ходит на дзю-до и берет уроки шахмат. Яша – добродушный рыжий крепыш. Света воспитывает его в строго религиозном духе. Яша не смеет никого ударить, а насильника аккуратно переворачивает на спину и укладывает, плотно прижав сверху коленом. Это, в соответствии со строгими предписаниями Талмуда, разрешается. Шахматистом Яша станет едва ли. Не хватает сосредоточенности. Даже у евреев не всегда есть талант к этой игре. Но Яша умеет правильно собирать фигуры, как складывает его учитель, мастер спорта по шахматам. Тот терпелив и смотрит на свою миссию философски, найти заработок не так просто. Складывает он фигуры так. Сначала бережно укладывает в белый мешок белого короля, за ним ферзя, затем чуть более небрежно, но строго по ранжиру следуют ладьи, кони, слоны, и только потом сразу горстью ссыпает пешки. Как будто заполняет погребальный курган – князь, жена, колесница, слуги. Мешок уходит в сторону. Та же процедура и с черными, в другой мешок, не обязательно черный, но темный и именно так же. В конце салют легким хлопком закрываемой доски. Для мастера фигуры явно одушевленные, с ними мастер ходит в сражения, взламывает оборону противника, прорывается в ферзи. Он знает цену маршальского жезла в пешечном ранце. Но доска закрыта, реальность подступает со всех сторон, белобрысому ученику не терпится включить телевизор. Хороший мальчик. Но что знает он о красоте битвы? Тогда пусть платит.
За уроки платит Яшин отец. У того новая жена – американка. В свадебное путешествие они сплавлялись на плотах в каньоне Колорадо. На фотографиях – на память сыну вид у Яшиного отца всегда значительный. Тем более в походе, среди водоворотов, в спайке таких же бравых ребят, весь под брызгами. В оранжевом жилете смотрит он исподлобья. Напрасно антисемиты думают, что все евреи одинаковы. Есть такие, как Яшин отец. Он не станет показывать человечеству высунутый язык.
Итак, Света приезжает с Яшей. Добрая Галя готова принимать, готовить, хоть каждую неделю. Звонит в Иерусалим, сговаривается уже со среды. Но у Светы много других обязанностей и навещает подругу она нечасто. Вообще-то, Света – украинка, которая перешла в иудаизм, приняла посвящение – гиюр. Света – симпатичная женщина, про такую можно даже сказать – настоящий человек, талантлива, хорошо рисует. Все в жизни давалось ей с трудом, через боль, разочарования. Чужую несправедливость она переживает острее, чем собственную, за себя она может постоять. А вот других – жаль. Когда-то она попала в еврейскую компанию отказников, там и вызрела до нынешнего состояния. Своего Яшу она просто вымолила, и теперь не устает благодарить за него еврейского Б-га. Так здесь и напишем, через черточку, не произнося Имя целиком. Потому Света рьяно чтит закон Субботы – отдыхать, не делая ничего, не используя никаких механизмов, приспособлений, категорически избегая любой работы. Ведь даже для того, чтобы проехать лифтом, нужно нажать кнопку. А этого делать никак нельзя. В Киеве, когда Света стала отмечать Субботу, она взбиралась к себе на девятый этаж пешком. В Израиле это все, конечно, предусмотрено.
– Галка, – делится Света со своими иерусалимскими друзьями, – меня очень устраивает. Молочное, мясное, конечно, отдельно. Свет не зажигает.
Вообще, точное соблюдение обряда очень важно для новообращенных, Света готова обсуждать правила постоянно, даже странно, что не устает повторяться. Потому что это – не правила для нее, а клятва верности.
Сейчас к Свете приехал приятель из Киева, остался в Иерусалиме, пока она здесь с Галей. Она, конечно, ничего не навязывала, просто объяснила. А тот, хоть старался, а все равно пришлось половину посуды выбрасывать.
– Представляешь, запорола парильную (для овощей) сковородку. Поджарила блинчики. Теперь купила все разные, чтобы не спутать. – Это Света рассказывает сейчас Гале, та ахает. Переживает, как приключение. Хоть Галя не так строга. Обе они – женщины добрые, но у Гали доброта со слезой, менее суровая к самой себе (жизнь и так трудна), а Света – воительница, непреклонная. Еще во время учения в кулинарной школе, на практике Галя вынесла из ресторана две бутылки воды. Открытые. Знала, что нельзя, а все равно вынесла. Напиться бродяге какому-то. Чуть не уволили. Уволили бы точно, но она уже заканчивала школу, потому ограничились внушением и штрафом. Нравы такие, что кусок хлеба взял и уже – кража. Причем преступление не столько уголовное (подумаешь, бутылка воды), сколько нравственное, осуждается самым суровым образом. Внутри, в самом ресторане ешь, сколько влезет, разбрасывай, а вынести, хоть голодному, хоть от жажды полумертвому – ни-ни. Суровы законы.
– И ты стерпела? – Возмущается Света. – Я бы им по голове дала этой бутылкой.
Галя только вздыхает. В Светиной решимости она не сомневается ни минуты. Но та сидит дома, расписывает ткани, платки, которые быстро распродаются в старом Иерусалиме. Бывший муж подбрасывает на ребенка. А Галя здесь одна, приходится терпеть. Все это так, понятно, но гордый Светин нрав обломать нельзя. Только из-за сына она способна отступить, во всем другом – нет.
Подруги они сравнительно недавние, но отношения проверенные, сразу начались с испытаний. С голодовки протеста, которую женщины вели, отстаивая права. Там они познакомились.
Света всю жизнь болеет анемией. И зрение из-за этого пропало, и Яша родился чудом. В общем, болезнь реальная. И вдвойне обидно, потому что, только подходит срок идти получать пособие по болезни, гемоглобин начинает расти. В обычное время – не больше четырех, а тут, как назло, подскакивает почти до семи. А это – норма. Каждый раз законное пособие приходится выбивать. Свете оно нужно по-настоящему, без него семейный бюджет не сходится. И еще льготы, то-се, опять же очки бесплатные. Иногда ее крепко прихватывает, железо она пьет и колет почти постоянно. Приходится идти в Министерство к метепелет и убеждать. Метепелет – это чиновницы Сима и Таисия, обе – махровые наглые взяточницы. Барыги приезжают, жену из лимузина вытаскивать, хоть дверцу снимай. Золота на ней больше, чем на Киевской Софии. А сам – усатый шмыг и уже со справкой, сразу на год вперед. Ни совести, ничего. Со Светой разговор такой.
– Не могу дать. Неси заключение.
– Я тебе говорю. Через неделю еще раз сдам кровь, принесу.
– Тогда и получишь.
– У меня срок сейчас. Чего бы я просила.
– Не могу. Пойдешь на никайон (никайон – уборка помещения, на нее всегда есть запрос).
– С такими ногтями – никайон? – Света, конечно, может и дальше ныть, но предпочитает действовать – не в лоб, а по лбу.
– С такими ногтями? – Света вытягивает перед носом Симки руку, растопыривает пальцы. Руки у Светы очень красивые, пальцы длинные, тонкие, маникюр.
– Подстрижешь. – Наслаждаясь, говорит Сима.
– У тебя компьютер сгорит, пока я подстригу.
– Сейчас скину с пособия, будешь знать.
– Я тебе скину. Трахну по твоей железяке, будешь до конца дней чинить.
– А ты платить.
– Не буду. У меня денег нет. Что, трахнуть?
Сима смотрит и понимает, что Света может. Трахнет. С нее станется. И дает справку. Подло. Знает, что Света больна, но дает на три месяца, хоть может и на шесть, может даже на год. Но то для своих.
Женщины познакомились, когда правила ужесточили и добрую половину пособий отменили. Вица – международная женская организация затеяла голодовку протеста. Но власти с Вицей сумели договориться. Вица на этом деле поставила Моген Дэвид, что для христиан будет понятно, как – поставила крест. На голодовку вышло всего несколько непримиримых, хоть именно их предатели из Вицы обрабатывали больше всех. Не тут-то было. Поставили две палатки прямо перед кнессетом, переносной туалет. В кнессете сначала терпели, не хотели затевать скандал. Мыться женщины ходили в здание, по двое, сквозь охрану, специально пропуска пришлось выписывать. Потом у одной голодальщицы начался диабетический криз, увезли в больницу, поставили капельницу. Она потребовала вернуть. Вернули. Света вспоминает о своих подругах с уважением. Сама она отлеживалась тихо, чтобы не обострять анемию. Пронесло без осложнений, хотя сбросила двенадцать килограмм. Она и так худая, можно представить, что осталось.
У евреев все не так, как у других. Дон-Кихоты у них толстые. Когда власти стянули полицию и можно было ждать, что палатки ночью снесут, а женщин развезут по больницам, из киббуца явился толстяк. Ничей не сват, не брат. Просто толстяк – защищать голодальщиц. Поставил около палатки раскладушку и жил под солнцем и луной все время противостояния. Заговорили по телевидению. Подтянулись сочувствующие из провинции, среди них Галя, разобрали на попечение участниц голодовки. Гале досталась Света, так они познакомились.
Женщины едят долго, дети расхватали пирожные и унеслись на улицу. Добрая половина угощения остается нетронутой. Набирают эклеров и отправляются к Тамарке. Это еще одна подруга, но не близкая. По дороге встречают незнакомого деда, отдают все ему и возвращаются домой. Света довольна, не нужно носить. Суббота, ей не положено.
Вечером уже перед сном Галя мечтает. Она хочет съездить домой в Бендеры, навестить своих. Там остались родители мужа. Он – русский, инженер, но пошел шофером на междугородние рейсы, курил, умер в поездке от язвенного кровотечения. Говорят, был бы дома, спасли. Родители его живы. Галя точно знает, что живы, звонила уже после того, как закончились боевые действия в Приднестровье. Еще ей нужно обязательно навестить свой детский сад. Об этом она постоянно и сладко мечтает. Еврейский закон велит детям Израиля жертвовать на благотворительность десятину доходов. Без имени дарителя, не возбуждая тщеславия и гордыни. Эта десятина – благодарность Б-гу за жизнь – свою, близких, народа Израиля. Можешь отдавать сам, можешь отписывать синагоге, а они уже распорядятся по своему усмотрению. У Светы всегда полно знакомых, приезжают с бывшей Родины. Десятиной она распоряжается без посторонней помощи. И вообще, с Б-гом у нее отношения свои. Единственное нарушение – не удается соблюсти анонимность, как скроешь от гостей личность жертвователя. Поэтому Света высматривает, что нужно, покупает понемногу и подкладывает гостю. Отказов она не принимает, это просто невозможно. Это – не ее, как они не понимают. Не хотят? Значит, она отдаст в синагогу. Последний аргумент убеждает даже самых щепетильных.
У Гали свой замысел. Она должна съездить в Бендеры и привезти подарки сразу на всех. – Не возись с этим. Будешь сушить мозги, кому что. – Советует Света. – Подари деньгами. Меньше десяти долларов, конечно, нельзя.
– Они там бедные. – Вздыхает Галя.
Подруги считают. Выходит, только в садик – на сорок человек, дети, воспитатели. Еще дорога, потом Колиным родителям. Нет, не уложится она в тысячу. Но и до тысячи еще год собирать. Галя уже начала и твердо намерена довести дело до конца.
Вечером жара спадает. Комаров сейчас почти нет. Если включить специальный электрический отпугиватель, то окна можно открыть. И теперь, если устроиться на линии ведущего в кухню коридора, можно уловить медленное, но упрямое движение воздуха, крепнущее к ночи. Вот и пламя свечи пошло в сторону, зашевелилась тени на потолке. Медленно втянулся в комнаты счастливый сквозняк праздника Субботы.
На краю пустыни
Клавдии Бренер
В первые годы эмиграции Надя изрядно натерпелась. Все было на ней. Дочь сразу нашла работу, причем по специальности. Это была удача. Но домашние дела остались на Наде. Муж не в счет. И не нужно ему. Издал книжечку и живет. Снимает комнату в Тель-Авиве еще с каким-то. Она называет его покойный муж. Тут, конечно, есть ирония, но грустная. Учишься защищаться от одиночества. Если бы он помогал. В Союзе не так было заметно. Живет человек, когда все устроено, чего не жить? А здесь проявилось – при больных родителях, при отсутствии квартиры. Где они жили, квартирой назвать нельзя. Рядом с базаром. Она недавно была там и вспомнила. Сама бы не пошла, приятель приехал, она его водила по городу. Ходить она отвыкла, это да. На работу везут, с работы везут, с автобуса на автобус. А больше, что тут смотреть? Теперь вспомнила. Простыни свисают из окон. Здесь так сушат. Флаги капитуляции. Прозвучит труба, и они выйдут из этих дверей с поднятыми руками. Без ничего. Какой-то хлам, конечно, есть, но зачем, когда жизнь проиграна?
Сколько с тех пор прошло? Если честно, немного. Это в Союзе люди жили без всякого желания что-то изменить. Год и три, и десять. Она сама так жила и считала, все в порядке. Дом – один из первых на массиве, третий, если совсем точно. Стоял на песках. Ни метро, ничего. На работу ехала речным трамваем. И, казалось, все замечательно. Кто мог тогда подумать?
Сначала она мыла полы. Все так начинают. Подруга ездила к себе в Донецк. Пойди там скажи, что приходится чистить подъезды. А спрашивают. Так она – работаю с мрамором. Здесь полы и лестница под мрамор, вот она и придумала. Хотя, если постоянно держать чистоту, убирать нетрудно. Даже в той трущобе был порядок. Но вообще, это не передать. И главное, кажется, что не выбраться. Было такое настроение, она помнит, слава Б-гу, некогда опустить руки, пожалеть себя. И так каждый день. Сначала отец, потом мама. Здесь им продлили жизнь, если разобраться и поискать смысл, первые годы – это их. Всем сразу не может быть хорошо. Родители за голову держались, сколько здесь выбрасывают всякой еды. Невыносимо это наблюдать. На праздники особенно. Отец дважды пережил смертельный голод, именно – смертельный, целые семьи вымирали. Добрейший человек – он не мог видеть, как здесь обращаются с едой. Привычки формируются обстоятельствами. А отвыкнуть они не успели.
Евреи говорят: – Савланут, савланут. Потерпите, и все будет, как надо. Теперь родителей нет, дочь с мужем и внучкой в другом городе. Это, конечно, по союзным меркам, недалеко, но все-таки. И проблем, фактически, нет. Она – уважаемый человек, она достигла потолка. Больше ей не светит, и не нужно. Того, что есть, хватает. Недавно ей говорят: конечно, тебе хорошо. Это ей хорошо? Одной? Звонит какой-то Иосиф на автоответчик. Женщина, я хочу оказать вам помощь. Живет, наверно, где-то рядом, подглядывает, а показаться боится. Можно вообразить. Спасибо, не надо. А чему тогда завидовать? Говорят, есть чему. Она – начальник смены на заводе. Пошла рабочей, счастлива была, что взяли. И вот, за пять лет. Инженерный диплом нужен, конечно, но дело не в этом. Юда присмотрел своим подбитым глазом и предложил. Будете начальником. А это сорок человек. Два аргентинца, три марокканца, остальные все наши. Недавно она сказала одному, между прочим, полный русак. Дай название своей улицы. Он говорит, что-то там на а. Как – на а, эйн или алеф, здесь и так на а, и так. А он: – Чёрт его знает.
– А если без чёрта, ты что, не знаешь, как пишется твоя улица?
– Не знаю. А зачем? Пусть русский учат. Десять лет я здесь, а они ни слова, ни бум-бум. Между прочим, я Чарли своему по-русски говорю, садись, и он садится. В лужу садись, в лужу садится. А чего? В луже приятно, чисто, один дождик за год. Собака понимает. А этим скажешь по-русски: – Садись. Думаешь, сядут? Знаешь, пусть они себе на иврите, а я по-нашему.
Причем такой Серега не исключение. Чистых русаков у нее трое. Это Серега, Миша из Одессы и Абрамыч. Миша страдает, что попал, приходится работать.
– Какая жизнь была, Надюша, какая жизнь. Изюм в шоколаде. Утром референты ругаются, с дивана крошки не убираем. А мы только встали. В Египте три раза был. С мадам был, с подругами. Это же Одесса, прыг на пароход, и ты там. Главное, чтобы тихо. А здесь, пока тур возьмешь, пока доедешь, все уши просвистят, осторожно, бдительно, чтобы, не дай Бог, не тронули, как еврея. Это мне – русскому. А там без всякой охраны. Свободный человек, звучал гордо. Почему уехал? Это у вас уезжают, у нас бегут или увозят. Меня увезли. При деликатных обстоятельствах. А здесь я стал пролетарием. Это же надо, кошмар. Я ничего тяжелее вилки не поднимал. Ё-моё. Какое ругательство, это крик души. Вот тебе, Миша, квартира, вот тебе тачка. Здесь распишись, здесь, здесь. Раз-бор-чиво. На тридцать годиков вперед. Я говорю, Маня, им верить нельзя. Это же банк, это кровососы. Что, ты не видишь? Не видишь? Откуда. На пирамиду хотел залезть, не пустила. Ревнует. Какой смысл? А это смысл? Ей абы до хаты дотащить. А что потом пахать за это годами, она не думает. Ты – мужчина. Как вам нравится? Ах, Одесса. А Юде – эксплуататору, я что-нибудь тяжелое причиню, исключительно из классовой ненависти…
Юда – бывший полковник израильской армии, седой толстяк, хромой после ранения, с вмятиной на виске, потому один глаз постоянно прикрыт, будто дремлет. Зато другой сверкает. Сидит у себя наверху в голубятне. А потом спускается. Причем, неслышно, в самый неподходящий момент. Есть укромные места у автоматов с водой. С рабочими Юда не общается, он их выше, засек и сразу к Наде: – Они у тебя опять молятся. Или ты библиотеку открыла, чтобы они там сидели и читали?
Надя срывается в укрытие. Там Володя, ясно, уже не минуту и не две.
– Володя, – говорит Надя с укором (Володя ей симпатичен). – Я сколько раз прошу. Юда бегает. И опять вы. Возвращайтесь на место и примите рабочую позу. Хотите под увольнение?
Володя на ходу что-то сочиняет. Голова не здесь: – Надечка, вы замечательно выглядите. Как всегда и еще лучше. Я вам сегодня не говорил? Ну, так имейте в виду.
Это значит – отвяжись. Надя уходит, она его предупредила. Володя – журналист из Махачкалы. Какой журналист она не знает, но человек хороший. Марик – его друг, еще один здешний тип, здоровается так:
– Приветствую тебя, кавказский мой поэт.
Если Володя с Юдой заведется, будет плохо. Юда решает, кого сократить. Самое подлое, что может быть. Чуть уменьшили заказ и уже увольняют. Это для Нади объяснение, чтобы передала рабочим, а на самом деле предлог, потому что почти сразу берут новых. Юда приходит и объявляет. Двое. Абрамыча называет непременно. Это его карта в игре, Юда знает, что Надя за Абрамыча вступится. Формально Юда прав (равнодушные всегда правы), Абрамыч часто не выходит на смену. Он – техник из Свердловска, или, как его теперь, Екатеринбурга. Жена – еврейка. Уговаривала его, уговаривала. И в Америку, и сюда. А он – нет. Абрамов Николай Петрович, куда ехать. Пока не изнасиловали дочь. Теперь уже врачи настоятельно рекомендовали. У девочки постоянные нервные срывы. Думали, здесь пройдет. Лекарства, пожалуйста, врач русский, Абрамов говорит, что неплохой, но пока результата нет. Абрамов звонит вечером Наде и просит прикрыть. Он должен быть с дочерью. Наде его жаль до слез. На работе Абрамов безотказный, он увалень, с покорным погасшим взглядом. Добряк, сразу видно, но трахнутый этой жизнью (Надя, пока не знала второго смысла слова, позволяла при себе употреблять). Володя ему говорит: – Тебя, Коля, как подушку для иголок нужно пользовать. Ты большой и мягкий, воткнут, а ты и не заметишь.
Тогда же Володя с Мариком решили звать его Абрамычем. – Очень подходит. – объяснял Володя. Но если ты против, Коля, скажи. А так будет на одного еврея больше. Назло врагам. Ты же наш человек.
– Зови. – Разрешил Абрамов. Надя была рядом, он для нее подтвердил. – Пусть зовут. Москали проклятые.
– Почему, москали?
– А так. Потому что – Абрамыч.
Теперь Юда объявил: – Цыпина и Абрамов. – Против первой кандидатуры Надя не возражает. Эта Цыпина – завистливая, примитивная дура. Еще и заносчивая. В прошлом году завалила процесс. Юда начал так. – У тебя, наверно, муж очень богатый. И тебе работа наша не нужна. Так что, иди.
Надя тогда Юду еле уговорила. И после этого Цыпина решила с ним сама строить отношения. Мимо Нади. Это же видно, она думает, здесь ей Союз. Короче, у Юды свои резоны: – Значит, Цыпина и Абрамов.
И ждет, что Надя вступится. Она опять объясняет ситуацию. Юда, вообще, молодец, потому что сухарь и формалист. Национальность никакого значения не имеет, другой давно бы русских повыставлял. А этот – претензии только по работе. И, конечно, психолог. В армии выучился: – Хорошо, не хочешь Абрамова, давай свою кандидатуру.
Как Надя не крутится, а приходится дать. Ахмед – марокканец. Тоже много пропускает. Кого-то она должна назвать. Юда стрельнул глазом.
– Почему Ахмед?
– Много болеет. А Абрамова нельзя увольнять. Считайте, это личная просьба.
– Хорошо, пусть будет Ахмед. Ты сказала.
Наде тогда было паршиво. И тут подходит Абрамов: – Я слышал, Ахмеда увольняют. Я слова не имею, Надечка. Но хороший человек, неужели ничего нельзя сделать.
– Абрамов, отойдите от меня. – Говорит Надя. – На большое расстояние. Прошу ко мне сегодня не обращаться и ни о чем не спрашивать.
– К Юде у меня здоровое классовое чувство. – Говорит Марик. – Как в мафии. Ничего личного. Только классовое. Он по одну сторону баррикад, я по другую. – И Марик ребром ладони показывает на столе, где он, а где Юда. У Марика длиннющие пальцы, рука тонкая, совершенно непохожа на рабочую. Юда ест, хоть за отдельным столом, но в общем зале. Там же, где все. И так же стоит в очереди с подносом. Никаких себе поблажек.
– Я теперь могу оценить, как там в Союзе. Это же благодать, для начальства отдельный кабинет. Ты их не видишь, они тебя. Кусок в горло не лезет, когда эта рожа рядом. Двух людей я не перевариваю. – Марик разглагольствует, он из всей бригады самый живой и общительный. – Юду как пролетарий эксплуататора, и Наримана – лично. И всю их гадскую систему, со всеми этими автобусиками, с этими обедами. Никакой романтики.
Действительно, все организовано предельно. На работу и с работы автобусом, буквально к самому дому. И сидя, конечно, чтобы, не дай Б-г, не устать раньше времени. Чтобы доехать полному сил, здесь их из тебя высосут. Автоматы кругом, обед как в приличном кафе. Юда тем же питается, так что без обмана. Там, на кухне, хоть наших половина, а тоже работой дорожат.
– А Наримана я очень не люблю. Это уже по-человечески. – Повторяет Марик. – Нариман – бакинский еврей. Угодливый до тошноты. К Наде сразу: – Тетя Надечка.
– Нариман, у меня все племянники дома.
Отошел и снова проверяет: – Тетечка Надя.
– Я же вам сказала.
– Знаешь, напиши на Ольга, что плохо убирает.
– Почему, плохо?
– Ты видишь, я с утра иду, тряпка совсем сухой. Значит, плохо убирал.
– Ладно, давай работай.
Вечером опять подходит, льстивый: – Слушай, дорогая, не пиши на Ольга. Я подумал. Лучше не надо. Зачем неприятность.