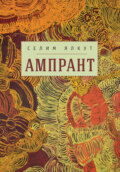Селим Ялкут
Место для жизни
Страна изобилия
Вениамина М. я раньше не знал, хоть среди общих знакомых знать его полагалось. Про него – еще до отъезда человека вполне взрослого и самостоятельного – так и говорили: – Как вы не знаете? Этот тот самый М. – сын доцента М. Считалось, что не знать доцента М. совсем невозможно. Другие корни генеалогического древа Вениамина М. были для меня неизвестны, но доцент в тогдашнее советское время звучало почти как титул. Тем более, что титул, как известно, можно было купить за деньги (Ротшильд когда-то так и поступил), а доцента так просто не купишь. Раньше так было. Сейчас в подземных переходах запросто продают Трудовые книжки и всякие Дипломы. Но зачем теперь покупать доцента, когда почти за ту же цену можно купить профессора или академика? Сам Вениамин дело доцента М. продолжать не стал и отбыл в Израиль. Тогда это было связано с трудностями, но теперь времена переменились, и сын доцента появился у нас, как скворец из пионерской песни, возвестивший приход весны. Конечно, сравнение натянуто и может быть использовано лишь с одной целью, показать, что, вернувшись, Вениамин попал как бы в другую страну. И потому знакомые, пережившие эти годы безвыездно в наших краях, говорили с волнением: – Вы знаете, приехал Веня М. – сын доцента М. (вы его должны помнить). Совсем другой человек. Сами увидите.
Свести нас обещал общий приятель. Меня интересовала судьба израильских друзей, разделивших в те давние годы Вениаминову участь первопроходца. Да и сам я, признаюсь, задумывался, наступает время, когда хочется перемен. Встреча с М. назрела. Приятель сообщил, что М. заедет к нему на работу, и по пути домой они могут быть у меня. Бывших земляков передавали друг другу, как драгоценные сосуды, исполненные, если не мудрости, то полезной информации. И еще неизвестно, что важнее.
Давно это было, теперь молодежь не поверит. Время для организации застолья было не простое, но бутылка водки и банка рыбных консервов у меня имелись. Я сходил за редиской и стал дожидаться гостей, надеясь, что М. окажется не слишком привередливым. Но не дождался. Оказалось, с утра он отправился в недальнюю провинцию к родителям жены. Его представления о пригородном сообщении явно устарели, автобусы не ходили по причине отсутствия бензина, и наш иностранец вернулся домой лишь к ночи. Состояние счастья определяется ценой усилий, затраченных на его достижение, так что странник вернулся очень счастливым.
Вскоре М. пригласил меня к себе. Квартиру ему оставили (или сдали?) давние знакомые. Когда я пришел, М. разговаривал по телефону. Он был невысок, благообразно седовлас и покрыт равномерным средиземноморским загаром. Сейчас в середине мая загар смущал. У нас М. оказался проездом по пути в Скандинавию. Что-то в этом было подлинно европейское, отправиться в путешествие загоревшим и свежим, а вернуться цвета белых ночей. Сразу видно хозяина собственной судьбы. Захотел и поехал. В Скандинавию? А почему нет? Мне такое было в диковину.
М. проводил меня в комнату, устроил на диване, а сам вернулся к телефону. Разговор длился не менее часа и был для меня поучителен. Звонила школьная учительница английского языка, из тех, что десяток лет живут гамлетовскими сомнениями (женщины им тоже подвержены), собирают информацию, взвешивая шансы, а затем эту информацию перепроверяют при каждом удобном случае. За этот час я узнал об Израиле больше, чем за всю предыдущую жизнь. Сведения были сугубо практические, вплоть до цен на свет и воду в различных районах Иерусалима. Это не была специальная коммерческая информация, просто учительнице было важно знать все. Когда включают отопление. По каким показаниям удаляют желчный пузырь. С какого возраста принимают на работу в массажный салон (племянница очень хочет), и какие нужны для этого рекомендации. И правда ли то, что про эти салоны говорят. Судя по размаху интересов, у учительницы была большая родня, и каждый хотел извлечь из М. что-нибудь полезное. Часть разговора я пропустил, потому что задремал, и открыл глаза, когда Вениамин объяснял в каком возрасте лучше всего делать обрезание.
Из разговора М. вышел чуть уставшим, просил называть его запросто Веней, и мы отправились на кухню пить чай с печеньем. Чая в продаже не было, Веня заварил хозяйские остатки сразу на все время пребывания в Киеве и теперь понемногу освежал, добавляя кипяток. Печенье после очередного подорожания не заслуживало прежнего пренебрежительного отношения. Как и было задумано передовыми экономистами, переход к капитализму проходил поэтапно. Вначале повышали цены (и это теоретически правильно!), потом следовало ждать, когда в соответствии с неумолимыми законами рынка новые собственники рассуют по карманам плоды приватизации и начнут насмерть сражаться друг с другом за благосклонное внимание потребителя. Так мы теперь назывались. И ничего личного.
Моих израильских друзей М. не знал.
– Почему-то принято считать, – назидательно сказал он, – что в Израиле все друг с другом знакомы. Но Израиль сравнительно большая страна. Люди разные, из разных стран. Я, например, работаю с эфиопом.
– С эфиопом?
– Да, с эфиопом. Специалист по технике безопасности. Не слишком крепкий? (Это про чай). Или долить? Берите сервилат. Можете руками. Вилки куда-то подевались.
Колбаса была невиданного оранжевого цвета. Я откуда-то знал, что оболочкой настоящей колбасы, по крайней мере, с гордым названием сервилат, служат кишки животных (промытые, конечно). Так я считал и теперь, и поэтому никак не мог придумать, какое из живых существ, кроме канарейки, может иметь подобную окраску. И быть съеденным. Но сам М. отнесся к колбасе благодушно, и я не стал привередничать.
– Я тоже работаю по технике безопасности. – Пояснял Вениамин (я так и не смог перестроиться и сохранил за М. полное имя). – А это – профсоюз. Рабочая партия. Авода. Но не рекомендуется обсуждать, кто за кого голосует. Я за Аводу.
– А эфиоп за кого?
– Не знаю. Хоть эфиопы консервативны. Я же говорю, мы это не обсуждаем. Я и дома не обсуждаю. Жена моя, например, за Ликуд.
– А Ликуд – это кто?
– Правые. Сторонники капитализма, если так, в целом.
– А на семейных отношениях не сказывается?
– Конечно, единодушие лучше.
– Как у Владимира Ильича с Надеждой Константиновной?
– Не идеализируйте. Там тоже были сложности.
Просто вы не все знаете.
– Знаю. Открылись глаза.
– Жена едет на Мертвое море. – Сказал М., предупреждая дальнейшее обсуждение непростой темы. – Плохо с суставами. Каждый год ездит. Знаете, там у них был курьезный случай. Старушка – бывшая балерина, а у балерин суставы – профессиональная болезнь. Шли друг за другом, в море выгорожены специальные бассейны. Держались за поручень, как в балетном классе. Она ногу высоко подняла, решила молодость вспомнить. А назад вставить не может.
– Куда вставить?
– В море. Нога легкая, а вода плотная от соли, как резина. Не принимает. Так и стояла, нога лежит на воде, и ни в какую. Пока впереди не спохватились. Она последней шла. Утонуть там нельзя, но вы же понимаете, как в таком возрасте на одной ноге. Это вам не маленький лебедь.
– Старенький, скорее…
– Море здорово помогает. Приедете, сами увидите. – М. глянул на часы. Я не переставал восхищаться благородной золотистостью его загара.
– Ого, полтретьего. В шесть ко мне должны придти. Давайте сходим в магазин, по дороге еще вспомните. Спрашивайте…
По доброте душевной Вениамин не терял надежды рассказать что-нибудь, специально для меня. А мне, как назло, в голову ничего не лезло.
М. захватил пустую банку. – Для кваса. – Пояснил он. И мы отправились. Бывший Гастроном поражал безлюдьем. Белые полки уходили куда-то в перспективу зала. Я испытывал неловкость. Нынешним переменам я не сочувствовал, и тут радоваться было нечему. Что подумают иностранцы? Раньше об их мнении заботилась мнительная советская власть. Но теперь этой власти не осталось, и ответственность легла на мои плечи. Прибедняться не хотелось, а гордиться было пока нечем. Прошлое ушло, а будущее еще не наступило. Оставалось настоящее, во всей своей застывшей белизне, каким оно представляется философу–идеалисту или полярнику.
Но полки не были пусты. Все они были заполнены прозрачными кулечками с непонятным содержимым белого цвета. – Мука? – Подумал я, удивляясь (муки никак быть не могло), и попытался пошутить: – Прямо, кокаин. – У нас как раз пошли голливудские фильмы с такими на вид кулечками.
– Крахмал. – Коротко пояснил М. Он был сосредоточен и не отвлекался.
– Зачем? – Спросил я. – Окна заклеивать?
– Нужно чем-то полки заполнить.
Тоже правда. Мы бодро продвигались в глубину зала. М. явно что-то искал. – Здесь она должна быть. Здесь. – Он разбросал мешки, похожие на сошедшую с гор снежную лавину, и я увидел под ними знакомый цвет. М. подхватил оранжевый батон, и одинокие, как геологи, мы направились дальше.
– Угу. – М. повернул в соседний ряд. Видно, он хорошо знал местность. Я плелся следом. Здесь крахмала было меньше, но был. М. вытащил кулек, поднял над головой, встряхнул и остался недоволен. – Нужно было сразу брать. А теперь раскрошилось.
Внутри кулька я распознал печенье. – Ложкой можно есть. – Предложил я. – Ложки есть?
– Есть.
– И мы двинулись дальше. – Три часа. – Сказал М. Я понял, что он действует по какому-то плану. – Сейчас хлеб должны завезти.
И действительно, где-то в недрах магазина раздался шум, и стали таскать лотки с хлебом. Замелькали люди. Но мы были первыми. М на ходу подхватил две свежие булки. Он справлялся с ситуацией, будто не покидал страну, не пережил многолетней разлуки.
– Все-таки Чернобыль много съедает. – Сказал я, извиняясь. – Дети.
– И селедку? – М. спросил на ходу. Он весь был в поиске.
– Что, селедку?
– Почему селедки нет?
Ответа я не нашел, а М. не спрашивал. Мы еще раз прошлись по магазину. М. зацепил загорелой рукой трехлитровую банку с огурцами. Огурцы были похожи на запчасти от колесного трактора, что обязательно появятся на исстрадавшихся от социализма полях и огородах. Более подходящего сравнения я не нашел, а М. поставил банку обратно, вытер руку о прилавок и выразил нелепое желание купить торт. – Их должны подвезти вместе с хлебом. Я видел в прошлый раз. – Сказал он упрямо.
Но раз на раз, как известно, не приходится. – Ладно, печенье есть. – Сказал Вениамин, не унывая.
Мы вышли из магазина. Шел мелкий дождь. Май в этом году оказался неласковым.
– Интересно, – сказал М., – какая в Копенгагене погода? А то я зонтик не взял. Удивительно, в Иерусалиме жара началась, и у меня из головы совсем вылетело.
– В Копенгагене, наверно, зонтики есть. Предположил я.
– Сейчас у нас на зонтики большая скидка. Пояснил М. – А в Копенгагене вряд ли. Ничего, может, дождя и не будет.
Под навесом, как бы вопреки сумеречному пейзажу, стояла бочка с квасом. Совершенно никчемный по нынешней погоде объект выглядел как оптимистическая примета подступающего капитализма. Вениамин рванулся, высвобождая из кулька пустую банку. Квас продавал человек восточного вида. Он, видно, распознал в М. иностранца, заполнил банку до краев и почтительно закрыл полиэтиленовой крышкой.
М. вышел под дождь, обвешанный покупками и, видимо, довольный собой. – Частный сектор. – Сказал он. – И в дождь, и в ветер.
– И в звезд ночной полет… Давайте, банку понесу. – Предложил я.
– Ничего. – Сказал М. – Кулек израильский, выдержит.
Аргумент был сильный, и мы отправились домой. М. тащил на себе трубу сервилата, булки, вздувшийся кулек с печеньем и банку с квасом. Мне он так ничего и не доверил.
– Ходили–ходили. – Уныло сказал я. – А толком ничего не купили.
– Да вы что – М. повернул ко мне загорелое иностранное лицо и сказал, почему-то понизив голос. – Да вы что. – Он сделал попытку развести занятые покупками руки. – Это не слыханно. Ведь это за доллар. Ну, два от силы. Не больше. – И пошел быстрее, видно, опасаясь, что в гастрономе пересчитают цены (они и вправду прыгали каждые два часа) и бросятся за нами в погоню.
Из семейной хроники
У меня было три тетки. Они вспоминаются все вместе, объединенные родством, как цветы в полевом букете, скромное цветение каждого усиливает и оттеняет окраску всех остальных. В отдельно взятой судьбе всегда, как кажется, царит случай. Только сопоставив ее с другими, особенно, родственными, и взяв, в свою очередь, такое сопоставление как точку отсчета для этих других, видишь, что закономерность прячется, как тень, позади случайности, то становясь заметной в беспощадном свете сравнения (тогда мы говорим: – этого и нужно было ждать), то исчезая, казалось бы, бесследно, когда критерий для сравнения отсутствует. Надеюсь, вы понимаете…
Старшая из теток недолго была замужем. Она состояла в партии с двадцать седьмого года и была человеком идейным. Между разводом и партийностью существовала, надо думать, определенная связь. Идеологическая одержимость не знает компромиссов. Она ориентирована на мир героев и соратников по борьбе, где мужу с его мелкими слабостями и вульгарным аппетитом просто нет места. Своего единственного сына Леонида тетка воспитала в том же несгибаемом духе. Я смутно помню его лейтенантские погоны и уважительное (с голоса родственников) название войск – пограничник. Он, очевидно, был хорошим служакой, много лет отбыл на Камчатке и Курилах. Там – среди штормов, снегопадов и катастрофической неустроенности быта еврейская национальность не помешала ему дорасти до майора и даже послужила (зная Леонида, я уверен, что именно так и было) дополнительным стимулом в повышении боевой и политической подготовки. О его сыне – моем племяннике этого не скажешь, но речь сейчас не о нем.
Две другие тетки были беспартийными и имели мужей. У одной – Давид, у другой – Лазарь. У Давида в то время, о котором пойдет рассказ, родилась девочка Лина, а у Лазаря такое же событие должно было случиться буквально на днях. Забегая вперед, скажу, что это был Виктор – мой двоюродный брат. Так обстояли семейные дела в августе сорок первого года, когда им нужно было эвакуироваться. Собрались все, кроме тетки-коммунистки, которая отправилась рыть окопы и в городе отсутствовала. А уезжать пришлось немедленно. Штаб военного округа, где служил мой отец, спешно снарядил эшелон для семей сотрудников. Были места, и отец помог устроиться, всем в одно купе. В отдельный вагон загрузили продовольствие. То ли печальная судьба города была известна штабным лучше, чем остальным, или сыграли роль родственные чувства, в общем, продуктов не пожалели. Среди неумолимо надвигающейся беды они оказались устроены так, что можно только мечтать. Осталось выбраться из города.
Сидели в вагонах неотлучно. Эшелон мог отойти в любой момент. Мост через Днепр раз за разом бомбили немцы, приходилось выжидать, чтобы проскочить между налетами. Стояла страшная жара. Только бы немцы не разрушили пути. Тут на станции загремел репродуктор и объявил, что все мужчины девятьсот пятого тире девятьсот десятого года рождения подлежат мобилизации и должны явиться в военкоматы по месту жительства. Давид и Лазарь глядели друг на друга и слушали, как репродуктор раз за разом попадает в даты их рождения с точностью, которой не хватило в тот день немецким летчикам. Мост впереди уцелел, дорога была открыта. Репродуктор долго хрипел, прежде чем отключился.
Давид встал, потер ладони, будто разогревал их перед работой, и стал вытаскивать на свет чемодан. Он был рабочим на мебельной фабрике и успел укрепить чемодан металлическими уголками.
– Ты что? – Тихо спросил Лазарь.
– Как что? Ты разве не слышал? Нужно идти. Я удивляюсь, что они нас до сих пор не призвали.
– Куда идти? – Заволновался Лазарь и выглянул в коридор. Места были заняты плотно. Слышали все, и их одногодки тут были и тоже слышали, но никакого движения не ощущалось. Ни звука вокруг, приходилось разговаривать вполголоса.
– Куда идти? – Драматически повторил Лазарь. – Мы уже едем. Едем.
– В военкомат. – Упрямо сказал Давид. – Ты же слышал.
– Ненормальный. Какая разница, что я слышал. А если бы я не слышал. Если бы я в туалете был. Или спал. Я очень хочу спать. Если бы не эти бомбы, мы бы уже были там. – Лазарь махнул рукой, показал направление. – Так что, мы виноваты? Нас здесь нет. Нет, ты понял? Ты видишь, все сидят. Никто никуда не идет. Сколько среди них девятьсот пятого года. Я тебя уверяю.
– Но мы здесь. – Возразил Давид. – Слушай, очень прошу. Ты должен остаться. Мужчина обязательно нужен. – Он показал на жену, застывшую в странном оцепенении, погладил по голове дочь и кивнул в сторону второй тетки – жены Лазаря. Та сидела, откинувшись, уперев руки в скамью. Большой живот мешал дышать, к тому же – жара, не хватало воздуха. Виктор должен был появиться со дня на день. Давид оглядел четырнадцатилетнего Леонида, который был готов оспорить слова об отсутствии мужчин, но больше говорить ничего не стал. Теперь он задумался над чемоданом.
– Ладно. Ничего брать не буду. Домой заскочу, а там дадут все, что нужно.
– Но мы уже едем. – Сказал Лазарь с отчаянием. – Ты что? Послушай, у меня идея. Давай подождем полчаса. Если будем стоять, я с тобой пойду. Точно пойду. Договорились. Так или нет?
– Будьте здоровы. – Давид показал, что вопрос решен, поцеловал дочь, а двинувшуюся было жену остановил рукой. – Не ходи за мной. Вы езжайте. Скоро все кончится, через несколько месяцев, и встретимся.
– Я совершенно мог этого объявления не слышать. – Сказал Лазарь, ни к кому не обращаясь, когда Давид вышел. – Я уже давно мог спать. Как только мы переедем мост и не будем нервничать, я лягу. А что делать?
И тут же тронулись. Так быстро, что успели увидеть Давида, он сосредоточенно шел по тропинке рядом с насыпью. Пыльное окно было закрыто, он не разглядел их. Встал и махал кепкой, пока эшелон не прошел.
Больше Давида никто не видел, кроме дедушки. Давид зашел попрощаться по дороге в военкомат. От Давида дедушка узнал, что наши уехали благополучно. Все это дедушка написал в единственном письме, отправленном до того, как вошли немцы. Он сообщал, что в городе спокойно, неожиданно много продуктов, и он иногда сомневается, стоило ли уезжать. За себя он точно рад, что не поддался на уговоры. Тем более, сейчас, когда начала спадать жара, бабушка чувствует себя намного лучше, и они, освободившись от заботы о детях, все время проводят вместе. Бабушка болела сердцем и, как выяснилось спустя несколько лет, успела умереть своей смертью. А дедушка почти сразу после ее похорон отправился в Бабий Яр. Он был верующим, когда-то преподавал по воскресеньям в еврейской религиозной школе. Я думаю, он собирался спокойно: дети успели уехать, жена умерла. Иегова позаботился, избавил его от тревоги за близких.
Дедушкино письмо, как и единственная открытка от Давида, пришли до востребования в конечный пункт назначения эшелона. Почта тогда в военное время работала лучше, чем сейчас в мирное. Давид сообщал, что его определили солдатом, вот-вот будут отправлять, и теперь он, зная, что семья в безопасности, совершенно спокоен за будущее. Эта открытка сохранилась. Чернила порыжели от времени и стали похожи, как ни банально сравнение, на запекшуюся кровь. Вместе с открыткой Лина хранит справку из Министерства Обороны – ответ на запрос, где сказано, что ее отец действительно служил в воинской части за номером таким-то и пропал без вести. С открыткой Лине повезло. В ней был указан номер полевой почты. А иначе, как докажешь? Так бы Давид и ушел с поезда бесследно.
Тетка, которая рыла окопы, успела выскочить из города буквально под носом у немцев. Она оказалась в Астрахани, куда перебрался и ее сын Леонид, прежде чем подошло его время отправляться на войну. Он успел, захватил последние месяцы, и даже солдатскую медаль За отвагу успел получить за бои в Венгрии. И куриной слепотой успел переболеть прямо в окопе. Как ему все это удалось, не представляю.
Остальные жили на Урале. Лазарь остался единственным кормильцем, тетки работали попеременно – нужно было нянчить детей. Прощальный наказ Давида Лазарь выполнил сполна. На производстве Лазарь сначала был рабочим, но потом выдвинулся и стал начальником участка по производству козырьков для офицерских фуражек. Нужное дело, хоть и не первое, которое приходит в голову при мысли о войне.
Настоящий успех пришел к дяде Лазарю после войны, когда родственники вернулись из эвакуации. Он стал фотографом. То было озарение, дар свыше. Зная беспокойную натуру дяди Лазаря, ничего лучше придумать было невозможно. Он неплохо зарабатывал и без конца влюблялся в женщин, которых фотографировал. Кажется, он готов был трудиться бесплатно. Это был непрерывный волнующий процесс, в котором работа с пленкой, реактивами, фотобумагой служила второстепенным дополнением к творческому акту, досадной данью за высокие минуты вдохновения. Главное было, конечно, в самих моделях. Тут дядя Лазарь намного опередил время. Вся витрина его заведения была сплошь завешана фотографиями хорошеньких женщин. Теперь на месте этой витрины огромный массив Союза Художников со скульптурами муз, налепленными на пустой фасад, а тогда места были непарадные, затертые годами прозябания и войны. Дома, как и люди, пропадают в безвременьи – безликие, унылые, неопрятные, с сырыми подворотнями, встроенными сапожными будками, приемом старья… и среди них единственная витрина на вековом заборе – застекленная, с замочком сбоку. Еще шаткая калитка во двор, наружная лесенка в тамбур… и дядя Лазарь собственной персоной. И, что удивительно характеризует целомудренную простоту того времени, витрина с фоточками оставалась целой зимой и летом, без взлома, вандализма или похабщины. Представьте себе. А ведь было на кого поглядеть. В витрине дядя Лазарь демонстрировал плоды вдохновения. Те давние фото были будто прообразом нынешних бронзовых муз, и, если говорить о некоем особом духе (теперь говорят – ауре) этого места, то дядя Лазарь, бесспорно, способствовал его зарождению. Как человек, подправляющий самого Творца, он, очевидно, мог называться художником, и сам, кстати, никогда в этом не сомневался. Витрина пользовалась успехом, сняться у дяди Лазаря считалось престижным. Он был тонкий знаток и психолог. На портретах женщины сидели (единственная поза, которую тогда можно было вообразить) удивительно разные, кокетливые, неприступные, надменные, улыбчивые, со строгими косами, уложенными венчиком, с легкомысленным перманентом, с короткой прямой стрижкой, открывающей шею, вернувшей довоенную моду после трофейных фильмов и одного нашего отечественного. Секретная миссия, если помните, где холодная красавица в эсесовской униформе оказалась трогательной московской комсомолкой и погибла за рулем авто, пытаясь вырваться из горящего Берлина. Какие то были кадры! На экране – весна сорок пятого, предвестница безнадежно забытой мирной жизни. И та же весна в душе дяди Лазаря. Он никогда не говорил: – сфотографировал, сделал фото, снимок, а только – портрет. Сделал портрет. Не иначе. И он был прав.

Можно представить, как точным движением скульптора он брал в свои руки женскую головку, как касался чуткими пальцами щек и розовой мочки уха, как изменял поворот, наклон лица, приближал подбородок к вытянувшейся с готовностью шее или, наоборот, удлинял линию, запрокидывая голову, чуть назад и вбок, от чего сами по себе приоткрывались зовущие губы, отходил для прикидочного осмотра, вновь возвращался, подправлял посадку, и раз, и два, не уставая, пока не достигал совершенства, выдвигал чуть вперед теплое плечико, не забыв отряхнуть с него невидимые равнодушному глазу пылинки, как пощелкивал пальцами укротителя над своим ухом, уточнял, пытался зафиксировать переменчивое направление женского взгляда, ловил, да что там!, создавал его выражение, каждый раз свое – кокетливое (глазками в сторону и чуть вверх), томно влекущее (исподлобья), роковое (и это удавалось), как последним жестом, уже прикидочно глянув в глазок аппарата, помогал распустить на виске локон страсти, приглаживал его, отстранясь, ловил перспективу, еще раз проверял свет, накидывал на голову черную попонку и – внимание, снимаю – изящно отводил в сторону крышку объектива, держа на отлете мизинец с артистическим ногтем, тронутым желтизной проявителя. Можно вообразить, как он создавал свою наивную и самоуверенную фотомодель и тут же влюблялся, и ликовал, и погибал, подобно альпинисту, под вызванным им самим обвалом.
То были его звездные дни. Можно вообразить, с какой неохотой дядя Лазарь возвращался по вечерам домой, в убогий флигель, застрявший в ряду таких же двухэтажных и одноэтажных домишек, выстроившихся вокруг большого шумного двора с его корытами, тазами, развешанным бельем, деревянным туалетом в дальнем углу, окольцованным белой полосой хлорки, двором, где все давно знали друг друга до последней картофелины на дне кастрюли с борщом, где он по-соседски, почти бесплатно снимал застолья, свадьбы, похороны, где его тонко организованная натура фотомастера должна была уживаться с пролетарской бесцеремонностью какого–нибудь дяди Коли и даже подыгрывать ему во избежание пьяного недоразумения.
В единственную комнату нужно было проходить через крохотную кухню, где постоянно гудел примус и запах керосина густо висел в воздухе, тетушка не только использовала горючее по прямому назначению, но и смазывала горло моего брата Виктора, излечивая его этим ненавистным средством от частых ангин. Что может быть досадней и пошлей для переменчивой натуры артиста, чем наш убогий послевоенный быт? Теперь мне смутно помнится, под влиянием настроения дядя Лазарь несколько раз уходил из дома. Тогда в детали меня, естественно, не посвящали, а сейчас выяснять уже не у кого, да и незачем. Поэтому я вспоминаю те давние события, как бы в отраженном свете, через случайно застрявшие в памяти и непонятые тогда впечатления детства, в частности, обиды моего отца, который нежно любил тетушку и не прощал дяде Лазарю его романтические порывы. С годами похождения дяди Лазаря, однако, становились короче, а периоды постоянства продолжительнее. Достоинства его интересной внешности слабели, добродетели тетушки проявлялись все очевидней, так что путем вычитания и сложения утвердилась крепкая семья. Наконец, как положено по закону соцреалистического жанра, счастье полностью восторжествовало, и дело завершилось получением новой квартиры, покупкой телевизора, мебели и, главное, кухни, на которой тетушка могла сполна проявить выдающееся кулинарное умение. Газовая плита сменила примус. Это была одна из верных примет того времени. Мудрая доброта тетушки и умение выслушивать, не перебивая, привели в их дом множество соседей, знакомых, родственников, сотрудников по кинофабрике, где тетушка всю послевоенную жизнь работала монтажницей. С нашей точки зрения, это было прекраснейшее место, на уровне кондитерской фабрики, а для культурных запросов – намного выше. Тетушка приносила Виктору кадрики из Тарзана и других шедевров, которые мы раскладывали по спичечным коробкам, а потом пускали через проектор на простыню, дополняя пробелы в изобразительном материале устным рассказом.
Приходили даже бывшие поклонницы дяди Лазаря, и тетушка, поднявшись над былой драмой, давала советы, чтобы, исправив любовную ошибку с ее легкомысленным супругом, они не повторили ее с кем-нибудь другим – более коварным и жестокосердным. Эти интересные подробности рассказала мне Люда – жена моего брата Виктора, красивая русская женщина совершенно славянского вида. Русоволосая сероглазая и к тому же учительница русского языка и литературы. Люду Виктор привез из Калининграда, где отбывал срочную армейскую службу. Там, на территории бывшей Восточной Пруссии Люда не имела о евреях ни малейшего представления, и первое, оказавшееся удачным, мнение сложилось у нее при общении с Виктором. Тетушка закрепила успех. В результате Люда стала горячей защитницей еврейского народа и получила настоятельную рекомендацию не посещать политинформации для педагогического коллектива. В школе, где она работала, ближневосточной проблеме уделялось немало внимания, а Людино мнение о евреях отдавало, по мнению лекторов, махровой сионистской пропагандой. Новообразованные слова как раз создаются для уточнения, так сказать, по факту сложившейся ситуации, и тут можно заключить однозначно, нравится это кому–нибудь или нет – Люда под влиянием тетушки объевреилась.
Спустя много лет я встретился с дядей Лазарем в больнице, куда его привезли с желудочными коликами. Подозревали пищевое отравление, нужно было понаблюдать дядю Лазаря пару дней, с пятницы до понедельника. Дядя Лазарь лежал в коридоре. Привезли его по скорой, в таких случаях привередничать не приходится, кладут на первое попавшееся место. В субботу я дежурил по больнице и заглянул к нему.
На дяде Лазаре была шелковая китайская пижама, называвшаяся Дружба. Под ней обнаруживалась голубая майка, чуть несвежая, как бывает, когда больного увозят из дома внезапно, неподготовленного. Мягкий живот дяди Лазаря зарос курчавым волосом и легко поддавался нажиму моих пальцев. Боли он не испытывал, хотя внимательно прислушивался к перемещениям моей руки, будто мы вместе общими усилиями искали нечто важное там внутри, и, пока я проводил инспекцию, он контролировал результаты своими средствами.
– О, здесь немного болит. – Быстро говорил дядя Лазарь, чтобы я не проскочил нужную точку. Моя рука забралась глубоко, почти под грудину. – О-о, болит. А ну, нажми еще раз. Да-а. Здесь немного болит.
– Все будет в порядке. – Сказал я твердо. Мою уверенность следовало передать сейчас дяде Лазарю. Он бдительно следил за моим лицом, пытаясь уловить следы сомнения в благополучных результатах осмотра.
– Ты думаешь, ничего нет?
– Все в порядке. – Я похлопал его по животу, натянул майку и запахнул пижаму. – Это вы что-то съели.
– Но откуда оно может быть? – Теперь, когда опасность миновала и приобрела новый сладостный оттенок счастливо завершенного приключения, дядя Лазарь не хотел расставаться с темой.
– Ну, мало ли. – Я старался, чтобы слова не выглядели легкомысленно и, вместе с тем, не заронили тревоги за будущее. – Съели, наверно, что-нибудь.
Дядя Лазарь лежал трогательно беспомощный и доверчиво смотрел на меня снизу вверх. Испуг еще таял в голубых глазах, не желая уходить окончательно. Обычный румянец покрывал щеки, только слева выполз тонкий склеротический паучок. Дядя Лазарь облизывал языком большие влажные губы, выдававшие гурмана и жуира, будто проверял устойчивость приятного состояния выздоровления, еще не доверяя ему окончательно, как слишком легко доставшейся победе.