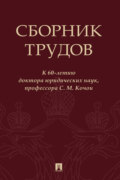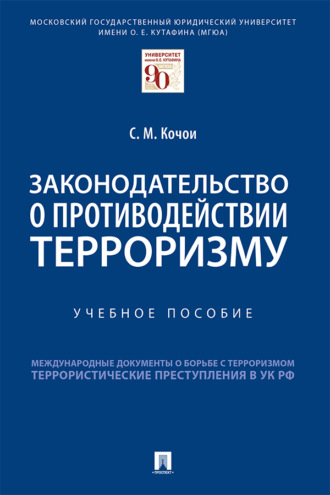
Самвел Мамадович Кочои
Законодательство о противодействии терроризму
§ 2. Международно-правовые акты о борьбе с терроризмом
Первый в истории современного международного права всеобщий документ о борьбе с терроризмом был принят еще в 1937 году. Однако разработанная тогда Лигой Наций Конвенция о предупреждении и наказании терроризма так и не вступила в силу[9]. В последующем всеобщие международно-правовые документы о терроризме готовились и принимались Организацией Объединенных Наций. На сегодняшний день действующими являются 16 таких документов, среди которых:
международные конвенции о борьбе с захватом заложников (1979 г.), с бомбовым терроризмом (1997 г.), с финансированием терроризма (1999 г.), с актами ядерного терроризма (2005 г.);
конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токийская конвенция, 1963 г.), о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаагская конвенция, 1970 г.), о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монреальская конвенция, 1971 г.), о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973 г.), о физической защите ядерного материала (1979 г.), о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (1988 г.), о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (1991 г.), о взаимной правовой помощи и выдаче в целях борьбы с терроризмом (2008 г.), о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации (Пекинская конвенция, 2010 г.);
протоколы о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию (1988 г.), о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (1998 г.), протокол к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (2005 г.), протокол, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Пекинский протокол, 2010 г.).
К важнейшим документам ООН (Генеральной Ассамблеи) следует относить и Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма (1994 г.), Декларацию о глобальных усилиях по борьбе с терроризмом (2001 г.), Декларацию по вопросу о борьбе с терроризмом (2003 г.), Венскую декларацию (2004 г.), а также Глобальную контртеррористическую стратегию ООН, принятую в 2006 г. в виде резолюции (60/288) и Плана действий.
Борьбе с терроризмом посвящен ряд резолюций также Совета Безопасности ООН, среди которых особо следует выделить Резолюцию 1373 от 28 сентября 2001 г. Во-первых, данная резолюция была единогласно принята в соответствии с Главой 7 Устава ООН, что делает ее обязательной для всех государств-членов ООН. Во-вторых, она предусматривает обмен соответствующей информацией между ними. Резолюция рекомендовала всем государствам как можно скорее ратифицировать все существующие международные конвенции и протоколы о борьбе с терроризмом. Также было заявлено, что все государства «должны обеспечить, чтобы террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения во внутригосударственных законах»[10]. В-третьих, для мониторинга положений рассматриваемой резолюции был учрежден Контртеррористический комитет Совета Безопасности[11].
В вышеуказанных международных документах воплощены некоторые руководящие принципы, среди которых такие, как признание важного значения уголовной ответственности за террористические преступления и необходимость отмены законодательных актов, которые предусматривают исключения из такой ответственности по политическим, философским, идеологическим, расовым, этническим, религиозным или аналогичным основаниям[12]. Наиболее опасные деяния признаны террористическими преступлениями, в частности, благодаря следующим документам ООН:
1. Гаагская конвенция (1970 г.) объявляет преступными действия любого лица на борту воздушного судна, находящегося в полете, кто «незаконно, путем насилия или угрозы применения насилия или путем любой другой формы запугивания захватывает это воздушное судно или осуществляет над ним контроль»;
2. Монреальская конвенция (1971 г.) объявляет преступными действия лица, незаконно и преднамеренно совершающего акт насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного судна в полете, если такой акт может угрожать безопасности этого воздушного судна, а также помещение на воздушное судно взрывчатого вещества;
3. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973 г.), требует, чтобы участники Договора устанавливали уголовную ответственность и предусматривали «соответствующее наказание с учетом тяжкого характера» за преднамеренное убийство, похищение или другое нападение против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой, насильственное нападение на официальное помещение, жилое помещение или транспортное средство такого лица, а также за угрозу совершить такое нападение;
4. Конвенция о заложниках (1979 г.) предусматривает, что «любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо для того, чтобы заставить третью сторону, а именно: государство, международную межправительственную организацию, какое-либо физическое или юридическое лицо или группу лиц – совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника, совершает преступление захвата заложников по смыслу данной Конвенции»;
5. Конвенция о ядерных материалах (1980 г.) устанавливает уголовную ответственность за незаконное владение, использование, передачу или кражу ядерного материала и угрозу использовать ядерный материал для причинения смерти, серьезных увечий или существенного ущерба собственности;
6. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (1988 г.), объявляет преступлением, действия лица по незаконному и преднамеренному захвату судна или осуществлению контроля над ним силой или угрозой силы или путем любой другой формы запугивания; совершение акта насилия против лиц на борту судна, если этот акт может угрожать безопасному плаванию данного судна; помещение или совершение действия в целях помещения на борт судна устройства или вещества, которое может разрушить это судно, и совершение других актов, направленных против безопасности судов.
Протокол к данной Конвенции (2005 г.) объявляет преступлениями: использование судна в качестве средства для совершения террористического акта; перевозку на борту судна различных материалов, когда известно, что они предназначены для использования с целью причинить или создать угрозу причинения смерти или серьезных увечий или ущерба для совершения террористического акта; перевозку на борту судна лиц, которые совершили террористический акт;
7. Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 г.) объявляет преступлением действия любого, кто «незаконно и преднамеренно доставляет, помещает, приводит в действие или взрывает взрывное или иное смертоносное устройство в пределах мест общественного пользования, государственного или правительственного объекта, объекта системы общественного транспорта или объекта инфраструктуры или таким образом, что это направлено против них с намерением причинить смерть или серьезное увечье, или с намерением произвести значительное разрушение таких мест, объекта или системы, когда такое разрушение влечет или может повлечь причинение крупного экономического ущерба»;
8. Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.) требует, чтобы участники Договора предпринимали шаги, с тем, чтобы воспрепятствовать и противодействовать финансированию террористов, независимо от того, осуществляется ли такое финансирование прямо или косвенно через организации, которые утверждают, что преследуют благотворительные, общественные или культурные цели, или также вовлечены в запрещенные виды деятельности, такие, как незаконный оборот наркотиков и поставки оружия; обязывает государства привлекать тех, кто финансирует терроризм, к уголовной, гражданской или административной ответственности за такие деяния;
9. Международная Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (2005 г.) устанавливает уголовную ответственность за незаконное владение радиоактивным материалом, его изготовление, использование, требование и угрозу использовать радиоактивный материал для причинения смерти, серьезного увечья или существенного ущерба собственности или окружающей среде, «или с намерением вынудить физическое или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить какое-либо действие или воздержаться от него»;
10. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации (2010 г.) объявляет преступлением незаконные акты против гражданской авиации, среди которых акты насилия на борту воздушного судна, разрушение его, использование воздушного судна для причинения смерти, разрушение или повреждение аэронавигационных средств, выбрасывание в борта любого оружия (биологического, химического или ядерного), и др.
Вместе с тем, к общим недостаткам документов ООН следует относить отсутствие в них определения самого преступления терроризма[13]. По этой же причине зашли в тупик многолетние (с 2000 г.) переговоры о принятии Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму. Целью Конвенции, работа над которой возложена на учрежденный в 1996 г. Специальный комитет[14], является запрещение всех форм международного терроризма, лишение террористов и их сторонников возможности получить финансовые ресурсы, оружие и убежище. Однако при этом возникает опасение, не приведут ли используемые в ней определения к смешению понятий «террористическая организация» и «освободительное движение», «государственный терроризм» и «деятельность национальных вооруженных сил»[15]. По мнению координатора переговоров Карлоса Диаса-Паниагуа, определение терроризма не может быть политическим, оно должно быть выработано с соблюдением надлежащей правовой процедуры, быть юридически определенным[16].
Определение преступления «терроризм», которое было внесено на рассмотрение разработчиков проекта Конвенции еще в 2002 г., гласит:
«1. Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если это лицо, с помощью любых средств, незаконно и умышленно причиняет:
(А) смерть или тяжкое телесное повреждение любому лицу, или
(Б) серьезный ущерб государственной или частной собственности, в том числе местам общественного пользования, государственному или правительственному объекту, объекту системы общественного транспорта, объектам инфраструктуры и окружающей среды, или
(В) повреждение имущества, мест, объектов или систем, указанных в Параграфе 1 (б) настоящей статьи, которые причиняют или могут повлечь причинение крупного экономического ущерба,
когда цель такого деяния в силу его характера или контекста состоит в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения любого акта»[17].
Само по себе данное определение терроризма, следует заметить, не вызывает споров. Разработчики проекта Конвенции спорят о том, возможно ли применение данного определения к деятельности вооруженных сил того или иного государств либо к движению за самоопределение. Координатор переговоров, поддержанный делегациями западных государств, предлагает следующие исключения для вышеназванного определения:
«1. Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает других прав, обязательств и ответственности государств, народов и отдельных лиц в соответствии с международным правом, в частности, в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права.
2. Деятельность вооруженных сил во время вооруженного конфликта, как эти термины понимаются в международном гуманитарном праве, которые регулируются этим правом, не регулируется настоящей Конвенцией.
3. Мероприятия, проводимые вооруженными силами государства в целях осуществления их официальных обязанностей, поскольку они регулируются другими нормами международного права, не регулируются настоящей Конвенцией.
4. Ничто в настоящей статье не освобождает от ответственности или делает законными незаконные акты, не препятствует привлечению к ответственности на основании других законов»[18].
Однако делегации государства-членов Организации Исламская Конференция предлагают иное исключение:
«2. Деятельность сторон в ходе вооруженного конфликта, в том числе в условиях иностранной оккупации, как эти термины понимаются в международном гуманитарном праве, которые регулируются этим правом, не регулируется настоящей Конвенцией.
3. Мероприятия, проводимые вооруженными силами государства в целях осуществления их официальных обязанностей, поскольку они соответствуют нормам международного права, не регулируются настоящей Конвенцией»[19].
Действительно, многие народы добились независимости или освободились от иностранной оккупации благодаря вооруженной борьбе против собственных марионеточных правительств или вооруженных сил иностранных государств. Партизаны в Советском Союзе, Франции или бывшей Югославии, боровшиеся против армии фашистской Германии и ее союзников в годы Второй мировой войны, не были террористами. Точно так же не были террористами повстанцы в Алжире, воевавшие против иностранной, колониальной армии Франции, и повстанцы в ЮАР, свергшие в результате вооруженной борьбы «свой» режим апартеида. Распространять на подобные движения определение «терроризма» (что, собственно, делали сами оккупанты и коллаборационисты), по нашему мнению, было бы кощунством, игнорированием уроков истории.
К сожалению, и сегодня есть на Земле территории, которые в международном праве определяют как «оккупированные территории». И точно так же есть режимы, которые из-за своей антинародной, репрессивной политики провоцируют свои народы на восстания и вооруженные конфликты. Поэтому задачей народов и государств является не лишение других народов права на развитие, в том числе путем реализации своего права на самоопределение[20], а сосредоточение усилий против любого насилия, в первую очередь, направленного против невинных, невооруженных лиц. В этом отношении нам представляется вполне возможным объединение вышеназванных исключений из определения терроризма, предлагаемых западными и исламскими государствами, следующим образом:
«2. Деятельность сторон в ходе вооруженного конфликта, в том числе в условиях иностранной оккупации, как эти термины понимаются в международном гуманитарном праве, которые регулируются этим правом, не регулируется настоящей Конвенцией.
3. Мероприятия, проводимые вооруженными силами государства в целях осуществления их официальных обязанностей, поскольку они регулируются другими нормами международного права, не регулируются настоящей Конвенцией.».
Однако если вопрос о едином определении в международном праве преступления терроризма – это вопрос будущего (хочется надеяться, ближайшего), то вопрос об имплементации международно-правовых норм о терроризме в национальном законодательстве – вопрос сегодняшнего дня.
Полагаем, что последний вопрос актуален для Российской Федерации, поскольку развитие современного российского уголовного законодательства происходит без учета отдельных положений международного права. Так, например, Гаагская конвенция (1970 г.) объявляет преступным захват находящегося в полете воздушного суда или осуществление контроля над ним, тогда как УК РФ (211) говорит о захвате такого судна только с целью угона. Монреальская конвенция (1971 г.) знает такое преступление, как «помещение на воздушное судно взрывчатого вещества», а УК РФ – нет. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973 г.), требует, чтобы была установлена уголовная ответственность за «преднамеренное убийство, похищение или другое нападение против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой, насильственное нападение на официальное помещение, жилое помещение или транспортное средство такого лица», а также за угрозу совершить такое нападение, тогда как УК РФ (ст. 360) предусматривает ответственность только за нападение на лиц, пользующихся международной защитой, их служебное или жилые помещения либо транспортные средства, и т. д.
Согласно части 2 ст. 1 УК РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права являются неотъемлемым источником отечественного уголовного права. Представляется, что нормы о терроризме (террористических преступлениях), предусмотренные в международных документах, должны быть текстуально, по возможности, в полном объеме отражены в УК РФ. Причем с учетом значимости этих норм, важности охраняемых ими объектов, а также опасности преступлений, предусмотренных ими, назрела необходимость объединения их (возможно, наряду с нормами о преступлениях экстремистской направленности) в отдельную главу УК РФ.
Для Российской Федерации, в силу известных причин, повышенный интерес представляют, в первую очередь, региональные, общеевропейские правовые акты о противодействии терроризму. Полагаем, что именно с этими актами[21] (анализ которых приведен ниже), в первую очередь, следует согласовывать национальное антитеррористическое законодательство.
Среди важнейших международных региональных документов, направленных против терроризма, следует упомянуть Европейскую конвенцию о пресечении терроризма от 27 января 1977 г.[22] Согласно статье 1 данного документа, для целей выдачи между Договаривающимися государствами ни одно из нижеперечисленных преступлений не будет рассматриваться в качестве политического преступления или преступления, связанного с политическим преступлением, или преступления, совершенного по политическим мотивам:
а) преступление, подпадающее под действие положений Конвенции по борьбе с преступным захватом воздушных судов (Гаагская конвенция 1970 г.);
b) преступление, подпадающее под действие положений Конвенции по борьбе с преступными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монреальская конвенция 1971 г.);
с) серьезное преступление, связанное с покушением на жизнь, физическую неприкосновенность или свободу лиц, находящихся под международной защитой, включая дипломатических агентов;
d) преступление, связанное с похищением, захватом заложников или серьезным незаконным насильственным удержанием;
е) преступление, связанное с применением бомб, гранат, ракет, автоматического стрелкового оружия или письма или посылки, если подобное применение создает опасность для людей;
f) покушение на совершение одного из вышеуказанных преступлений или участие в качестве сообщника лица, которое совершает или пытается совершить подобное правонарушение.
Согласно ст. 5 Европейской конвенции, любое государство, ее подписавшее, не обязано выдавать преступника иностранному государству, если данное государство «имеет серьезные причины полагать», что просьба о выдаче преступника «представлена с целью преследования или наказания лица по соображениям расы, национальности или политических взглядов или вследствие того, что положение этого лица может быть ухудшено по одной или другой из этих причин»[23]. Однако данное положение, полагаю, не входит в противоречие со ст. 1 Конвенции, не является ее недостатком. Наоборот, оно представляется достаточно гибким и практически необходимым (особенно не для граждан государств-членов ЕС, преследуемых в своих государствах именно по перечисленным в ст. 5 Конвенции признакам).
Недостатком же Конвенции следует считать оговорку, содержащуюся в ст. 12, согласно которой каждое государство «может при подписании или в момент передачи документа о ратификации указывать территорию или территории, на которые распространяется настоящая Конвенция». Таким же образом следует оценивать оговорку в ст. 13 Конвенции о том, что каждое государство «может в момент подписания или в момент передачи документа о ратификации объявить о том, что оно сохраняет за собой право отказаться от передачи преступника иностранному государству в случае каждого правонарушения, указанного в статье 1, которое оно рассматривает в качестве политического правонарушения, или как правонарушение, связанное с политическим правонарушением, или как правонарушение, вызванное политическими побуждениями». По моему мнению, реализация указанных оговорок лишает Конвенцию обязательной и общеевропейской силы.
13 мая 2003 года был подписан Протокол о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма. Данный документ заменил перечень террористических преступлений (установленный в ст. 1 Европейской конвенции) посягательствами, подпадающими под действие:
c) Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973 г.);
d) Международной конвенции о борьбе с захватом заложников (1979 г.);
e) Конвенции о физической защите ядерного материала (1979 г.);
f) Протокола о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию (1988 г.).
Кроме этого, Протокол дополнил указанный перечень новыми преступлениями, подпадающими под действие положений:
g) Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (1988 г.);
h) Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (1988 г.);
i) Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 г.);
j) Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.).
Положения новой редакции ст. 1 Европейской конвенции были распространены также на соучастников, организаторов и руководителей, а также лиц, покушавших на совершение любого из вышеперечисленных террористических преступлений[24].
Протокол (ст. 4) внес важные изменения также в ст. 5 Европейской конвенции. Согласно новым ее пунктам, ничто в Конвенции не должно толковаться как возложение обязанности на запрашиваемое государство выдать лицо, если такому лицу в запрашивающем государстве грозит смертная казнь или пожизненное лишение свободы без права на досрочное освобождение. Лицо может быть выдано, если только запрашиваемое государство получит гарантии, которое оно считает «достаточными», что смертная казнь не будут вынесена или данное лицо не будет осуждено пожизненно без права на досрочное освобождение[25].
Еще одним региональным правовым актом, на основании которого ведется борьба с терроризмом, – Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г.[26] Документ (ст. 1) непосредственно не раскрывает содержание понятия «террористические преступления», понимая под ним любое преступление, подпадающее под действие следующих договоров:
1. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 16 декабря 1970 г.;
2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, заключенная в Монреале 23 сентября 1971 г.;
3. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая в Нью-Йорке 14 декабря 1973 г.;
4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая в Нью-Йорке 17 декабря 1979 г.;
5. Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3 марта 1980 г.;
6. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, совершенный в Монреале 24 февраля 1988 г.;
7. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, совершенная в Риме 10 марта 1988 г.;
8. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный в Риме 10 марта 1988 г.;
9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая в Нью-Йорке 15 декабря 1997 г.;
10. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая в Нью-Йорке 9 декабря 1999 г.
Здесь, действительно, следует согласиться с Хансом-Питером Гассером в том, что терроризм – это социальное явление, «слишком сложное, чтобы подлежать простому и практическому определению»[27]. Поэтому Конвенция 2005 г., как и все ранее рассмотренные международно-правовые акты, касающиеся борьбы против терроризма, дает определение терроризма традиционным способом – «путем перечисления конкретных видов преступных актов»[28].
В Конвенции, вместе с тем, непосредственно раскрываются такие понятия, как «публичное подстрекательство к совершению террористического преступления» (ст. 5), «вербовка террористов» (ст. 6) и «подготовка террористов» (ст. 7). Каждое государство должно принимать меры для признания в своем внутреннем законодательстве указанных деяний, в случае их совершения незаконно и умышленно, преступлениями. Аналогичная мера должна быть применена также в отношении «сопутствующих преступлений», к которым Конвенция (ст. 9) относит:
а. соучастие в преступлении, указанном в статьях 5–7 Конвенции;
b. организация или наставление других лиц на совершение преступления, указанного в статьях 5–7 Конвенции;
c. содействие совершению одного или нескольких преступлений, указанных в статьях 5–7 настоящей Конвенции, группой лиц, действующих с общей целью. При этом такое содействие должно быть умышленным и оказываться:
i. либо в целях содействия преступной деятельности или достижения преступной цели группы, если такая деятельность или цель связаны с совершением преступления, указанного в статьях 5–7 Конвенции,
ii. либо при осознании умысла группы совершить преступление, указанное в статьях 5–7 Конвенции.
Конвенция предлагает государствам также устанавливать юридическую, включая уголовную, ответственность юридических лиц за совершение любого преступления, предусмотренного статьями 5–7 и 9.
Согласно ст. 20 Конвенции, ни одно из преступлений, перечисленных статьями 5–7 и 9, не рассматривается для целей выдачи или взаимной правовой помощи как политическое преступление или преступление, связанное с политическим преступлением, или преступление, совершенное по политическим мотивам. Однако Конвенция (ст. 21) не налагает обязательство выдавать какое-либо лицо или оказывать взаимную правовую помощь, если запрашиваемое государство имеет «веские основания» полагать, что просьба о выдаче в связи с преступлениями, указанными в статьях 5–7 и 9 Конвенции, или о взаимной правовой помощи в отношении таких преступлений имеет целью уголовное преследование или наказание этого лица по причине его расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из вышеупомянутых причин. Такое обязательство отсутствует также в случае, если лицо, к которому относится просьба о выдаче, может быть подвергнуто пыткам или бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания либо подвергнуто смертной казни или пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Исключение составляют случаи, «когда согласно применимым договорам о выдаче запрашиваемая Сторона обязана осуществить выдачу, если запрашивающая Сторона предоставляет гарантию того, что смертная казнь не будет назначена, или, в случае ее назначения в качестве наказания, не будет приведена в исполнение, или что это лицо не подвергнется пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, и запрашиваемая Сторона сочтет такую гарантию достаточной»[29].