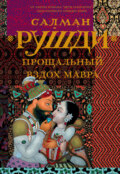Салман Рушди
Город Победы
5
Доминго Нуниш оставался в Биснаге, городе, которому он дал имя, до тех пор, пока Пампа Кампана не разбила ему сердце. В первые годы, когда он не был уверен в собственном статусе и боялся, что кто-то из царственных братьев может подослать убийцу, который безлунной ночью вонзит ему в грудь нож, он надолго уезжал на запад, за море, чтобы купить у арабов лошадей, привезти их через гоанский порт и продать старшему конюху города, кавалерия которого наряду с лошадьми использовала также слонов и верблюдов и разрасталась с каждым годом по мере того, как ширился размах империи. Находясь в Биснаге, он старался не привлекать к себе внимания и продолжал довольствоваться скромным пристанищем на сеновале старшего конюха. Пампа Кампана посещала его чаще, чем было разумно, но в семье конюха все делали вид, что не замечают этого, – они тоже боялись навлечь царский гнев на свои причастные головы. Однако в конце концов своим искусством в обращении со взрывчатыми веществами и ценностью для империи в части обеспечения военным снаряжением Доминго Нуниш завоевал расположение к себе. Ему был дарован титул Главного по Взрывчатке Надежного Чужеземца, было положено хорошее жалованье и предложено оставить торговлю лошадьми и посвятить себя делу Биснаги. Когда Пампа Кампана и Хукка Райя I решили пожениться, этого новоиспеченного дворянина-иностранца сочли фигурой достаточно значимой, чтобы отправить приглашение на царское бракосочетание, на которое он, несмотря на испытываемые чувства, после серьезной внутренней борьбы явился.
Брак Хукки Райя I и Пампы Кампаны заключался не по любви, во всяком случае со стороны невесты. Царь же вожделел ее с тех пор, как впервые увидел, и все это время ждал – ждал дольше, чем готов ждать любой из царей, – что она примет его предложение. Он не был слепцом и имел глаза и уши повсюду, на каждой улочке города, и потому ему было отлично известно, что его возлюбленная наносит регулярные ночные визиты на некий сеновал, и в день, когда она окончательно уступила его уговорам, прямо заявил ей, что все знает. Он пригласил ее прогуляться в дворцовом саду, где они могли поговорить в большем уединении, нежели в кишевших любителями подслушивать внутренних покоях, и спросил, по какой причине она наконец-то решилась.
– Существуют вещи, которые нужно сделать во имя общего блага, то, что больше нас самих, – ответила она, – то, что мы делаем во имя будущего.
– Я надеялся услышать какую-нибудь личную причину, – настаивал Хукка.
– Что касается личного, – пояснила она, пожав плечами, – ты знаешь, куда отдано мое сердце, и должна тебя заверить, я не откажусь от интересов своего сердца и тогда, когда приму твое предложение ради того, чтобы положить начало кровной преемственности для империи.
– И ты ожидаешь, что я стану мириться с этим? – спросил ее взбешенный Хукка. – Да я прямо сегодня отрублю этому ублюдку голову.
– Ты этого не сделаешь, – возразила она, – потому что ты тоже стремишься действовать во имя будущего, и потому, что тебе нужны его китайские премудрости. А еще – если говорить о личном – если ты причинишь ему вред, то вовеки не притронешься ко мне и пальцем.
Хукка буквально кипел от злобы и разочарования.
– Существует очень мало мужчин, не говоря уже о монархах, которые считали бы брак с – прошу извинить меня за прямоту – падшей женщиной – некоторые сказали бы шлюхой – по меньшей мере распутницей – которая свободно – некоторые сказали бы бесстыдно – с позволения сказать, путается – с человеком, который даже не принадлежит к их расе и не исповедует их религии – и которая ставит своего будущего супруга в известность о своем намерении продолжать свое неприемлемое – я бы сказал развратное – поведение после того, как они поженились, – орал он, не обращая внимания на то, что его могли услышать.
Однако его полностью вывела из себя и заставила остановить свою руладу ее неожиданная реакция, взрыв гомерического хохота, как будто он только что сказал самую смешную на свете вещь.
– Не вижу ничего смешного, – ледяным тоном проговорил Хукка, но Пампа Кампана уже рыдала от смеха и показывала на него дрожавшим от хохота пальцем.
– Твое лицо, – произнесла она, – оно все покрыто пятнами. Гнойные прыщи, боже милостивый! Всякий раз, когда ты произносил свои дурные слова, у тебя на коже выскакивал новый прыщ. Думаю, тебе следует почистить свой язык, иначе твое лицо превратится в один большой нарыв.
Хукка в ужасе поднес руки к лицу и прощупал лоб, щеки, нос, подбородок и – да, они были повсюду – пустулы. Было ясно: волшебство Пампы Кампаны сильно превосходит магию с семенами. Он осознал, что боится ее, а минутой позже понял также, что страх перед ее магией вызывает у него сексуальное возбуждение.
– Давай поженимся прямо сейчас, – предложил он.
– Только после того, как ты примешь мои условия, – настояла она.
– Все, что тебе угодно, – закричал он. – Да, я согласен. Ты так невероятно опасна. Ты должна быть моей.
После свадьбы и на протяжении первых двадцати лет существования Империи Биснага царица Пампа Кампана открыто имела двоих любовников, царя и чужеземца, и даже несмотря на то, что обоих мужчин не устраивало подобное положение вещей и они часто об этом говорили, Пампа лавировала между ними с безмятежностью, свидетельствовавшей о том, что она не испытывает в связи с этой ситуацией никаких трудностей, что вызывало у мужчин еще большее недовольство. Соответственно, оба искали способы, как надолго оказаться вдали от источника своих неудобств. Доминго Нуниш, создавший в империи огромный склад, забитый мощной взрывчаткой, снова ударился в торговлю лошадьми, находя в любви этих животных некоторое утешение в связи с тем, что ему принадлежит лишь половина любви его желанной женщины. Что же до Хукки Райи I, он погрузился в великое дело выстраивания империи, основывал неприступные крепости в Баркуру, Бадами и Удаягири, захватывал все земли вдоль реки Пампы и завоевывал право именоваться монархом целой страны между восточным и западным морями. Ничто из этого не приносило ему счастья.
– Неважно, сколько у тебя земель, – жаловался он Пампе Кампане, – и в водах скольких морей ты можешь омыть ноги, если у твоей жены две кровати в двух разных домах и тебе принадлежит лишь одна из них.
Когда Хукка был в отъезде, Букка попытался разрешить ситуацию в интересах брата. Он пригласил Пампу Кампану прогуляться вдоль берега реки, имя которой она носила, чтобы убедить ее порвать свою связь с чужеземцем.
– Подумай об империи, – умолял он ее. – Мы все поклоняемся тебе как чародейке, давшей всему этому жизнь, но мы ожидаем также, что ты будешь хранить свое высокое положение и не соскользнешь в сточную канаву.
Грубое звучание этого убогого имени, сточная канава, побудило Пампу ответить ему.
– Открою тебе секрет, – сказала она. – У меня будет ребенок, и я не уверена, кто из двоих его отец.
Букка замер на месте.
– Это ребенок Хукки, – заявил он, – даже не сомневайся в этом, иначе город, что ты построила, развалится на части и рухнет, а его стены раскрошатся и забьют нам уши.
В течение трех последующих лет Пампа Кампана родила троих дочерей, после чего имя чужеземца нельзя было произносить в стенах дворца или любом другом месте, где находился ее супруг, и никому, под страхом смерти, не дозволялось замечать иберийскую красоту юных царевен, их светлую кожу, рыжеватые волосы, зеленые глаза и прочее. Позднее эти внешние признаки еще посеют в государстве смуту, но пока право царевен принадлежать царской семье и быть наследницами не подвергалось сомнению. Однако сам Хукка замечал то, что было заметно, он сделался мрачным и замкнутым, в том числе и потому, что Пампа Кампана оказалась неспособна родить ему сына. С годами, несмотря на военные триумфы, его тоска только крепла, и его стали называть монархом мрачного нрава. Когда он уезжал завоевывать и покорять, то чувствовал себя лучше, ведь убивать соперников на поле боя было приятнее, чем не убить своего любовного соперника дома. Каждый убитый им человек имел лицо Доминго Нуниша, но удовлетворение быстро проходило, ведь настоящий Доминго Нуниш там, в Биснаге, ублажал царицу. Хукка возвращался в свой дворец, весь в крови и неудовлетворенности, и чувство этой ненужной любви привело его к Богу.
Одним жарким засушливым днем в последний год своего правления он созвал всех своих братьев в Манданский матт на освящение нового строящегося там храма. К этому времени Чукка Сангама стал законным регентом в Неллоре, Пукка – несомненным лидером, правителем Мулбагала, а Дев в буквальном смысле восседал на курси в Чандрагутти. Они прибыли в Мандану в ореоле блеска, окруженные конными рыцарями и флагами, вместе со ставшими их женами и правительницами воительницами-стражами, Горными Сестрами Шакти, Ади и Гаури. Хукка наблюдал за прибытием своих женатых братьев с некоторой завистью – их женщины не спят с ублюдками чужеземцами, верно? – но вспомнил о том, что Сестрам приказано перерезать своим мужьям горло, если только они решат подумать о том, чтобы пойти против царя Биснаги, коим, скажем прямо, являлся он сам. Он лично отдал им этот приказ, и в преданности Сестер сомневаться не приходилось.
– Полагаю, что лучше иметь неверную жену, – сказал он сам себе, – чем жену, которая больше предана твоему брату, чем тебе, а потому ее нож всегда находится у твоего предательского горла.
Чукка, самый разговорчивый из братьев, громогласно заявил, что потрясен тем, что видит в Мандане.
– Что здесь произошло? – прокричал он. – Неужто кто-то из богов сошел на землю и решил превратить пещеру отшельника во дворец?
И вправду, Мандана была в процессе превращения в крупнейший центр религиозного паломничества, с толпами паломников и священнослужителей, со строящимися крикливыми архитектурными сооружениями, которые должны были стать столь же чрезмерно украшенными, сколь скромным было старое аскетичное убежище святого Видьясагара, Океана Учености.
Видьясагар вышел вперед, чтобы лично ответить.
– Боги способны делать вещи лучше, чем строить храмы, – заявил он, – однако для человека нет долга почетнее, чем этот.
– Будь аккуратней, – предупредил своего брата Хукка, – ты сейчас на грани богохульства, и, если свалишься в эту яму, никакие молитвы не смогут спасти твою грешную душу.
– Выходит, ты тоже изменился, как и это место, – парировал Чукка, – возможно, превращая Мадану в храм-дворец, ты считаешь себя царем и здесь.
– Второе предупреждение, – произнес Хукка Райя, и супруга Чукки Шакти положила руку на рукоять кинжала у себя на поясе.
– Но храм еще не достроен, – продолжал Чукка. – Все, что пока у тебя есть, – половина надвратной башни-гопурама, Врат Бессмертия. Так что я думаю, ты сам тоже не закончен – и не божественный, и не бессмертный, – по крайней мере пока.
– Мы собрались, чтобы посвятить этот храм Господу Вирупакше, который есть Шива, могущественный супруг речной богини Пампы, которая есть Парвати, – злобно проговорил Хукка, – а потому я не стану сегодня проливать вашу кровь. Сегодня у нас более высокая цель. Помимо храма, мы должны поговорить об Алмазном Султане Голконды на севере, который на свою голову становится слишком могущественным, и исповедует чуждую веру, и потому должен быть объявлен нашим смертным врагом. Я уже не говорю обо всех его алмазных копях.
Ему отвечал Пукка, самый разумный из братьев Сангама.
– Я отлично понимаю про алмазные копи, – заявил он, – но все остальное, вся эта чуждая вера… Не будь глупцом. Букка всегда говорил, что ни одному из вас нет дела до крайней плоти, что она обрезана, что нет, и вдруг ты стал ненавистником обрезанных? Говорить такое просто неразумно. По меньшей мере треть армии Биснаги и, наверное, половина торговцев и владельцев лавок, что торгуют на улицах, исповедуют эту чуждую веру. Они все что, тоже враги, вот так вдруг? А Букка поддерживает тебя в этом твоем новом радикальном видении? И где, кстати говоря, сам Наследник Престола?
– Да ладно, – отозвался Хукка Райя I, – хватит споров. Видьясагар, прошу тебя начать освящение. Мы должны просить Господа быть к нам милостивым, даже к тем, чья вера слаба.
– Ты и правда поменялся с годами, – впервые заговорил Дев Сангама. – Думаю, прежним ты мне больше нравился. С твоего позволения я задам вопрос: если целый город Биснага вырос за одну ночь сразу вместе с жителями, если на следующий день вокруг него выросли стены, и если все это было сделано посредством мешка семян, почему то же самое не происходит сейчас здесь с этим храмовым комплексом? Почему мы не можем просто сидеть и наблюдать за магическим действом, как храм вырастает прямо на наших глазах?
Царица Пампа ответила вместо царя.
– Волшебный поток не бесконечен, – сказала она, – божественные чары иногда даются людям, когда они первыми делают что-то в этом мире. Начальный период проходит, за ним наступает время, когда люди должны научиться стоять на своих собственных ногах, добиваться всего самостоятельно и одерживать победы в собственных битвах. Можно сказать, ты начинаешь, как дитя, но потом должен вырасти и жить во взрослом мире.
– Ты – мать империи, – отвечал Дев Сангама, – но сегодня твои сказанные с любовью слова звучат немного резко.
На грязных задворках города Биснага в малопривлекательной таверне под названием “Кешью” в тот самый момент, когда происходило освящение храма, Букка Сангама пил день напролет в компании своего товарища по дебоширству, седого старого солдата по имени Халея Коте, который приобщил наследника престола к радостям, что несет с собой приготовленная из кешью фени, недавно появившийся в городе напиток. Фени изготавливали из разных продуктов, в основном из плодов кокосовой пальмы тодди, но этот новый напиток был совершенно другим, вкуснее, как считали многие пьяницы, а еще – по крайней мере по распространенной в этой торгующей им таверне версии – гораздо забористее. Орехи кешью стали еще одним великим даром, привезенным португальцами из-за морей вместе с арабскими скакунами, и на самом деле этой таверной втайне владел Доминго Нуниш, который, однако, предпочитал скрываться за спинами доверенных дневных и ночных работников, справедливо опасаясь, что Пампа Кампана подобное не одобрит. В этом длинном, темном и тесном заведении выпивохи сидели на простых трехногих табуретах возле непокрытых деревянных столов у двери, они потягивали забористую фени и двигались, в зависимости от своей природы, к счастью либо меланхолии, в то время как на задворках заведения происходили вещи, которые правильнее всего было бы скрыть завесой. Однако после нескольких рюмок восприятие пьющих заметно притуплялось, и происходящее на заднем дворе уже не вызывало интереса.
Халея Коте не принадлежал к жителям Биснаги, взращенным из волшебных семян. Он сражался вместе с Хуккой и Буккой в их бытность солдатами, был старше братьев по меньшей мере на десяток лет и более искушен в искусстве войны, однако вместе с ними также был схвачен армией северного султана и, как они, сумел сбежать из рабства в далеком Дели, спустя несколько лет после них. Он прибыл в Биснагу более седым и истощенным, чем запомнился братьям, но благодаря пристрастию к выпивке стал быстро поправляться. К моменту, когда он добрался до Биснаги, Хукка уже потерялся в золотых лабиринтах царствования и не мог уделять много времени друзьям прошлых дней, но Букка был рад увидеть знакомое лицо – того, с кем он мог разделить настоящие, а не нашептанные Пампой Кампаной воспоминания. С годами, когда личные обиды заставили Хукку броситься в объятья религии, между братьями пролегла пропасть – Букка по-прежнему относился к вопросам веры с жизнерадостной обыденностью, в то время как его старший брат жил все более аскетично. К тому же младшего брата начал беспокоить вопрос наследования. Будет ли сдержано данное ему Хуккой обещание? Что он, Букка, сменит на троне своего брата, или кто-то из царственных португальских выродков попытается захапать империю. Он пригласил Пампу Кампану на еще одну долгую прогулку по речному берегу, чтобы обсудить это, и услышал поразительно позитивный ответ.
– Ты непременно станешь царем после своего брата, – сказала ему Пампа Кампана, – и, если быть до конца честной, я не могу дождаться, когда стану твоей царицей.
Букка почувствовал, как вдоль позвоночника у него побежали мурашки испуга. Он знал, что его брат-царь с трудом выносит, что красивая голова Доминго Нуниша все еще держится на его длинной и изящной шее, и вот теперь другой голове и другой шее – его собственным – также угрожает опасность быть разделенными. Если до Хукки Райи дойдет хотя бы намек о том, что его жена, похотливая красавица, которую ни время, ни материнство не могут ни состарить, ни сдержать, готова оказаться в постели его брата, едва он умрет – что она буквально не может этого дождаться, и по собственному признанию, торопит день Хуккиной смерти! – тогда ручейки крови превратятся в потоки, и империя погрязнет в смертоносной гражданской войне.
– Мы с тобой больше не должны говорить друг с другом, – заявил он Пампе Кампане, – пока не наступит этот день.
После он начал пить. Халея Коте прибыл в город в самое подходящее время, как раз когда наследнику престола потребовался собутыльник, и вскоре они стали неразлучной парочкой. Хукка, понятия не имевший об общении Букки с Пампой Кампаной, очень горевал, что его младший брат скатился на дно стакана, и начал угрожать ему тем, что исключит его из царского совета, являвшегося правительством города и надзорным органом всей империи, пока он не очистится и не изменит образ жизни, и после того, как Букка не продемонстрировал ни малейшей готовности к очищению, на самом деле исключил наследного принца из этого достойного собрания, тем самым предав огласке то, о чем уже давно потихоньку шептались: две самых значимых в империи фигуры, отцы-основатели Биснаги, не ладят между собой. Это привело к расколу при дворе. Те, кто восхищался правлением Хукки, его эффективным администрированием и множественными победами на полях сражений, отвернулись от пьяницы Букки, тогда как другие, заметив, что царя начало подводить здоровье и он стал склонен к головным болям, лихорадкам и простудам, решили, что в их собственных интересах проявить большую лояльность к наследнику престола, нежели к самому царю. Тем временем наследник престола коротал дни в таверне “Кешью”, окутанный туманом, столь кстати вызванным фени.
За эти годы Букка стал популярен в городе благодаря своей веселой буффонаде и отсутствию царственного высокомерия. В отличие от все более сурового и меланхоличного царя он был человеком, на которого жители города могли положиться в гораздо большей мере. Позднее, когда он сделался важным монархом, люди недоумевали, прикидывался ли Букка в эти свои пьяные дни либо на самом деле был полнейшим дураком. Сам Букка лишь однажды дал весьма загадочный ответ на этот вопрос:
– Я намеренно выглядел глупо, – заявил он. – Для контраста, чтобы выглядеть лучше, когда я сброшу глупость и водружу имперскую корону.
Никто не задавался подобными вопросами в отношении Халея Коте, все гнали прочь этого жирного потрепанного жизнью старого пропойцу. Однако на самом деле Коте был членом – а возможно, и лидером – подпольной экстремистской группировки под названием “Ремонстрация”, распространявшей листовки, разъясняющие так называемые “Пять Ремонстраций”, которые были направлены против “структурных элементов” главенствующей религии, представлявшей собой, по сути, власть духовенства, содержали обвинения в коррупции по сословному принципу и требовали проведения радикальных реформ. В Первой Ремонстрации они заявляли, что религиозный мир в целом слишком сблизился со светской властью, следуя плохому примеру самого отшельника Видьясагара, и что людям, занимающим важные посты в религиозных органах империи, следует запретить входить в состав органов, осуществляющих руководство городом. Во Второй Ремонстрации они критиковали новые церемониальные практики массовых коллективных богослужений, возникшие в связи с недавним освящением нового храма, которые, как они считали, не имели под собой теологических оснований и не упоминались в священных текстах. В Третьей Ремонстрации они выдвигали предположение, что аскетизм в целом и целибат духовных лиц в частности приводят к распространению содомистских практик. В Четвертой Ремонстрации они заявляли, что по-настоящему верующим людям необходимо воздерживаться от участия в военных действиях любого рода. В Пятой же Ремонстрации они выступали против искусства, утверждая, что прекрасному, архитектуре, поэзии и музыке, придается слишком большое значение и что внимание, уделяемое всяческим фривольностям, следует немедленно и навсегда направить на почитание богов.
Раннее появление диссидентов, возможно, свидетельствовало о быстро набиравшем обороты взрослении и полной завершенности города и разраставшейся вокруг него империи. И все же в Биснаге нашлось немного сторонников Ремонстрации, ведь здешние жители любили все прекрасное, гордились окружавшей их со всех сторон изящной архитектурой и получали удовольствие от поэзии и музыки; наряду с гетеросексуальными они также с энтузиазмом наслаждались содомистскими практиками, многие биснагцы не считали необходимым испытывать любовь исключительно к представителям противоположного пола и получали не меньшее удовольствие от тесного общения со своим собственным. На закате можно было наблюдать, как парочки всех сортов совершают свой вечерний променад – без стеснения держась за руки, выходили подышать воздухом мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, и мужчины с женщинами, разумеется, тоже. Не те это были люди, чтобы посчитать сексуальные ограничения ремонстрантов оправданными. Люди также боялись поддерживать политические оценки ремонстрантов. Сомнения в добродетели божественного Видьясагара, а еще пацифистский отказ от войны в то время, когда армии Биснаги зарекомендовали себя как практически непобедимые, и громкие обвинения в коррупции в обществе – пропаганда подобных взглядов означала бы прямую дорогу к смерти. А потому Ремонстрация так и не смогла перерасти во что-то большее, нежели маленький культ, и Халея Коте заливал свои горести фени.
Наследник престола знал обо всем этом, но не подавал виду, что знает – ни в тот день в “Кешью”, когда где-то в другой части города освящали храм, ни в какой-либо другой день. Если бы какой-то шпион подошел к нему и сказал, что он напивается с самым известным подпольным повстанцем империи, ее ведущим потенциальным революционером, он бы изобразил шок и сказал шпиону, что больше не сможет спокойно пить свою фени. А если бы Халея Коте заподозрил, что великий и решительный царь медленно прорастает из кожи разухабистого царевича, царь, имеющий четкий план, как поступить с культом ремонстрантов, то начал бы беспокоиться о безопасности своей собственной головы. Но пока, как бы то ни было, они проводили свои послеполуденные часы счастливо, не проявляя явных забот о судьбах мира. Они оставили будущему наступить, когда придет его время.
Доминго Нуниш как язычник-христианин, естественно, не присутствовал при освящении храма. Однако в ту ночь его посетила Пампа Кампана. После многих лет на сеновале Нуниш в конце концов приобрел небольшой домик в безымянной части города, который почти целиком забил стопками бумаги, на которой описывал время, проведенное в Биснаге. Это место продувается ветрами, писал он, равнинная страна, если не учитывать наличие гор; при этом ближе к западу ветра дуют с меньшей силой, благодаря многочисленным рощам, в которых растут манго и джекфруты. Ему было интересно фиксировать банальности, создавать полные списки домашних животных и возделываемых культур региона – коров, буйволов, овец и птиц, ячменя и пшеницы, – словно он был фермером, пусть он ни дня не проработал на какой-либо ферме. Направляясь сюда из гоанского порта, я обнаружил дерево, под которым триста двадцать лошадей смогли укрыться от зноя и дождя. И все в таком духе. Он описывал засухи летом и наводнения во время сезона дождей. Писал о храме слоноголовьего бога и женщинах, находящихся в собственности храма и танцующих для бога. Это женщины легких нравов, писал он, но они живут на лучших улицах города, могут посещать любовниц царя и жевать вместе с ними бетель. К тому же они едят свинину и говядину. Он написал очень много на самые разнообразные темы – о том, как царя ежедневно обильно умащают кунжутным маслом, о постах на протяжении года и о многом другом, что не представляло для местных жителей никакого интереса, поскольку было им хорошо известно. Эти записи очевидно предназначались для зарубежного употребления. Когда Пампа Кампана увидела записи на языке, прочесть который не могла, то начала гадать, зачем они могут быть предназначены, и спросила Нуниша, не собирается ли он уехать из Биснаги – не для того, чтобы купить лошадей на продажу, а навсегда. Доминго Нуниш тут же отрекся от любых подобных планов.
– Я просто делаю записи, из собственного интереса, – отвечал он, – потому что это удивительное место, и оно достойно того, чтобы быть увековеченным должным образом в хронике.
Пампа Кампана ему не поверила.
– Я думаю, ты боишься царя и решил сбежать, – заявила она, – хотя я много раз тебе говорила, что, пока ты под моим покровительством, никто не сможет тебе навредить.
– Дело не в этом, – возразил Доминго Нуниш, – потому что я люблю тебя сильнее, чем кого-либо любил в жизни. Но мне стало ясно, что ты любишь меня меньше – и не только из-за того, что я вынужден делить тебя с царем! – хотя да, частично из-за этого! – и даже не потому, что ты заставила меня отказаться! – просто не замечать! – трех славных девочек, про которых нельзя сказать даже шепотом, что они похожи на меня как две капли воды! – хотя да, частично и из-за этого тоже! – и я на все это согласился – на все! – из-за моей к тебе любви! – и все равно я каждый день ощущаю: я тот, кто любит сильнее, чем его любят в ответ.
Пампа Кампана выслушала его, не перебивая. Затем она его поцеловала – этим она не смогла, да и не намеревалась, успокоить его.
– Ты так прекрасен, и я всегда любила твое тело, как оно прижимается к моему, – произнесла она, – но ты прав. Мне сложно любить кого-либо всем сердцем, поскольку я знаю, что они умрут.
– Что это за оправдание? – В Доминго Нунише вскипала злоба, и он требовал объяснений. – Всему роду человеческому уготована эта участь. Тебе самой тоже.
– Нет, – ответила она, – я проживу около двухсот пятидесяти лет и останусь вечно молодой или почти молодой. А вот ты, со своей стороны, состарился, стал сутул в плечах, и конец…
Доминго Нуниш закрыл уши руками.
– Нет! – завизжал он. – Не говори! Я не хочу этого знать!
Он знал, что быстро стареет, что его здоровье уже не такое крепкое, как было когда-то, и начал бояться не суметь собрать свои старые кости. Порой он думал, что его ждет насильственная смерть, что она настигнет его на конной тропе между Гоа и Биснагой, где по-прежнему следовало опасаться банд мародеров из каст калларов и мараваров. Он подозревал даже, что причиной того, что Хукка Райя I никак ничего не делал с конокрадами, была его личная надежда, что они подстерегут Доминго Нуниша и окажут царю услугу, вырвав у чужеземца его предательское сердце. Но в голове у Пампы Кампаны ему был уготован другой конец.
– …и конец близок, – закончила она. – Ты умрешь послезавтра от разрыва сердца, а я, возможно, буду в этом виновата. Прости.
– Ты бессердечная стерва, – ответил Доминго Нуниш. – Уходи!
– Да, так будет лучше, – отозвалась Пампа Кампана. – Я не хочу видеть конец.
Жестокие слова Пампы таили истину о том, что отсутствие старения было для нее самой такой же загадкой, как и для всех остальных. После девяти, когда ее устами заговорила богиня, она продолжала расти, как и все прочие девочки, до восемнадцати лет; все пошло по-другому с того дня, как она дала мешок с волшебными семенами Хукке и Букке Сангама. С той поры минуло двадцать лет, но, когда она придирчиво рассматривала себя в отполированном щите, висевшем на стене ее дворцовой спальни, понимала, что за прошедшие два десятилетия состарилась едва ли на пару лет. Если это так, то к концу своего почти двухсотпятидесятилетнего жизненного пути, отмеренного ей богиней, она будет выглядеть как женщина слегка за сорок. Это озадачивало. Она ожидала, что, разменяв третью сотню лет, будет высохшей старой каргой, но, видимо, так могло и не случиться. Ее возлюбленные умрут, ее дети (которые уже более походят на ее сестер, нежели дочерей) будут выглядеть старше, чем мать, и исчезнут, поколения будут проплывать мимо нее, но ее красота не померкнет. Осознание этого несло очень мало радости.
– У истории жизни, – сказала она себе, – есть начало, середина и конец. Но когда середина неестественно растягивается, эта история перестает нести радость. Это проклятие.
Она понимала, что ее доля – потерять всех, кого она любит, и остаться одной в окружении их горящих трупов; ровно так, как будучи девятилетней девочкой, она стояла одна и смотрела, как сгорают ее мать и другие женщины. Ей предстоит снова – но в замедленной съемке, словно время исчисляется геологическими эонами, – переживать погребальный костер своего детства. Как и тогда, умрут все, но это второе жертвоприношение будет длиться почти две с половиной сотни лет, а не пару часов.