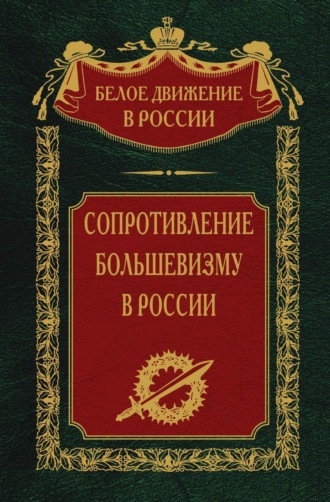
С. В. Волков
Сопротивление большевизму. 1917-1918 гг.
П. Краснов[25]
Бои под Петроградом[26]
Можно ли говорить, что большевики не готовились планомерно к выступлению 25 октября? Но кто им помогал?
23 октября весь «корпус» – то есть оставшиеся 18 сотен – было приказано передвинуть в район Старого Пебальга и Вендена, где поступить в распоряжение штаба 1-й армии, потому что там ожидались беспорядки и массовые эксцессы. Я поехал в Псков узнать обстановку, а 24 октября отправил в штаб 1-й армии квартирьеров и приступил к погрузке 10-го Донского казачьего полка в вагоны.
25 октября я получил телеграмму. Точного содержания ее не помню, но общий смысл был тот: Донскую дивизию спешно отправить в Петроград; в Петрограде беспорядки, поднятые большевиками. Подписана телеграмма двумя лицами: Главковерх Керенский и полковник Греков.
Полковник Греков – донской артиллерийский офицер и помощник председателя Совета союза казачьих войск, казачьего учреждения, пользующегося большим влиянием у казаков.
Ловко, подумал я. Но откуда же при теперешней разрухе я подам спешно всю 1-ю Донскую дивизию к Петрограду?
Тем не менее 9-й полк направил к погрузке в вагоны. 4 сотни 10-го полка приказал остановить на станции, послал телеграммы в Ревель и Новгород о сосредоточении в Луге, откуда решил идти походом, чтобы не повторять ошибки Крымова, увы, уже сделанной мудрыми распоряжениями штаба фронта.
А квартирьеры? Они уже ушли и рыщут, вероятно, по имениям и мызам, отыскивая помещения. Послал нарочного и за ними…
Сам поехал в Псков просить начальника штаба и начальника военных сообщений ускорить все эти перевозки так, чтобы хотя бы к вечеру 26-го я мог бы иметь часть из Ревеля и Новгорода в Луге.
Все было обещано сделать. В штабе я нашел большую тревогу. Тихо шепотом передавали, что Временное правительство свергнуто и не то разбежалось, не то борется в Зимнем дворце, отстаиваемое юнкерами; вся власть захвачена Советами с Лениным и Троцким во главе.
Вернувшись из Пскова, я напечатал приказ, где полностью передал телеграмму Керенского и Грекова и призывал казаков к уверенным и смелым действиям. Приказ послал с нарочными и в Ревель, и в Новгород. После чего собрался сам и поехал на станцию Остров, где уже был погружен штаб 1-й Донской дивизии, без ее начальника, случайно бывшего в отпуску в Петрограде.
* * *
Глухая осенняя ночь. Пути Островской станции заставлены красными вагонами. В них лошади и казаки, казаки и лошади. Кто сидит уже второй день, кто только что погрузился. На станции санитары, врачи и две сестры Проскуровского отряда. Просят, чтобы им разрешено было отправиться с первыми эшелонами, чтобы быть при первом деле. Казаки кто спит в вагонах, кто стоит у открытых ворот вагона и поет вполголоса свои песни.
Ах, да ты подуй,
Подуй ветер с полуночи,
Ты развей, развей тоску!.. —
слышится откуда-то с дальнего пути.
Вдоль пути шмыгают темные личности, но их мало слушают. Большевики не в фаворе у казаков, и агитаторы это чуют.
После целого ряда распоряжений относительно остающихся частей – штаба Уссурийской дивизии, 1-го Нерчинского полка и 1-й Амурской батареи и длительных разговоров с новым командующим дивизией, генерал-майором Хрещатицким[27], я, в 11 часов ночи, прибыл на станцию.
– Лошади погружены? – спросил я.
– Погружены, – отвечал мне полковник Попов[28].
– Значит, можно ехать?
– Нет.
– Но ведь нашему эшелону назначено в 11 часов, а теперь без двух минут одиннадцать.
– Ни один эшелон еще не отошел.
– Как? А девятый полк?
– Стоит на путях.
– Стоило гнать сломя голову. Но что же вышло?
– Комендант станции говорит – нет разрешения выпустить эшелоны.
Пошел к коменданту. Комендант был сильно растерян и смущен.
– Я ничего не понимаю. Получена телеграмма выгружать эшелоны и оставаться в Острове, – сказал он.
– Кто приказывает?
– Начальник военных сообщений.
Я соединился с Псковом. Полковник Карамышев[29] как будто бы ожидал меня у аппарата.
– В чем дело?
– Главкосев приказал выгружать дивизию и оставаться в Острове.
– Но вы знаете распоряжение Главковерха? Идти спешно на Петроград.
– Знаю.
– Ну так чье же приказание мы должны исполнить?
– Не знаю. Главкосев приказал. Я эшелоны не трону. И в Ревель и в Новгород послано: отставить.
Начиналась уже серьезная путаница. Надо было выяснить положение. Может быть, справились сами, одни усмирили большевиков. Одно – идти с генералом Корниловым против адвоката Керенского, кумира толпы, и другое – идти с этим кумиром против Ленина, который далеко не всем солдатам нравился.
Я послал за автомобилем, сел в него с Поповым и погнал в Псков.
Позднею глухою ночью я приехал в спящий Псков. Тихо и мертво на улицах. Все окна темные, нигде ни огонька. Приехал в штаб. Насилу дозвонился. Вышел заспанный жандарм. В штабе никого. Хорошо, подумал я, штаб Северного фронта реагирует на беспорядки и переворот в Петрограде.
– А может быть, уже все кончено, – сказал мне Попов, – и мы напрасно беспокоимся. Теперь бы спать и спать…
– Где начальник штаба? – спросил я у жандарма.
– У себя на квартире.
– Где он живет?
Жандарм начал объяснять, но я не мог его понять.
– Постойте, я оденусь, провожу вас.
Полковник Попов пошел на телеграф переговорить с Островом, там напряженно ждали, выгружаться или нет, а я поехал с жандармом к генералу Лукирскому[30]. Парадная лестница заперта. На стуки и звонки никакого ответа. Нигде ни огонька. Пошли искать по черной. Насилу добились денщика.
– Генерал спит и не приказали будить.
С трудом добился от него, чтобы пошел разбудить начальника штаба.
Наконец в столовую, куда я прошел, вышел заспанный Лукирский в шинели, надетой поверх белья. Я доложил ему о том, что имею два взаимно противоречащих приказания и не знаю, как поступить.
– Я ничего не знаю, – лениво и устало сказал мне Лукирский.
– Как – ничего не знаете? Но ведь вы начальник штаба.
– Обратитесь к Главнокомандующему. Вы его сейчас застанете дома на совете. А я ничего не знаю.
Пошел к Главнокомандующему. Весь верхний этаж его дома на берегу реки Великой ярко освещен. Кажется, единственное освещенное место в Пскове. С треском отскочил от него автомобиль с какими-то солдатами и помчался вверх по городу.
Опять тот же адъютант с громкой еврейской фамилией меня встретил.
– Главкосев занят в совете, – сказал он на мою просьбу доложить обо мне, – и я не могу его беспокоить.
– Я все-таки настаиваю, чтобы вы доложили. Дело не может быть отложено до утра.
Адъютант с видимой неохотой открыл дверь, из-за которой я слышал чей-то мерный голос. В открытую дверь я увидал длинный стол, накрытый зеленым сукном, и за ним человек двадцать солдат и рабочих. В голове стола сидел Черемисов[31]. Он с неудовольствием выслушал адъютанта и что-то сказал ему.
– Хорошо, – сказал, возвращаясь, адъютант, – Главкосев вас примет, но только на одну минуту.
Меня провели в кабинет Главнокомандующего. Минуть десять я ожидал, стоя перед громадной картой, на которой цветными полосами было показано, как катился назад наш фронт этим летом. Сдали Ригу… Отошли к Вендену… Сдали Эзель… К весне – кто знает – может быть, немцы уже будут в Петрограде?
Дверь медленно отворилась, и в кабинет вошел Черемисов. Лицо у него было серое от утомления. Глаза смотрели тускло и избегали глядеть на меня. Он зевал не то первою зевотою, не то искусственною, чтобы показать мне, насколько все то, о чем я говорю ему, пустяки.
– Временное правительство в опасности, – говорил я, – а мы присягали Временному правительству, и наш долг…
Черемисов посмотрел на меня.
– Временного правительства нет, – устало, но настойчиво, как будто убеждая меня, сказал он.
– Как – нет? – воскликнул я.
Черемисов молчал. Наконец тихо и устало сказал:
– Я вам приказываю выгружать ваши эшелоны и оставаться в Острове. Этого вам достаточно. Все равно вы ничего не можете сделать.
– Дайте мне письменный приказ, – сказал я.
Черемисов с сожалением посмотрел на меня, пожал плечами и, подавая мне руку, сказал:
– Я вам искренно советую оставаться в Острове и ничего не делать. Поверьте, так будет лучше.
И он пошел опять туда – в «совет».
Я вышел на улицу. У автомобиля меня ожидал Попов. Я рассказал ему результат свидания.
– Знаете, – сказал Попов, – это дело политическое. Пойдемте к комиссару. Войтинский[32] все это время был порядочным человеком. Его долг нам подать совет. Да без комиссара мы и части не повернем. Вон уже 9-й полк волнуется оттого, что сидит сутки в вагонах.
Я согласился, и мы поехали в комиссариат.
Войтинского, который и жил в комиссариате, не было там. По словам дежурного «товарища», он ушел куда-то на заседание, но должен скоро вернуться.
Мы сели в комнате «товарища» и ждали. Уныло тикали стенные часы, и медленно ползла осенняя ночь. Било три, било половину четвертого. Наконец около четырех часов Войтинский приехал.
Он обрадовался, увидавши нас. Все лицо его, некрасивое, усталое, просияло.
– Вы как нельзя более кстати, – сказал он и начал расспрашивать про обстановку, про настроение частей.
– Что говорил Черемисов? – быстро спрашивал он. – А вы как думаете?.. Прямо Бог послал вас сюда именно сегодня… Мне нужно с вами поговорить наедине. Пойдемте ко мне.
Мы пошли по пустым комнатам комиссариата. Кое-где тускло горели лампы. Наконец в какой-то дальней комнате он остановился, тщательно запер двери и, подойдя ко мне вплотную, таинственно шепотом сказал:
– Вы знаете… Он здесь!
Я не понял, о ком он говорит, и спросил:
– Кто – он?
– Керенский!.. Никто не знает… Он тайно только что приехал из Петрограда… Вырвался на автомобиле… Идет осада Зимнего дворца… Но он спасет… Теперь, когда он с войсками, он спасет… Пойдемте к нему… Или лучше я скажу вам его адрес… Нам неудобно идти вместе… Идите… Идите к нему. Сейчас…
* * *
Месяц лукавым таинственным светом заливал улицы старого Пскова. Романическим средневековьем веяло от крутых стен и узких проулков. Мы шли с Поповым пешком, чтобы не привлекать внимания автомобилем. Шли как заговорщики… Да по существу, мы были заговорщиками – двумя мушкетерами средневекового романа!
Ночь была в той части, когда, утомленная, она готова уже уступить утру и когда сон обывателя становится особенно крепким, а грезы фантастическими. И временами, когда я глядел на закрытые ставни, на плотно опущенные занавески, на окна, подернутые капельками росы и сверкающие отражениями высокой луны, мне казалось, что и я сплю, и этот город, и то, что было, и то, что есть, не более как кошмарный сон.
Я шел к Керенскому. К тому Керенскому, который…
Я никогда, ни одной минуты но был поклонником Керенского. Я никогда его не видал, очень мало читал его речи, но все мне было в нем противно до гадливого отвращения.
Противна была его самоуверенность и то, что он за все брался и все умел. Когда он был министром юстиции – я молчал. Но когда Керенский стал военным и морским министром, все возмутилось во мне.
Как, думал я, во время войны управлять военным делом берется человек, ничего в нем не понимающий! Военное искусство одно из самых трудных искусств, потому что оно, помимо знаний, требует особого воспитания ума и воли. Если во всяком искусстве дилетантизм нежелателен, то в военном искусстве он недопустим.
Керенский полководец!.. Петр Румянцев, Суворов, Кутузов, Ермолов, Скобелев…. и Керенский.
Он разрушил армию, надругался над военною наукою, и за то я презирал и ненавидел его.
А вот иду же я к нему этою лунною волшебною ночью, когда явь кажется грезами, иду, как к Верховному Главнокомандующему, предлагать свою жизнь и жизни вверенных мне людей в его полное распоряжение?
Да, иду. Потому что не к Керенскому иду я, а к Родине, к великой России, от которой отречься я не могу. И если Россия с Керенским, я пойду с ним. Его буду ненавидеть и проклинать, но служить и умирать пойду за Россию. Она его избрала, она пошла за ним, она не сумела найти вождя способнее, пойду помогать ему, если он за Россию…
Вот о чем грезили, о чем переговаривались мы с С. П. Поповым, пока искали квартиру полковника Барановского[33], у которого был Керенский.
Искали долго. Спросить не у кого. Город спит, никого на улицах. Наконец, скорее по догадке, усмотревши в одном доме два освещенных окна во втором этаже, завернули в него и нашли много неспящих людей, суету, суматоху, бестолочь, воспаленные глаза, бледные лица, квартиру, перевернутую кверху дном и самого Керенского.
* * *
– Генерал, где ваш корпус? Он идет сюда? Он здесь уже близко? Я надеялся встретить его под Лугой.
Лицо со следами тяжелых бессонных ночей. Бледное, нездоровое, с больною кожей и опухшими красными глазами. Бритые усы и бритая борода, как у актера. Голова слишком большая по туловищу. Френч, галифе, сапоги с гетрами – все это делало его похожим на штатского, вырядившегося на воскресную прогулку верхом. Смотрит проницательно, прямо в глаза, будто ищет ответа в глубине души, а не в словах; фразы короткие, повелительные. Не сомневается в том, что сказано, то и исполнено. Но чувствуется какой-то нервный надрыв, ненормальность. Несмотря на повелительность тона и умышленную резкость манер, несмотря на это «генерал», которое сыплется в конце каждого вопроса, – ничего величественного. Скорее – больное и жалкое. Как-то, на одном любительском спектакле, я слышал, как довольно талантливо молодой человек читал стихотворение Апухтина «Сумасшедший». Вот такая же повелительность была и в словах этого плотного, среднего роста человека, чуть рыжеватого, одетого в защитное, бегающего по гостиной между столиком с допитыми чашками кофе, угловатыми диванчиками и пуфами и вдруг останавливающегося против меня и дающего приказание или говорящего фразу, и казалось, что все это закончится безумным смехом, плачем, истерикой и дикими криками: «Все васильки, красные, синие в поле!..»
Я сразу узнал Керенского по тому множеству портретов, которые я видал, по тем фотографиям, которые печатались тогда во всех иллюстрированных журналах.
Не Наполеон, но, безусловно, позирует на Наполеона. Слушает невнимательно. Будто не верит тому, что ему говорят. Все лицо говорит тогда – «знаю я вас; у вас всегда отговорки, но нужно сделать и вы сделаете».
Я доложил о том, что не только нет корпуса, но нет и дивизии, что части разбросаны по всему северо-западу России и их раньше необходимо собрать. Двигаться малыми частями – безумие.
– Пустяки! Вся армия стоит за мною против этих негодяев. Я сам поведу ее за собою, и за мною пойдут все. Там никто им не сочувствует. Скажите, что вам надо? N.N., – обратился он к Барановскому (я не помню имени и отчества Барановского. – П. К.), – запишите, что угодно генералу.
Я стал диктовать Барановскому, где и какие части у меня находятся и как их оттуда вызволить. Он записывал, но записывал невнимательно. Точно мы играли, а не всерьез делали. Я говорил ему что-то, а он делал вид, что записывает.
– Вы получите все ваши части, – сказал Барановский. – Не только Донскую, но и Уссурийскую дивизию. Кроме того, вам будут приданы 37-я пехотная дивизия, 1-я кавалерийская дивизия и весь 17-й армейский корпус, кажется, все, кроме разных мелких частей.
– Ну вот, генерал. Довольны? – сказал Керенский.
– Да, – сказал я, – если это все соберется и если пехота пойдет с нами, Петроград будет занят и освобожден от большевиков.
Слыша о таких значительных силах, я уже не сомневался в успехе. Дело было иное. Можно будет выгрузить казаков и в Гатчине и составить из них разведывательный отряд, под прикрытием которого высаживать части 17-го корпуса и 37-й дивизии на фронте Тосно – Гатчино и быстро двигаться, охватывая Петроград и отрезая его от Кронштадта и Морского канала. Моя задача сводилась к более простым действиям. Стало легче на душе… Но если бы это было так – разве сидел бы Черемисов теперь с «советом»? Разве принял бы он меня известием, что Временного правительства уже нет? Три дивизии пехоты и столько же кавалерии, беспрепятственно идущие среди моря армии, это показывает, что армия на стороне Керенского, а если так – бунтовался бы разве гарнизон Петрограда, задерживали бы эшелоны в Острове? Нет, тут что-то было не так. Сомнение закрадывалось в душу, и я высказал его Керенскому.
Мне показалось, что он не только не уверен в том, что названные части пойдут по его приказу, но не уверен даже и в том, что Ставка, то есть генерал Духонин передал приказания. Казалось, что он и Пскова боится. Он как-то вдруг сразу осел, завял, глаза стали тусклыми, движения вялыми.
Ему надо отдохнуть, подумал я и стал прощаться.
– Куда вы, генерал?
– В Остров, двигать то, что я имею, чтобы закрепить за собою Гатчину.
– Отлично. Я поеду с вами.
Он отдал приказание подать свой автомобиль.
– Когда мы там будем? – спросил он.
– Если хорошо ехать, через час с четвертью мы будем в Острове.
– Соберите к одиннадцати часам дивизионные и другие комитеты, хочу поговорить с ними.
Ах, зачем это! – подумал я, но ответил согласием. Кто его знает, может быть, у него особенный дар, умение влиять на толпу. Ведь почему-нибудь приняла же его Россия? Были же ему и овации, и восторженные встречи, и любовь, и поклонение. Пусть казаки увидят его и знают, что сам Керенский с ними.
Минут через десять автомобили были готовы, я разыскал свой, и мы поехали. Я – по приказанию Керенского – впереди, Керенский с адъютантами сзади. Город все так же крепко спал, и шум двух автомобилей не разбудил его. Мы никого не встретили и благополучно выбрались на Островское шоссе.
* * *
Бледным утром мы подъезжали к Острову. Верстах в пяти от города я встретил сотни 9-го Донского полка, идущие из города по своим деревням. Я остановил их.
– Куда вы? – спросил я.
– Ночью было передано от вас приказание выгружаться и идти по домам, – отвечал командир сотни.
– Я не отдавал такого приказания. Поворачивайте назад, мы сейчас едем на Петроград, с нами едет Керенский.
– Как – Керенский? – с удивлением спросил командир сотни.
Казаки, прислушивавшиеся к моим словам, стали передавать один другому: «Керенский здесь, Керенский здесь».
В эту минуту подъехал и Керенский. Он поздоровался с казаками. Казаки довольно дружно ему ответили. Сомнений не было, и сотни стали заходить плечом к Острову. Мы поехали дальше. Мне негде было устроить Керенского. Моя квартира была разорена, и я поехал с ним в собрание, где предложил ему чай и закусить, а сам пошел отдавать распоряжения. Мимо меня прошли сотни 9-го полка, лица казаков выражали любопытство.
Весть о том, что Керенский в Острове, сама собою распространилась по городу. Улица перед собранием стала запружаться толпою. Явились дамы с цветами, явились матросы и солдаты Морского артиллерийского дивизиона, стоявшего по ту сторону реки Великой в предместье Острова. Я поставил часовых у дверей дома и вызвал в ружье всю Енисейскую сотню, которая стала в длинном коридоре, ведшем к столовой, и никого не пропускала. Наверху собиралась комитеты. Как ни следили мы, чтобы не было посторонних, но таковых набралось немало. Однако передние ряды были заняты комитетом 1-й Донской казачьей дивизии, бравыми казаками, на лицах которых было только любопытство и никакого озлобления. Совершенно иначе был настроен комитет Уссурийской дивизии, и особенно представители Амурского казачьего полка, в котором было много большевиков.
Я пошел доложить Керенскому, что комитеты готовы. Керенский спал, сидя за столом. Лицо его выражало крайнее утомление. При моем входе он сразу проснулся.
– А! Хорошо. Сейчас иду. А потом и поедем, – сказал он.
Я никогда не слыхал Керенского и только слышал восторженные отзывы о его речах и о силе его ораторского таланта. Может быть, потому я слишком много ожидал от него. Может быть, он сильно устал и не приготовился, но его речь, произнесенная перед людьми, которых он хотел вести на Петроград, была во всех отношениях слаба. Это были истерические выкрики отдельных, часто не имеющих связи между собою фраз. Все те же избитые слова, избитые лозунги. «Завоевания революции в опасности», «Русский народ самый свободный народ в мире», «Революция совершилась без крови – безумцы большевики хотят полить ее кровью», «Предательство перед союзниками» и т. д. и т. д.
Донцы слушали внимательно, многие затаив дыхание, восторженно, с раскрытыми ртами. Сзади в двух-трех местах раздались крики: «Неправда! Большевики не этого хотят!» Кричал злобный круглолицый урядник Амурского полка.
Когда Керенский кончил, раздались довольно жидкие аплодисменты. И сейчас же раздался полный ненависти голос урядника-амурца.
– Мало кровушки нашей солдатской попили! Товарищи! Перед вами новая корниловщина! Помещики и капиталисты!..
– Довольно!.. Будет!.. Остановите его!.. – кричали из передних рядов.
– Нет, дайте сказать!.. Товарищи! Вас обманывают… Это дело замышляется против народа…
Я послал вывести оратора и уговорил уйти Керенского.
Керенский торопился уехать на станцию, но оттуда передавали, что нет еще вагона.
Толпа у дома, где был Керенский, становилась гуще. Офицеры мне передавали, что настроение ее далеко не дружелюбное, и не советовали отправлять Керенского без конвоя. Я вышел на улицу. Стояли какие-то дамы с цветами.
– Что, скоро выйдет Керенский? – спросили они. – Ах, я никогда не видала Керенского! Попросите его поговорить с толпой.
– Большевики за дело стоят, – говорили в толпе. – Солдату что нужно? – мир, а он опять о войне завел шарманку, – говорили солдаты.
– Схватить его и предоставить Ленину – вот и все.
– А казаки?
– Казаки ничего не сделают.
Я вызвал со станции конный взвод 9-го Донского полка для конвоирования автомобиля и приказал на станции выставить почетный караул. Около первого часа пополудни мы поехали на станцию.
Почетный караул сделал свое дело. Он был великолепен. Временно командующий полком войсковой старшина Лаврухин[34] (командир полка, полковник Короченцов[35], заболел дипломатическою болезнью) постарался. Громадная сотня была отлично одета. Шинели сверкали Георгиевскими крестами и медалями. На приветствие Керенского она дружно гаркнула: «Здравия желаем, господин Верховный Главнокомандующий», а потом прошла церемониальным маршем, тщательно отбивая шаг. Толпа, стоявшая у вокзала, притихла. Вагон явился как из-под земли, и комендант станции объяснял свою медлительность тем, что он хотел подать «для господина Верховного Главнокомандующего салон-вагон» и стеснялся дать этот потрепанный микст.
Мы сели в вагон, я отдал приказание двигать эшелоны. Паровозы свистят, маневрируют. По путям ходят солдаты Островского гарнизона, число их увеличивается, а мы все стоим, нас никуда не прицепляют и никуда не двигают.
Я вышел и пригрозил расправой. Полная угодливость в словах, и никакого исполнения.
Командир Енисейской сотни, есаул Коршунов, начальник моего конвоя, служил когда-то помощником машиниста. Он взялся провезти нас, стал на паровоз с двумя казаками, и дело пошло.
Все было ясно. Добровольно никто не хотел исполнять приказания Керенского, так как неизвестно чья возьмет; «примените силу, и у нас явится оправдание, что мы действовали не по своей воле».
Зная настроение Псковского гарнизона и то, что, конечно, из Острова уже дали знать в Псков, что с казаками едет Керенский, я приказал Коршунову вести поезд нигде не останавливаясь, набрать воды перед Псковом, и Псков пассажирский, и Псков товарный проскочить полным ходом – и не напрасно.
Наконец около трех часов пополудни мы тронулись.
На станции Черской остановка. Начальник военных сообщений, генерал Кондратьев[36], ожидал нас, он просил пропустить его к Керенскому. Я присутствовал при разговоре. Керенский накричал на него за промедление с эшелонами. Полная угодливость со стороны Кондратьева.
Керенский продиктовал ему, какие части должны быть направлены в первую очередь, речь шла о целой армии. Кондратьев почтительно кланялся.
Мне и полковнику Попову, бывшему со мной в одном купе, это показалось хорошей приметой. Значит, Черемисов пойдет с Керенским, решили мы.
На станции Псков громадная, в несколько тысяч, толпа солдат. Наполовину вооруженная. При приближении поезда она волнуется, подвигается ближе. Я стою на площадке; у паровоза Коршунов и его лихие енисейцы; поезд ускоряет ход, и станция, забитая серыми шинелями, уплывает за нами.
В вагонах на редких остановках слышны песни. Раздают запоздалый ужин. Пахнет казачьими щами. Слышна предобеденная молитва: «Очи всех на Тя, Господи, уповают». Никаких агитаторов. Все идет хорошо.
Со встречным петроградским поездом прибыли офицеры, бывшие в Петрограде. Сотник Карташов подробно докладывает мне о том, как юнкера обороняют Зимний дворец, о настроении гарнизона, колеблющегося, не знающего на чью сторону стать, держащего нейтралитет. В купе входит Керенский.
– Доложите мне, поручик, – говорит он, – это очень интересно, – и протягивает руку Карташову. Тот вытягивается, стоит смирно и не дает своей руки.
– Поручик, я подаю вам руку, – внушительно заявляет Керенский.
– Виноват, господин Верховный Главнокомандующий, – отчетливо говорит Карташов, – я не могу подать вам руки. Я – корниловец![37]
Краска заливает лицо Керенского. Он пожимается и выходит из купе.
– Взыщите с этого офицера, – на ходу кидает он мне…
Поезд мчится, прорезая мрак холодной, тихой сентябрьской ночи. Проехали, не останавливаясь, Лугу… Приближаемся к Гатчине. Всюду тишина. Смолкли казачьи песни. Но беспрерывное движение поезда вселяет почему-то уверенность в успехе.
Я задремал. Дверь купе распахнулась. Я открываю глаза. В дверях Керенский и с ним политический комиссар капитан Кузьмин.
– Генерал, – торжественно говорить мне Керенский. – Я назначаю вас командующим армией, идущей на Петроград, поздравляю вас, генерал!.. И, переменивши тон, добавляет обыкновенным голосом: – У вас не найдется полевой книжки? Я напишу сейчас об этом приказ.
Я молча подаю ему свою книжку. Он выходит. Командующий армией, идущей на Петроград! Идет пока, считая синицу в руках, – шесть сотен 9-го полка и четыре сотни 10-го полка. Слабого состава сотни, по 70 человек. Всего 700 всадников – меньше полка нормального штата. А если нам придется спешиться, откинуть одну треть на коноводов – останется боевой силы всего 466 человек – две роты военного времени!!
Командующий армией и две роты!
Мне смешно… Игра в солдатики! Как она соблазнительна, с ее пышными титулами и фразами!!!
Бледное утро смотрит в окно. Серый тоскливый осенний день. Станционная постройка, выкрашенная красной краской. Мокрая рябина, покрытая гроздьями спелых, хваченных морозом ягод. Мы стоим на Гатчино товарной…
* * *
В Гатчине меня ожидало приятное известие. Из Новгорода прибыл эшелон 10-го Донского полка, две сотни и два орудия. Командир эшелона, чудный офицер, есаул Ушаков, пробился силою, несмотря на все препятствия со стороны железнодорожников. Я приказал выгружаться, имея целью захватить Гатчино врасплох. В полутьме раннего утра вышли сотни 9-го и 10-го полков и артиллерия. Я послал разведку в город, а сам с сотнями выдвинулся на Петербургское шоссе. Офицеры, сопровождавшие Керенского, четыре человека, в какой-то придорожной чайной устроили чай для Керенского.
В Гатчино тихо. Гатчино спит. Разведка донесла, что на Балтийской железной дороге выгружается рота, только что прибывшая из Петрограда, и матросы. Посылаю туда сотни и сам еду с ними. Казаки со всех сторон забегают к станции. Видно, как рота выстраивается на перроне. Кругом ходит публика, железнодорожные служащие. Рота стоит развернутым строем, представляя собою громадную мишень. Я приказываю снять одно орудие с передков и ставлю его на путях. От пушки до роты не более тысячи шагов. Человек восемь казаков Енисейской сотни с тем же молодцом Коршуновым бегут к роте. Короткий разговор, и рота сдает ружья. Это рота лейб-гвардии Измайловского полка и команда матросов.
Ко мне ведут офицеров. Безусые растерянные мальчики.
– Господа, как вам не стыдно! – говорю я им.
Молчат. Тупо смотрят на меня, сами, видимо, не понимают, что произошло.
– Вы пошли против Временного правительства, – возвышая голос, говорю я. – Вы изменили Родине. Я повесить вас должен.
Лица бледнеют.
– Господин генерал, – лепечет один из них, – мы не шли против Временного правительства.
– Куда же вы шли?
– Мы шли… Мы шли в Гатчино… Охранять Гатчино от разграбления.
Что я буду делать с пленными? Их 360 человек, а в моих трех сотнях едва наберется 200!
Обезоруживши их, я отпускаю их на все четыре стороны. Мне их некуда девать и некем охранять. Когда еще придет 37-я пехотная и 1-я кавалерийская дивизии, когда еще подойдет 17-й армейский корпус. Да и придут ли?
Какая опасность от этих людей?
– Мы можем ехать обратно? – спрашивают солдаты.
– Поезжайте и скажите вашим товарищам, чтобы они не глупили, – говорю я им.
– Да мы что! Мы ничего! – добродушно заявляют солдаты. – Нам что прикажут, мы то и делаем.
Ко мне подъезжает казак. Варшавская станция занята казаками. Взята в плен рота и 14 пулеметов.
– Что прикажете делать с пленными?..
– Обезоружить и отпустить!
Их некуда было девать и прятать, их нечем было кормить, потому что базы и тыла у нас не было. Отправлять в Лугу? Но отношение Луги к нам неизвестно. Посылать в Псков? Но Псков явно враждебен к нам. Оставалось распускать их, надеясь, что они распылятся, разойдутся по своим деревням, на несколько дней станут безопасны. А там подойдет 17-й корпус, и можно будет их или снова мобилизовать, или, если будет надо, посадить за проволоку.
Ясно было, что Гатчино обороняться не будет. Я еще отдавал на площади перед Балтийской станцией приказания, когда мне доложили, что Керенский уже находится в Гатчинском дворце и требует меня для распоряжений.
Я нашел его в одной из квартир запасной половины. С ним его адъютанты – молодые люди, капитан Свистунов, комендант дворца, капитан Кузьмин и какие-то две молодые, нарядно одетые красивые женщины. Они закусывали. Обстановка была не для серьезного разговора, и я увел Керенского в другую комнату. Он настаивал на немедленном движении дальше. Но с кем? Было у меня три сотни и два орудия. Гатчино спокойно, но кто знает, каково будет настроение его частей, когда они увидят, что мы уйдем и нас слишком мало. Даже на разъезды не хватит!
– Но вы сами видите, что сопротивления никакого не будет. Петроградский гарнизон на нашей стороне, – сказал Керенский.
Я, однако, отказался идти вразброд. Надо было дождаться подхода остальных эшелонов, хотя бы своих, послать разъезды к Царскому, Красному и Петергофу и всеми возможными способами выяснить, что делается в Петрограде. Оттуда непрерывно прибывали юнкера и офицеры, бежавшие от большевиков, было много частных лиц, которые все допрашивались мною. Моя жена жила в Царском Селе у подруги моего детства, жены одного артиллерийского генерала, мне удалось связаться с нею городским телефоном и получить сведения о том, что делается в Царском. Все полученные донесения сводились к следующему: в Царском спокойно. К вечеру с великими трудами удалось собрать две роты, одна пошла к Гатчино, другая к Красному Селу. Шли в беспорядке, вразброд.







