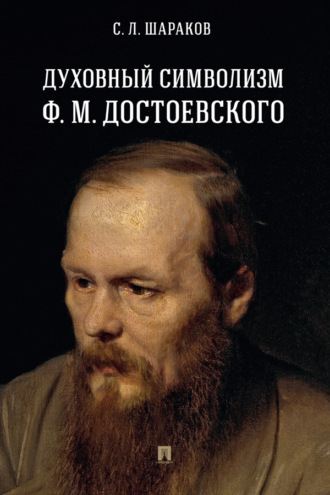
С. Л. Шараков
Духовный символизм Ф. М. Достоевского
Здесь можно провести параллель с иконописью.
Икона является изображением «не тленной, а преображенной, просветленной божественным светом плоти» [Успенский, 2014, 53]. Соответственно, видение преображенной плоти предполагает святость иконописца. Но это не означает, что иконы могут писать только святые. Вот что пишет Л. А. Успенский по этому поводу: «Из этого, конечно, не следует выводить заключение, что только одни святые могут писать иконы. Церковь состоит не только из святых. Все члены ее, живущие сакраментальной жизнью, имеют право и обязаны следовать их пути. Поэтому всякий православный иконописец, живущий в Предании, может создавать подлинные иконы» [Успенский, 2014, 66].
Вот так же и светский писатель, живущий в православном Предании, может создавать художественные произведения в стиле духовного символизма.
В связи с этим обозначим важную проблему. Следует иметь в виду, что тип/стиль символического миросозерцания напрямую связан с духовным устроением человека: естественный ли, духовный ли, символизм не являются мировоззренческой, художнической стратегией, которую можно избрать. Нет, всякое мировидение выражает то внутреннее/духовное содержание, которое формируется у человека в процессе его жизни. Слова Достоевского «без чистого сердца полного и правильного сознания не будет», если их приложить к типам символизма, как раз и будут означать связь между содержанием художественного сознания и содержанием внутренней жизни.
Но вот здесь встает методологический вопрос связи жизни и творчества писателя.
В науке является весомой и принятой почти за аксиому положение о несовпадении личной жизни с творчеством. Зиждется подобное представление на доминирующем в новоевропейской культуре учении об автономном разуме. Эта антропологическая философема не подвергается сомнению, хотя ее научная достоверность произрастает из недр католического богословия. В частности, Фома Аквинат сформулировал тезис об автономной, по отношению к вере, деятельности естественного разума. То есть, то, что сейчас принято чуть ли не за научную истину, по своей природе является аксиоматическим допущением.
Наряду с указанным существует в науке и подход, в рамках которого жизнь и творчество осмысливаются в своей сложной взаимозависимости. Бахтин в интервью 1971 года на вопрос о «незатронутых в творчестве Достоевского» проблемах, уверенно указал на проблему биографии писателя и выразил свою точку зрения на вопрос: «Прежде всего биография. Все-таки пока биографии Достоевского у нас нет. Еще даже не нащупан биографический метод: как писать биографию и что в нее включать. У нас биография – это какая-то мешанина творчества с жизнью. Достоевский в творчестве, как всякий писатель, – это один человек, а в жизни – другой. И как эти два человека (творец и человек жизни) совмещаются, для нас еще не ясно. Но расчленять их как-то нужно, иначе ведь можно дойти до чего угодно. Ведь, вот, дескать, Раскольников совершил убийство старухи – значит и автор, хотя бы в воображении, совершил его. Чепуха получается. <…> Разделять и смешивать жизнь и творчество нельзя, но необходимо их различать, проводить границу между ними» [Бахтин, 2002, 462–463]. Не соглашаясь с тезисом о том, что Достоевский в жизни – один, а в творчестве другой, отметим, что принцип сопряжения жизни и творчества «различать, но не разделять» представляется методологически правильным. Главное, найти принцип правильного совмещения жизни и творческой деятельности.
В этом смысле удачной представляется концепция художественного стиля, предложенная А. Ф. Лосевым. Стиль, по Лосеву, содержит в себе далеко не только фабулу, способы организации текста и другие структурные моменты, но включает в себя и первичные восприятия жизни: «Стиль художественного произведения заимствуется автором из его первичных восприятий жизни, из его общего мироощущения, из его философских, эстетических, религиозных, общественных, политических и других взглядов, имеющих очень мало общего с непосредственной фабулой самого произведения» [Лосев, Тахо-Годи, 2006, 10].
В свою очередь, мы будем говорить о стилях символики Достоевского в разные периоды творчества, о его символическом миросозерцании в целом в связи с духовной биографией писателя. По мысли свт. Игнатия Брянчанинова, сочинения писателя есть неосознаваемая им исповедь: «… в писателе непременно от избытка сердца уста глаголют; или: сочинение есть непременная исповедь сочинителя, но по большей части им непонимаемая…» [Игнатий (Брянчанинов), 2014, Творения, т. 5, 555] Формула Достоевского Без чистого сердца полного и правильного сознания не будет вскрывает духовный закон, связанный с взаимозависимостью ума и сердца, и предполагает, тем самым, что художественное слово писателя является откровением жизни его души. Так художественное слово свидетельствует о внутреннем человеке, а события духовной биографии задают правильную перспективу изучения творчества.
С этой точки зрения, подход «различать, но не разделять» наиболее соответствует миросозерцанию самого Достоевского и является основой художественной символизации.
Глава II
Стили символики Достоевского
4. История вопроса: от полемики С. Н. Булгакова и Вяч. Иванова до наших дней
Уже современники Достоевского выделяли в его творчестве символический аспект, хотя понятие символа при этом использовалось не всегда. Так, Вл. С. Соловьев в «Трех речах в память Достоевского» пишет о том, что главным предметом изображения в произведениях Достоевского является общественное движение, причем общественным идеалом для писателя была Церковь [Соловьев, 1990, 295–301]. Философ различает Церковь фактическую и Церковь грядущую. Церковь фактическая включает в себя две формы христианства – храмовое и домашнее. Храмовое христианство сосредоточено на поклонении Христу в храме, но деятельная жизнь остается не-христианскою. Домашнее христианство означает возделывание личной нравственности. Здесь уже есть желание управлять деятельной жизнью, но такое христианство не распространяется на дела «общественные, гражданские и международные». Поэтому должно наступить истинное христианство – вселенское [Соловьев, 1990, 302–303]. Храмовое христианство означает христианство внешнее, фактическое. Домашнее христианство уже знает внутреннюю жизнь, но пока только индивидуальную, в то время как еще предстоит признание Христа в качестве всемирно-исторического начала всечеловеческой Церкви или Церкви вселенской [Соловьев, 1990, 303].
Здесь у Соловьева заметно влияние диалектической схемы противопоставления тезиса антитезису в их дальнейшем соединении в синтезе: внешнее «храмовое» христианство и внутреннее «домашнее» христианство в синтезе должны дать христианство вселенское, в котором внешняя «общественная деятельная жизнь» должна проникнуться началами, свойственными «внутренней индивидуальной жизни». Русская история как часть истории человечества также проходит указанные стадии: сначала вызревает тело России; в царствование Александра II начинается процесс ее духовного рождения; синтезом должен стать процесс примирения в России западников и славянофилов, что, в свою очередь, должно стать началом примирения христианских Востока и Запада [Соловьев, 1990, 318].
Смысловое движение от внешнего к внутреннему и их синтезирование задают символическую перспективу схемы: в истории христианства (внешнее как факт) происходит вызревание «вселенской Церкви» (внутреннее как духовный смысл).
Все эти размышления очень хорошо выражают историософскую позицию самого Соловьева, но вряд ли их можно полностью отнести к Достоевскому. Да, последний писал о всемирном единении во Христе, но насколько совпадают идея Соловьева о «вселенской Церкви» и идея Достоевского о всемирном единении во Христе – это вопрос. Как правильно замечает прот. Георгий Флоровский, близость Достоевского и Соловьева – в единстве личных тем. И хотя Достоевский мечтал обратить государство в Церковь, все же эта мечта отставала от его «подлинных прозрений». Писатель был «чутким тайнозрителем человеческой души» и его романы написаны о вере [Флоровский, 2009, 381]. Напротив, для Соловьева первичен не человек и не его средоточие – человек внутренний, – а человечество. Отдельное лицо здесь только индивидуализация всеединой сущности или всеединства [Зеньковский, 2001, 490].
Таким образом, в антропологии Соловьева повторяется платоническая парадигма мировидения, согласно которой земной мир является отображением мира идеального. Такому мировидению соответствует естественный символизм. Представление о человечестве как едином организме и отождествление индивидуальности с всечеловечностью, так что внутренний человек соотносится с Душой мира – Софией, – вырастало у философа из каббалистических идей. В этом смысле соловьевский символизм есть символизм органический.
Символизм Соловьева затем будет воспроизводится в последующих отечественных религиозно-философских концепциях творчества Достоевского.
В 1914 году состоялось заседание Московского религиозного-философского общества, посвященное инсценировке романа «Бесы» на сцене Московского Художественного театра. С докладом по роману выступил С. Н. Булгаков, а основным оппонентом, оспорившим некоторые тезисы докладчика, был Вяч. Иванов, который выступил практически с содокладом. Полемика как раз касалась характера символической образности в «Бесах».
Значительность этого события заключается в том, что символизм Достоевского был впервые осознан как проблема.
В статье «Основной миф в романе «Бесы»» Иванов называет произведение символической трагедией, а художественное метод Достоевского реалистическим символизмом: «Роман «Бесы» – символическая трагедия, и символизм романа – именно тот «реализм в высшем смысле», по выражению самого Достоевского, который мы называем реалистическим символизмом. Реалистический символизм возводит воспринимающего художественное произведение a realibus ad realiora – от низшей действительности к реальности реальнейшей. В процессе же творчества, обратном процессу восприятия, обусловливается он нисхождением художника от предварительного интуитивного постижения высшей реальности к ее воплощению в реальности низшей – a realioribus ad realia» [Иванов, 1987, 437].
С точки зрения Иванова, Достоевский находит внутренний смысл случающегося в мире в событиях чисто-реальной жизни, которые скрываются, в свою очередь, в тайниках душевной жизни, то есть во внутреннем человеке: «Итак, внутренний смысл случавшегося улавливает тот, кто различает под его движением сокровенный ход иных, чисто-реальных событий. Действующие лица внутренней реальной драмы – люди, но не как личности, эмпирические выявленные в действии внешнем или психологически постигнутые в заветных тайниках душевной жизни, но как личности духовные, созерцаемые в их глубочайших умопостигаемых глубинах, где они соприкасаются с живыми силами миров иных» [Иванов, 1987, 438].
Внутренний смысл событий скрыт в тайниках душевной жизни, изображение во «внешних действиях» «самых сокровенных состояний души» [Иванов, 1987, 498] – это, в сущности, формулы духовного символизма.
Но все же реалистический символизм Иванова нельзя назвать символизмом духовным, так как понимание душевной жизни у этого яркого представителя Серебряного века далеко выходит за границы христианских представлений. Большую роль в его философско-эстетической мысли играет гностицизм. Особенно отчетливо начала гностического мировоззрения сказываются в антропологии Иванова: понятия «Душа мира» и «народ» наделяются ипостасностью, гипостазируются, а отдельный человек, человек как индивидуум, ипостасности лишается, и реальность свою, подлинность своего бытия обретает лишь при касании к умным сущностям. В работе 1932 года «Достоевский. Трагедия. Миф. Мистика» Иванов пишет: «Итак, внутренний смысл случающегося улавливает тот, кто различает под его движением сокровенный ход иных, чисто реальных событий. Для этого требуется особое проникновение в сущность сверхиндивидуальных воль и в их отношение к воле отдельной личности. Действующие лица внутренней, реальной драмы – люди, но не как личности, эмпирически выявленные в действии внешнем, но, в первую очередь, как носители соборной воли, которая осуществляется в их действии. Это действие соопределяет их и ими определяется. В историческом плане они предстают перед нами и как отдельные существа, и как органы некоей собирательной души, даже если лишь очень смутно сознают, – или не сознают вообще, – свою конкретную связь с сверхличным – и все же на свой лад личным – целым, к сфере которого они принадлежат» [Иванов, 1987, 519]. Соответственно, герои «Бесов» символизируют события, происходящие в умопостигаемой сфере – сфере, где действуют «Вечная Женственность», «Душа мира/Душа земли», «силы Зла», «Душа русская»: «Достоевский хотел показать в «Бесах», как Вечная Женственность в аспекте русской Души страдает от засилья и насильничества «бесов», искони борющихся в народе с Христом за обладание мужественным началом народного сознания. Он хотел показать, как обижают бесы, в лице Души русской, самое Богородицу (отсюда символический эпизод поругания почитаемой иконы), хотя до самих невидимых покровов Ее досягнуть не могут (символ нетронутой серебряной ризы на иконе Пречистой в доме убитой Хромоножки)» [Иванов, 1987, 523].
С одной стороны, здесь перед нами пример естественного, античного, символизма, когда планы земной жизни зеркально отображают события, происходящие в умопостигаемой сфере. С другой стороны, в отличие от античности, здесь все сферы – высшая и низшая – персонализированы, что говорит о христианском мировоззрении Иванова. Но это и не вполне христианское мировоззрение, а именно гностическое. Для иллюстрации достаточно сравнить символологические толкования в указанных работах о романе «Бесы» с гностической символикой. Так, Хромоножка символизирует Душу Мира и Богородицу, а всякий жест или поступок, слово персонажа трактуется как символ событий в умопостигаемой сфере: «Поэтому у нее (у Хромоножки. – С.Ш.) зеркальце в руке: Душа Мира созерцает себя непрестанно в природе» [Иванов, 1987, 524]. Сравним с гностической символикой Софии, как она выразилась в гностическом памятнике «Деяния Фомы»: «Произносимые ее (Софии. – С.Ш.) языком слова являются занавесью высшей истины. Ее шея – образ трех ступеней, которые создал первый Демиург. Обе ее руки указывают на хор счастливых эонов и на «врата града»…» [Лосев, 2000, т. 8₁, 369]
Булгаков в статье «Русская трагедия», написанной в 1914 году, определяет символическое миросозерцание Достоевского в понятиях Иванова: «Роман «Бесы», как и все вообще творчество Достоевского, принадлежит к искусству символическому, причем символика его только внешне прикрыта бытовой оболочкой, он реалистичен лишь в смысле реалистического символизма (по терминологии Вяч. И. Иванова); здесь символизм есть восхождение a realibus ad realiora, постижение высших реальностей в символах низшего мира» [Булгаков, 1993, т. 2., 501]. Он также оперирует понятиями «Души мира», «Вечной Женственности», «Матери-Земли». Также в описании духовного мира использует каббалистические понятия «мужского и женского» начал в душе.
Но в целом, в булгаковской антропологии, как она выразилась в статье, христианский персонализм выражен более сильно, нежели у Иванова. У последнего выбор веры – бытие с Богом или бегство от Бога в небытие, – волевой акт случается однажды и раз и навсегда. Выбор совершается в метафизической сфере, а все последствия этого выбора задают поведение и судьбу человека в низших сферах [Иванов, 1987, 510]. Человек здесь в принципе медиум последствий выбора, который совершается хотя и во времени, но времени не принадлежит. Земная жизнь человека – символ события и событий в умопостигаемой сфере. Душевная борьба в человеке при этом объясняется как расщепление Я на части. Вот как описывается, например, внутренний мир Мити Карамазова: «Конечно, он (Митя Карамазов. – С.Ш.) пожелал отцу смерти. Как же относится это преходящее пожелание к категориям умопостигаемой воли? Не поет его страждущая душа «Да» и «Аминь» Творцу миров? Но все же часть его я волит иначе и ограничивает своим хаотическим проявлением первоначальную волю целого я, которая есть воля к Богу, то есть воля Божья, воля Сына к Отцу, она же воля Отца к Сыну. Эта страстная часть внутреннего существа Димитрия должна очиститься страданием, потому что страдает все, отдаляющееся от первоисточника бытия» [Иванов, 1987, 510–511]. Булгаков же видит выбор веры или неверия во времени человеческой жизни, как это и есть в христианском вероучении. Борьба веры и неверия составляет сущность земного существования: «Для Достоевского, так же как и для нас, прислушивающихся к его заветам, русская трагедия, есть по преимуществу религиозная, – трагедия веры и неверия. «Верую, Господи, помоги моему неверию», – вот что и в жизни и в творчестве Достоевского, а в частности, и в «Бесах», молитвенным и покаянным воплем вырывается из его души. Для него есть только одна правда жизни, одна истина – Христос, а потому и одна трагедия – не вообще религиозная, но именно христианская. Стремление ко Христу, бессилие быть с Ним и борьба с Ним бушующего своеволия – вот ее предустановленное содержание» [Булгаков, 1993, т. 2, 501]. Медиумичность персонажей «Бесов» для Булгакова есть знак подчиненности свободной человеческой личности силам зла, в то время как у Иванова медиумичность отдельного человека имеет онтологическое измерение – так устроено бытие. Поэтому не случайно Иванов увидел в статье Булгакова схематизм и морализаторство: «Так мне кажется, что он (Булгаков. – С.Ш.) слишком рано читает мораль героям Достоевского, слишком рано потому, что, как мне кажется, он, зачастую, недостаточно понял, проник во внутренний мир этих самых героев. <…> Но этот мир гораздо более значителен и сложен и, пожалуй что, этой мерке в простой схеме не мало не подлежит» [Иванов, 1999, 65].
Различное понимание символа стало причиной и различия символических интерпретаций. В частности, полемику вызвала трактовка символического содержания образа Хромоножки. Булгаков утверждал, что Хромоножка есть символ до-христианского, языческого мироощущения. Иванов увидел в ней, помимо прочего, символ Богородицы.
Символические интерпретации произведений Достоевского в рамках философско-художественных направлений символизма и имяславия не были единственными. На двадцатые года XX столетия приходится книга М. М. Бахтина о творчестве Достоевского. В 1929 году выходит книга «Проблемы творчества Достоевского», а в 1963 году было осуществлено переработанное второе издание работы с измененным названием «Проблемы поэтики Достоевского». Эта книга, как и творчество Бахтина в целом, до сих пор в литературоведении и в достоевсковедении, в частности, воспринимается в качестве значительного явления и вызывает многостороннюю полемику. Основное направление споров относится к определению философско-религиозной доминанты мысли Бахтина, которая прокладывала себе дорогу через идейные сплетения и разногласия философских школ и концепций неокантианства, феноменологии, персонализма, философии жизни, экзистенциализма, философии диалогизма и др., в чем-то с этими направлениями солидаризируясь, а чему-то противореча. Осложняет дело и то обстоятельство, что философские мысли ученого выражены отрывочно, зачастую конспективно – законченного философского трактата не сохранилось.
В задачи нашего исследования не входит ни вопрос мировоззрения Бахтина, ни история восприятия его концепции полифонического романа. Но есть одна проблема, так или иначе, связанная с темой символического миросозерцания Достоевского. Речь идет о христианском прочтении философии и поэтологии ученого. Так, И. А. Есаулов утверждает, что в контексте размышлений Вяч. Иванова о соборности в отношении к художественному мировидению Достоевского, «бахтинская концепция полифонии онтологически родственна идее православной соборности» [Есаулов, 1995, 132]. В свою очередь, Л. А. Гоготишвили, одна из авторов комментариев к семитомному собранию сочинений Бахтина, анализируя концепцию диалогизма и полифонизма, пишет о характере присутствия автора-творца в его творении: «… М.М.Б. (Бахтин. – С.Ш.) настаивал вместе с тем на функциональном присутствии автора в произведении <…>, то есть настаивал – если перевести это в религиозно-философский контекст – на наличии не субстанционального, но иного по своей природе касания Божественного и тварного миров. Если оценивать позицию М.М.Б. как лежащую в русле православия, то в качестве объясняющей посылки для понимания этой особой связи можно мыслить православный энергетизм, но в любом случае известен конечный символ бахтинского понимания этой связи – диалогизм (диалогизм поддается энергетическому, но не только энергетическому, толкованию)» [Гоготишвили, 1997, 392]. При этом ученая говорит о «запретности» категории символа у Бахтина, об ощущении «терминологической пустоты» в отношении символа [Гоготишвили, 1997, 389].
В связи с этим возникает вопрос: как христианское миросозерцание может быть несимволичным, если в христианстве говорится о мире духовном, невидимом для чувственного восприятия, и мире земном, видимом?
Гоготишвили, правда, отмечает, что категории мифа и символа, тем не менее присутствуют у Бахтина, всякий раз возникая в его размышлениях под другими именами, когда его мысль касается «всеобъемлющего аксиологического и ценностного целого» [Гоготишвили, 1997, 389].
Очевидное указание на символизм Достоевского (под другим именем) мы находим в следующем тезисе ученого. Он говорит о художественном переводе жизни души у Достоевского в мир явлений и событий. С точки зрения Бахтина, «внутренние противоречия и внутренние этапы развития одного человека он (Достоевский. – С.Ш.) драматизирует в пространстве, заставляя героев беседовать со своим двойником, с чертом, со своим alter ego, со своей карикатурой (Иван и черт, Иван и Смердяков, Раскольников и Свидригайлов и т. п.). Обычное у Достоевского явление парных героев объясняется этой же его особенностью. Можно прямо сказать, что из каждого противоречия внутри одного человека Достоевский стремится сделать двух людей, чтобы драматизировать это противоречие и развернуть его экстенсивно» (Бахтин, 2000, 37).
Образы героев как драматизация внутренних противоречий. Это уже очень близко к пониманию художественного миросозерцания Достоевского времени написания «Преступления и наказания». Не случайно, начиная с этого романа писатель будет в ПМ (здесь и далее «подготовительные материалы». – С.Ш.) к романам прорисовывать образы героев во взаимосвязи. Так, Раскольников, Свидригайлов, Лужин будут объединены идеей власти; в ПМ к роману «Идиот» Ганя, Рогожин и Мышкин – уровнями любви и т. д.
Но у Бахтина внутренний мир сводится к точке зрения, то есть к сознанию, так что глубина человека, жизнь его сердца или души оказываются за границами внимания исследователя. Да, говорится о диалоге между человеком и Богом, но дело в том, что, по существу, отношения Бога и человека – это не диалог, если понимать под диалогом выявление за и против. Когда мы говорим о жизни души в христианском ее понимании, то речь идет не о выяснении и выявлении-преодолении противоречий, а о движениях души по направлению к Богу или от Бога. Эти движения многовидны, имеют разную степень интенсивности и они-то и отображаются на внешнем человеке, то есть в его мыслях и чувствах, в его мироотношении. Но тогда следует говорить не о диалогизации, а о символизации, то есть о духовном символизме.
Для Бахтина же личность человека – это его сознание: «Последней неделимой единицей была для него (Достоевского. – С.Ш.) не отдельная предметно-ограниченная мысль, положение, утверждение, а цельная точка зрения, цельная позиция личности. Предметное значение для него неразрывно сливается с позицией личности. В каждой мысли личность как бы дана вся целиком. Поэтому сочетаний мыслей – сочетание целостных позиций, сочетание личностей. Достоевский, говоря парадоксально, мыслил не мыслями, а точками зрения, сознаниями, голосами» [Бахтин, 2000, 65]. Цитата приведена из книги 1929 года «Проблемы творчества Достоевского». Весьма показательное высказывание. Спустя тридцать лет отождествление личности с сознанием будет выражено еще ярче: «Расширение понятия сознания у Достоевского. Сознание, в сущности, тождественно с личностью человека: все в человеке, что определяется словами «я сам» или «ты сам», все, в чем он находит и ощущает себя, все, за что он отвечает, все между рождением и смертью» [Бахтин, 1997, 350].
Заметим: утверждение, что в каждой отдельной мысли вся личность дана целиком, предполагает символ. Но что такое «личность целиком» у Бахтина? То есть, на что символически указывает «каждая мысль»? На то же сознание, которым покрывается и соизмеряется, как представляется ученому, глубина внутреннего человека. В «1961 год. Заметки» слова Достоевского «найти человека в человеке» истолковываются в отношении сознания: «Самосознание как доминанта изображения героя. Но эта доминанта предполагает радикально новую авторскую позицию к изображаемому герою. <…> Дело идет именно об открытии такого нового целостного аспекта человека (личности или «человека в человеке»), которое требует радикально нового подхода к человеку, новой авторской позиции. «Человек в человеке» это не вещь, не безгласный объект, – это другой субъект, другое равноправное «я», которое должно свободно раскрыть себя самого» [Бахтин, 1997, 365]. Таким образом, выражение Достоевского «глубины души человеческой» принимают в бахтинском прочтении значение все того же сознания: «Достоевский сделал дух, т. е. последнюю смысловую позицию личности, предметом эстетического созерцания, сумел увидеть дух так, как до него умели видеть только тело и душу человека. Он продвинул эстетическое видение в глубь, в новые глубинные пласты, но не в глубь бессознательного, а в глубь-высоту сознания. Глубины сознания есть одновременно и его вершины (верх и низ в космосе и в микрокосмосе относительны)» [Бахтин, 1997, 345–346].
Но высказывание Достоевского о «человеке в человеке» не позволяет сводить внутренний мир к сознанию. Приведем фразу полностью: «При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я конечно народен (ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного), – хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему. Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой» (27; 65). В контексте концепции диалогизма, в основе которой находится отождествление человека с сознанием, в данном высказывании следует обратить внимание на два понятия – реализм и христианство. Если принять за истину тезис о том, что «глубина души» есть глубина сознания, тогда возникает вопрос: зачем тогда говорится о «полном» и «высшем» реализме? «При полном реализме» означает соответствие изображаемого явления требованиям законам земного бытия. Но «глубины души человеческой», что следует из контекста фразы, выше, превосходят эти законы, не укладываются в них. Следовательно, задача, которую себе ставит писатель, заключается в том, чтобы, сохраняя требования реализма, говорить о том, что выше реализма. Поэтому, кстати, и появляется выражение «реалист в высшем смысле», указывающее на реальность, превышающую «полный реализм». Если же понимать глубину души как глубину сознания, то есть такую глубину, которая тем не менее насквозь доступна осознанию, тогда высказывание Достоевского утрачивает смысл, так как сознание целиком укладывается в параметры «полного реализма».
И главное, что противоречит концепции Бахтина, это указание Достоевского на связь «глубины души человеческой», «человека в человеке» с «глубинами христианского духа народного». Очевидно, что понимание души человека у писателя истекает из христианской антропологии, раскрытой в святоотеческом богословии, и положения которой трудно согласуются с антропологическими представлениями Бахтина. В этом смысле характерно бахтинское прочтение «Записок из подполья»: ученый, что называется, «смотря не видит» христианского содержания приводимых им цитат из произведения. Типы мечтателя и подпольного, с точки зрения Бахтина, появляются в раннем творчестве Достоевского в качестве героев, «сознающих по преимуществу» [Бахтин, 2000, 47]. Так, человек из подполья воспринимается в перспективе внутреннего диалогизма; его слово «двуголосно», а в центре изображения – сознание. И в качестве примера приводится следующий отрывок из «Записок из подполья»: «“И это не стыдно, и это не унизительно!» может быть, скажете вы мне, презрительно покачивая головами. “Вы жаждете жизни и сами разрешаете жизненные вопросы логической путаницей <…> В вас есть и правда, но в вас нет целомудрия; вы из самого мелкого тщеславия несете вашу правду на показ, на позор, на рынок… Вы действительно хотите что-то сказать, но из боязни прячете ваше последнее слово, потому что у вас нет решимости его высказать, а только трусливое нахальство. Вы хвалитесь сознанием, но вы только колеблетесь, потому что хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца – полного и правильного сознания не будет…”» (5; 121) Но содержание отрывка не позволяет утверждать, что в центре изображения только сознание и «двуголосое» слово, напротив, здесь мы имеем другой круг проблем.
Во-первых, трагедия Подпольного не в невозможности воплощения и не в «дурной бесконечности» самосознания, а в расхождении помыслов и дел, жизни сознания и поступка: «Скажите мне вот что: отчего так бывало, что, как нарочно, в те самые, да, в те же самые минуты, в которые я наиболее способен был сознавать все тонкости “всего прекрасного и высокого”, как говорили у нас когда-то, мне случалось уже не сознавать, а делать такие неприглядные деяния, такие, которые… ну да, одним словом, которые хоть и все, пожалуй, делают, но которые, как нарочно, приходились у меня именно тогда, когда я наиболее сознавал, что их совсем бы не надо делать?» (5; 102)
Во-вторых, расхождение мысли и дела является следствием расхождения ума и сердца, так как сознание – единственная жизненная опора Подпольного. В приведенном Бахтиным отрывке о сознании говорится через соположение с сердцем – о содержании жизни ума и о содержании жизни сердца. Так, «правдой» живет ум, а «целомудрие» – категория жизни сердца. «Ум работает», а сердце «развратом помрачено». Сердце с умом-сознанием связано напрямую: «без чистого сердца полного и правильного сознания не будет».


