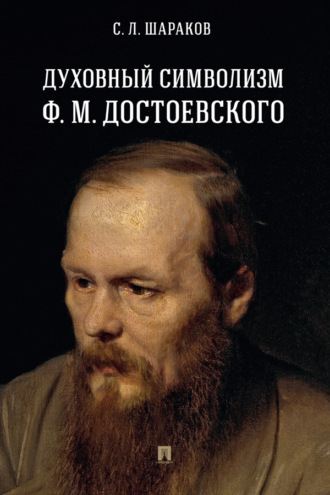
С. Л. Шараков
Духовный символизм Ф. М. Достоевского
Надо иметь в виду, что толкование Св. Писания в свете Предания не означает подбора цитат из святоотеческого наследия. Нет, речь идет о том, чтобы придерживаться духа Св. Отцов. На практике это означает жизнь христианина в Церкви и установку его сознания на святоотеческое понимание Библии. Установка же сознания на своем, индивидуальном/произвольном понимании означает опору на свет естественного разума.
Так как цель целью боговдохновенного слова является спасение человека, то и средоточие духовного символизма заключается в символической связи видимого мира и внутреннего мира человека или внутреннего человека. Поэтому учение о внутреннем человеке, о соотношении внутреннего и внешнего человека, принадлежащее апостолу Павлу, является основой духовного символизма: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное; есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные; каков небесный, таковы и небесные» (1 Кор. 15: 44–48). «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор. 4: 16).
В связи с вышеизложенным, далее мы будет говорить о символизме духовном и символизме естественном, имея в виду динамическую характеристику души, характеристику ее состояний: духовный символизм означает духовное видение (что означает изменение, благодатное преображение ума) духовного и чувственного мира, естественный символизм означает опору на естественный разум и восхождение от видимого к невидимому.
В святоотеческих творениях мы находим ясное разграничение между естественным и благодатным познанием, что и задает типы, соответственно естественного символизма и символизма духовного.
В частности, познание на основе естественного разума св. Григорий Палама, в согласии с апостолом Павлом, называет природным, нацеленным на изучение откровения Бога в противоречивых явлениях бытия: «… выставим вперед тех, кто познал Бога через самое знание Творений. Их созерцание и познание недаром именуется природным законом (Рим. 2: 14); до патриархов, пророков и писанного закона оно направляло и обращало род человеческий к Богу, показывая Творца тем, кто не отошел вслед за эллинскими мудрецами и от этого природного познания. <…> Так что познание тварей до закона и пророков обратило род человеческий к богопознанию, обращает его и теперь…» [Григорий Палама, 2007, 258–259].
Природное, естественное, знание соответствует духовному возрасту, который, начиная с апостола Павла, получил название младенчество: «Богопознание через сущее отвечало младенчеству живших до закона; и Авраам, как сказано, от него получил начало своего богопознания, но потом беседовал с Богом и познавал Его уже иначе» [Григорий Палама, 2007, 286–287].
Знание, основанное на данных естественного разума, как уже отмечалось, не признавалось св. Отцами достоверным еще и по той причине, что естественный разум неизбежно опирается на образы, на воображение.
В соответствии с таким представлением в святоотеческой письменности мы встречаем отрицательное отношение к действию ума при помощи воображения, так как воображение суть способность удерживания в памяти при помощи образов представлений о чувственных восприятиях. Поврежденная грехом природа человека не может в чистоте видеть мир, поэтому через чувственное начало воздействуют на человека демоны [Нил Синайский, 2010, 108]. Более того, воображение является препятствием к богообщению, боговидению [Каллист и Игнатий Ксанфопулы, 2010, 198].
Знанию духовного младенца, вероятностному, в котором истина смешана с ложью, свет со тьмой, противопоставляется знание благодатное, достоверное – знание совершенных, имеющих «ум Христов» [Григорий Палама, 2007, 260].
В этом смысле природное познание с опорой на естественный разум и благодатное знание с опорой на преображенный разум сменяют друг друга в ходе духовного созревания, как человечества в целом, так и каждого человека.
Итак, под духовным символизмом понимается духовное видение мира видимого. Полное, достоверное видение мира видимого открыто преображенным уму и сердцу, так что только совершенные в духовном познании могут познавать видимое через невидимое, то есть открывать духовную сущность событий мира видимого.
Нормативным искусством христианского Средневековья было искусство церковное, основным принципом которого является «образное выражение учения Церкви». Тематика церковного искусства «соответствует священным текстам – библейским, литургическим и святоотеческим» [Успенский, 2014, 35].
И в заключение сделаем ряд существенных уточнений, проясняющих понятие духовного символизма.
В силу того, что оно является ключевым в нашем исследовании и впервые вводится в научный оборот, остановимся на нем более подробно.
На наш взгляд, понятие духовный символизм помогает осмыслить и выявить специфику христианского символизма, помогает ясно обозначить его отличие от других типов символизма. Понятия же «христианский символизм», «моральный символизм», «средневековый символизм» представляются нам по разным причинам недостаточными.
Определение христианский символизм настолько широко, что вбирает в себя все способы и области символизации, принятые в христианстве. Так, например, говорят о типологическом символизме как методе истолкования Ветхого Завета в свете Христовой истины, а также соотношения небесной и земной иерархий [Амфилохий (Радович), 2008, 44–45]. Образы Ветхого Завета при этом прочитываются как прообразы Иисуса Христа. Особое место занимает богослужебный или литургический символизм, когда то или иное богослужебное действо символизирует события Священной истории, тайны Домостроительства Бога, тайны и порядок духовного совершенствования [Максим Исповедник, 1993, 154–184]. Частично используется и античный символизм. Это может быть, к примеру, символика чисел [Кириллин, 2000]. Поэтому отношения между определением христианский символизм и определением духовный символизм – это родовидовые отношения: духовный символизм есть разновидность христианского символизма, но такая разновидность, которая из всех разновидностей наиболее полно выражает его сущность.
В понятии средневекового символизма стирается принципиальное для нашего исследования различие между принципами символизма, как они сложились на христианском Востоке и на христианском Западе. В подтверждение приведем типичное высказывание: «На Западе и на Руси сущность средневекового символизма была в основном одинакова…» [Лихачев, 1979, 163].
П. Гайденко, наряду с другими учеными, придерживается понятия моральный символизм: «Ни одно явление, ни одна вещь не открывают здесь сами себя; каждая указывает на иное, на высший, потусторонний смысл; каждая вещь есть символ. Отсюда и проистекает та характерная черта средневекового сознания, которую называют «моральным символизмом» и которая выражается в типичном для Средневековья интересе к естественным явлениям как к «иллюстрации истин морали и религии»» [Гайденко П. П., 2010, 257].
Определение моральный символизм уже ближе к главному отличительному свойству христианского символизма, так как сосредотачивает внимание на внутреннем мире человека, на внутреннем человеке. Но слово моральный связано с понятием нравственности, которая являет собой только верхний слой внутреннего мира человека.
Слово же духовный, представляется, точно передает существо христианского символического миросозерцания.
Но и здесь требуется разъяснение, так как понятие духовность в святоотеческой письменности и «духовность» в общепринятом значении существенно различаются.
В современном философском словаре отмечается, что в зависимости от идейного контекста «дух» может противопоставляться природе, жизни, материи, утилитарной необходимости, практической активности [Философский словарь, 2001, 171]. Противопоставление здесь носит статичный характер – это противопоставление качественно различных сфер бытийственности.
А. В. Моторин в книге «Теория русской словесности» прослеживает историю осмысления «духовности» в русской словесности XVII–XIX вв. и дает такое определение: «Итак, духовность человека – это состояние бесплотной человеческой души, так или иначе взаимодействующей с входящим в нее через в-дохновение сверхчеловеческим «духом», будь он добрым или злым, божественным или демоническим» [Моторин, 2013, 22]. Здесь также духовное противопоставляется природному, «плотскому». И уже в зависимости от характера духовности предлагается говорить о различных, часто противоборствующих направлениях духовности [Моторин, 2013, 20]. Но появляется и новый момент: духовность человека понимается как определенное состояние души, что вносит динамическое начало в понятие духовности. Но так как вхождение в духовное состояние означает у исследователя взаимодействие с духовным миром, а отсутствие этого взаимодействия означает без-духовность, то в целом тут сохраняется представление о духовном и чувственном как двух качественно различных пространствах бытия.
Встречается оно и в святоотеческой письменности, когда речь идет об устроении человека, то есть о статической характеристике человека. Так говорится о трихотомии (дух-душа-тело) или о дихотомии (душа-тело). Но в целом св. Отцы разумеют под духовностью нечто иное, так как выражают через это понятие динамику внутренней жизни, и уже тогда речь идет о духовном возрасте души, ее состояниях.
Вот что пишет св. Игнатий (Брянчанинов): «… человек может быть в трех состояниях: в естественном, нижеестественном или чрезъестественном и вышеестественном. Эти состояния иначе называются: душевное, плотское, духовное. <…> Нижеестественный, плотской, страстный есть служащий вполне временному миру, хотя бы он и не предавался грубым порокам. Естественный, душевный, пристрастный есть живущий для вечности, упражняющийся в добродетелях, борющийся со страстями, но еще не получивший свободы, не видящий ясно ни себя, ни ближних, а только гадательствующий как слепец, ощупью. Вышеестественный, духовный, бесстрастный есть тот, кого осенил Дух Святый, кто, будучи исполнен Им, действует, говорит под влиянием Его, возносится превыше страстей, превыше естества своего» [Игнатий (Брянчанинов), 2014, Письма, т. 2, 445–446].
Главное, на что следует обратить внимание в определении св. Игнатия, слово духовный относится здесь не к статическому разделению дух-душа-тело, а к динамическому различению состояний души. Но под состоянием души понимается не взаимодействие с духовным миром или отсутствие этого взаимодействия, а возраст души, который определяется степенью свободы от страстей.
Вне духовного, благодатного состояния человеку доступно состояние душевное или естественное, которое предполагает и борьбу со страстями, и направленность на духовное, но, вместе с тем, которое, не имея бесстрастности духовного состояния, характеризуется смешением света и тьмы, добра и зла.
Из душевного или естественного разума создаются художественные и научные произведения [Игнатий (Брянчанинов), 2014, Письма. Т. 2, 218].
Далее следует уточнить характер связи между внутренним и внешним человеком в духовном символизме, так как в этом моменте ярко выражается особенность стиля христианской символики.
Мы уже приводили слова Т. Миллер о символизме внутреннего человека у прп. Макария, где эта связь видится как отыскание аналогий внешнего и внутреннего человека [Миллер, 2001, 252–253], так что символическое миросозерцание оказывается по факту интеллектуальным трудом отыскания аналогий по какому-то общему признаку. Такой подход привносит в понятие духовного символизма момент аллегоризма, так как события, происходящие с внешним человеком, начинают пониматься как иллюстрация событий внутреннего мира.
Отцы же исходили не из стратегии поисков аналогий, а из духовного видения целостности мира – видимого и не видимого. Прп. Максим Исповедник пишет о единстве мира о тождестве самим себе и друг другу видимого и невидимого мира: «При всем том, мир – един и не разделяется вместе с частями своими; наоборот, путем возведения к своему единству и неделимости, он упраздняет различие их, происходящее от природных особенностей этих частей. Ведь они, неслиянно чередуясь, являются тождественными самим себе и друг другу, показывая, что каждая часть может входить в другую, как целое в целое» [Максим Исповедник, 1993, 159].
Природные особенности миров проявляются в том, что умопостигаемый мир проявляется в мире видимом отпечатлениями посредством символических образов, а мир видимый содержится в мире умопостигаемом в виде логосов [Максим Исповедник, 1993, 159–160]. Св. Николай (Велемирович) отмечает, что Св. Писание ничего не открывает о сущности вещей зримого мира (выявление сущности вещей – задача Античности), но много говорит об их значении. Другими словами, разумение мира, открытое Богом в Библии, относится не к сути, а к тому, какое значение та или иная вещь имеет для человека, для его спасения. В этом понимании смысл вещей есть «спасительная грамота» предложенная Богом своим детям – людям. Следовательно, заключает св. Николай, «разумная сущность вещей – это их предназначение» [Николай (Велемирович), 2016, 76]. Св. Игнатий, со своей стороны, добавляет, что разделение единого бытия на мир видимый и не видимый условно и является последствием грехопадения [Игнатий (Брянчанинов), 2014, Творения, т. 2, 662–663].
В научной литературе точное понимание соотношения земного и небесного мы находим у Д. С. Лихачева: «С точки зрения древнерусского автора, в мире существует вечная соотнесенность двух миров – божественного и земного. Земной, временный мир имеет вневременный, надмирный смысл. Смысл этот не абстрактный, не вносимый в него человеческой мыслью, а с точки зрения средневекового писателя, как бы вполне конкретный, реально существующий» [Лихачев, 1979, 271].
Таким образом, духовный символизм рождается в культуре христианского Средневековья. Он характеризуется новым пониманием бытия Бога, мира и человека, новым пониманием соотношения духовного и материального, а, следовательно, и новой гносеологией.
3. Символ в литературе Возрождения и Нового времени
Надо сказать, что элементы античного стиля символики так или иначе присутствовали в христианской культуре Средневековья, но оценка и понимание начал античной культуры, в том числе и начала символизма, в христианстве восточном – византийском – и западном существенно отличались.
Как уже было сказано, символизм, основанный на естественном разуме, на воображении не признавалась христианскими книжниками достоверной, в связи с чем формировалось и отношение к античной философии и, в целом, словесности. Полезность языческих сочинений виделась в возможности для духовных младенцев учиться различать, отделять нравственно полезное от вредоносного, добро от зла [Василий Великий, 2008, 720–722].
Но такое положение вещей в отношении к языческой мудрости во всей чистоте сохранялось только на христианском Востоке, в то время как на христианском Западе возникает новое соотношение языческого и христианского типов символизма. И это рождает особый тип, стиль символизма, отличный от духовного символизма восточного христианства.
Характер разногласия между православным Востоком и католическим Западом наиболее ясно и резко обозначился в полемике о природе Фаворского света между Варлаамом Калабрийским и святителем Григорием Паламой. Так как стиль символического мышления складывается, формируется в той или иной культуре из духовно-нравственных, вероучительных, мировоззренческих представлений, стоит более подробно изложить содержание и существо спора о природе Фаворского света.
Правда, возникает вопрос: насколько полно идеи и личность Варлаама представляют католическую веру? Тем более, что известный богослов Вл. Лосский полагает, что полемика со стороны Паламы носила более антиязыческий характер, и гораздо менее антилатинский. А. Ф. Лосев, в свою очередь, не ставит знак равенства между «варлаамитами» и католицизмом, так как, по мнению философа, соединение язычества с христианством у них носит неодинаковый характер. Критерий различения заключается в божественной личности: если в учении Варлаама в отношении Бога-личности проповедуется агностицизм, то в католичестве имеется опыт «бесконечной личностной стихии» [Лосев, 1993, 872–874].
Но сам святитель Григорий иначе расставляет акценты: на последних страницах «Триад в защиту безмолвствующих» он характеризует оппонента как латиноязычника. Направление полемической мысли святителя позволяет выявить, в чем это латиноязычество заключается. В третьей Триаде есть прямое упоминание латинства в связи с важной темой – темой благодати: «И разве не прямо то мнение латинян, за которое они были изгнаны из приделов нашей Церкви, что не благодать, но Сам Дух Святой и посылается от Сына и изливается через Сына?» [Григорий Палама, 2007, 302]
Здесь Палама затрагивает проблему филиокве – утверждение, что Св. Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Получается, что Сын, наравне с Отцом, посылает ипостась Св. Духа, то есть является в отношении Духа таким же Началом, как и Отец. Но по святоотеческому учению, ипостась несообщима тварному бытию, так как, наряду с природой Бога, проста и неделима. Поэтому, когда Христос говорит, что посылает Духа, речь идет не о природе или ипостаси, но о благодати, божественных энергиях [Св. Григорий Палама, 2006, 88].
Для латинства же благодать имеет тварное происхождение. В этом пункте и обозначилось главное несогласие в понимании православными и католиками богопознания: для православных Бог сообщим, познаваем только в своих энергиях, которые божественны, но не Бог; для католиков познание Бога проходит через соединение с ипостасью Св. Духа. Православный Восток принял как догмат учение св. Григория Паламы о божественных энергиях, в котором положение о принципиальной непознаваемости Бога в Его природе, внутрибожественной жизни согласовалось с духовным опытом боговидения в Свете благодати, опытом жизни во Христе. Только в нетварных энергиях, которые божественны, но не Бог по природе, возможно единение человека с Богом. Действие благодати преображает разум и чувства. Человек начинает видеть Бога, себя, мир в Божественном свете. Мыслит преображенный разум на основании воображения, исходящего от Бога. Это и означает преображение чувства и разума. Если же мыслить благодать тварной, что и произошло по факту в латинстве, тогда единение с Богом, боговидение, невозможно, ведь между тварью и Богом при таком понимании пролегает непроходимая пропасть. Учение же о сообщаемости человеку, существу сотворенному, ипостаси Духа как раз и вводит, утверждает Палама, в догмат о Пр. Троице тварное начало, так как ипостасные свойства Лиц Троицы, понимаемые Св. Отцами как свойства внутрибожественной жизни, в филиоквическом богословии мыслятся в отношении к тварному бытию [Св. Григорий Палама, 2006, 68].
Следует понимать и то, что не филиокве исказило строй духовной жизни в западном христианстве, наоборот, учение о филиокве выразило утрату христианского духовного опыта в той его чистоте и полноте, какой сохранился на православном востоке. Главное, что было утрачено западными христианами – это опыт жизни по благодати, жизни во Христе, поэтому до сих пор учение св. Григория Паламы о божественных энергиях, о преображении ума и чувств человека остается чуждым и непонятным католическому богословию [Василий (Кривошеин), 2011, 125–126].
Если же мыслить благодать тварной, что и произошло по факту в латинстве, то познание Бога и мира рассекается на познание в вере и познание в разуме. Под разумом, при этом, понимался разум естественный.
Опора на естественный разум и есть введение в католичество языческого элемента, ведь вместе с признанием прав естественного разума из языческой философии унаследовалось и представление о процессе мышления на основе воображения. Это познание имеет в виду Варлаам, когда уравнивает знание Откровения, данное апостолам и отображенное в Св. Писании, и знание, добытое трудом рассматривания, исследования творений. Такое знание предполагает действие естественного разума и воображения. Труд заключается, по убеждению калабрийца, в возведении символов (элементов видимого мира) к их невещественным первообразам. Но Палама утверждает, что такое знание не может быть твердым и точным, потому что символическое знание с опорой на свет естественного разума всегда приблизительно, гадательно, предполагает истолкование. Предполагает, следовательно, и точку зрения, против которой может быть высказана иная точка зрения [Григорий Палама, 2007, 79]. Познание естественным разумом бесконечно в том смысле, что предположительность не имеет конца: «…Всякое слово борется со словом, то есть, значит, и с ним тоже борется другое слово, и невозможно изобрести слова, побеждающего окончательно и не знающего поражения…» [Григорий Палама, 2007, 8] Познание же жизнью означает последование заповедям Христовым и изменение человека – покаяние. Таким образом, отвлеченному умозрению Палама противопоставляет духовный опыт жизни во Христе.
Принятие действий природного разума и воображения в качестве нормы мышления повлекло за собой внесение языческого начала не только в богословие, но в духовный опыт католической мистики, а также в сферу художественного выражения.
Проникновение язычества в духовную и художественную практики ясно обозначилось через категорию античной эстетики – подражание.
Введение понятия подражания в сферу христианского – богословского и художественного – мышления задает особенности стиля ренессансной символики.
В понимании подражания наиболее отчетливо выявляются основания католической мистики. Св. Амвросий Медиоланский, православный святой, говорит, что человек не может подражать Богу. И хотя слово подражание часто встречается в святоотеческой письменности, речь всегда идет об исполнении заповедей. Единственная возможность подражания Христу возникает в состоянии обожения, по слову св. Григория Паламы. Почему у св. Отцов такое отношение к подражанию? В нем главным является бытийственная изоморфность подражающего подражаемому, поэтому и говорится, что Богу подражать невозможно.
Но не так в католичестве. Фома Кемпийский, католический мистик, начинает известную свою книгу «Подражание Христу» с красноречивого тезиса: «Кто последует за Мною, – говорит Христос, наш Спаситель, – тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Такими словами призывает нас Иисус Христос следовать учению его и подражать жизни Его…» [Фома Кемпийский, 1992, 231]. Следование заповедям и подражание жизни разведены – заповедям необходимо следовать, жизни Спасителя – подражать. При этом неизбежно происходит подражание Христу по плоти, то есть подражание жизни Христа до Его Воскресения. Так, например, подражание известного католического святого Франциска Ассизского «выражалось в чисто внешних проявлениях – ассизский подвижник стремился уподобиться Иисусу Христу по наружности, совершая поступки, подобные тем, что творил во время Своей земной жизни Господь» (Алексий Бекурюков, 2014, 18). Франциск, как и Христос, избрал двенадцать учеников и посылал их по двое для проповеди в мир, «превращал» воду в вино, устроил последнюю вечерю и т. д.
Но апостол Павел недвусмысленно утверждает, что христиане после Воскресения не знают Христа по плоти: «Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (Кор. 5: 16). Речь у апостола идет о знании Бога в благодати божественного Света, когда ум и чувства человека преображены, обожены.
В художественной словесности соединение христианства с язычеством породило в западноевропейской культуре новый тип символизма, который ярко выразился в символическом миросозерцании Данте Алигьери.
С одной стороны, творчество Данте принадлежит эпохе зрелого европейского Средневековья. Его представления о символе – это традиционные представления средневекового христианского книжника. Данте видит в тексте четыре смысла – буквальный, аллегорический, моральный и анагогический [Данте, 1968, 135–136]. Первые два смысла поэт раскрывает на примере античной литературы, в частности, в мифе об Орфее Овидия [Данте, 1968, 135]. Вторые два смысла раскрываются на примере Св. Писания. Анагогический смысл, по существу, имеет структуру символа: «Четвертый смысл называется анагогическим, то есть сверхсмыслом или духовным объяснением писания; он остается истинным так же и в буквальном смысле и через вещи означенные выражает наивысшие, причастные вечной славе, как это можно видеть в том псалме Пророка, в котором сказано, что благодаря исходу народа Израиля из Египта Иудея стала святой и свободной. В самом деле, хотя и очевидно, что это истинно в буквальном смысле, все же не менее истинно и то, что подразумевается в духовном смысле, а именно, что при выходе души из греха в ее власти стать святой и свободной» [Данте, 1968, 135–136]
Обратим внимание, что аллегорический смысл связан с поэтическим вымыслом, а моральный и анагогический смыслы – со Св. Писанием, не содержащим вымысла. Все это традиционное разделение в границах западной христианской культуры Средневековья поэтического и богословского смыслов.
С другой стороны, полного, ортодоксального, христианства, у Данте не получается. Указывая на анагогический смысл как на сверхсмысл, когда духовный смысл и смысл буквальный образуют цельность вещей означенных и вещей, причастных славе, он, в сущности, говорит о том, что мы называем духовным символизмом. Но познавательная стратегия при этом исключительно разворачивается в рамках естественного символизма, когда, по слову апостола Павла, невидимое познается через видимое.
С этой точки зрения, важны размышления Данте о внутреннем и внешнем слоях слова, текста. Поэт утверждает, что буквальный смысл означает внешнее, а другие смыслы – аллегорический, моральный и анагогический – внутреннее. Путь к внутреннему лежит через внешнее, поэтому познавать значение внутреннего, сущностного, всегда следует через буквальное значение: «…смысл буквальный всегда должен предшествовать остальным, ибо в нем заключены и все другие и без него было бы невозможно и неразумно добиваться понимания иных смыслов…» [Данте, 1968, 136]
Различение внутреннего и внешнего в слове Данте распространяет и на различение внутреннего и внешнего в вещах, так что наука о слове становится одновременно метафизикой – наукой о сущем. Соответственно, и целеполагание смысла от внешнего к внутреннему остается таким же: как в герменевтике текста буквальный смысл предшествует всем другим смыслам, так и в познании вещей буквальные доказательства предшествуют всем другим доказательствам. Это буквальное воспроизведение слов апостола Павла о познании невидимого через видимое (у Данте, внутреннего через внешнее), открытом язычникам: «Поэтому невозможно достигнуть познания других значений, минуя познание буквального. Далее, это невозможно и потому, что в каждую вещь, будь то создание природы или рук человеческих, невозможно углубиться, не заложив предварительно основания, как в доме или в науке: и так как доказательство есть обоснование науки, а буквальное доказательство есть основание других доказательств, в особенности же доказательства аллегорического, то невозможно приступить к другим, минуя буквальное» [Данте, 1968, 136].
Других стратегий познания у Данте мы не находим, так что естественное познание оказывается одновременно и духовным, что указывает на католическую духовность, в пределах которой движется мысль Данте.
Напомним, подражание Христу в католической мистике приводило к видениям Спасителя «по плоти». В качестве иллюстрации приведем видения католической святой, блаженной Анжелы из книги «Откровения бл. Анжелы». Она просит показать Христа хоть одну часть Его тела, распятого на Кресте. И Бог, как она видит, показывает ей Свою шею: «И тогда явил Он мне Свою шею и руки. Тотчас же прежняя печаль моя превратилась в такую радость и столь отличную от других радостей, что ничего и не видела и не чувствовала, кроме этого. Красота же шеи Его была такова, что невыразимо это. И тогда разумела я, что красота эта исходит от Божественности Его. Он же не являл мне ничего, кроме шеи этой, прекраснейшей и сладчайшей. И не умею сравнить этой красоты с чем-нибудь, ни с каким-нибудь существующим в мире цветом, а только со светом тела Христова, которое вижу я иногда, когда возносят его» [Лосев, 1993, 884–885].
В художественной литературе в качестве художественного кореллята подобных «видений» формируется такой стиль символики, когда человек видится символом Христа и других священных лиц. И Данте здесь принадлежит пальма первенства. Как замечает католический богослов Э. Жильсон, Данте в «Божественной комедии» не побоялся обратить к себе приветствие Вергилия: «Суровый дух, блаженна несшая тебя в утробе!» «При этих словах как не вспомнить текст Евангелия: «Блаженно чрево, носившее Тебя!». И так, оказывается, что мать Данте, которую он едва помнил и о которой никогда нигде не говорил, сравнивается с Девой Марией, а сам Данте, оказав такую честь своей матери, уподобляется самому Иисусу Христу» [Жильсон, 2010, 94].
Такое уподобление в произведении не является ситуативным, так как путешествие поэта по загробному миру повторяет искупительный путь Иисуса Христа: «… путь Данте в целом повторяет основные этапы искупительной жертвы Христа – смерть, воскресение и вознесение, причем события эти воспроизводятся с сохранением их временной приуроченности. К Страстной пятнице, годовщине смерти Христа, Данте начинает свой спуск в царство вечной смерти» [Андреев, 2008, 55].
Хронология путешествия, распределенная по времени суток, источником своим имеет богословские построения католического мистика Бонавентуры, который пишет о ступенях восхождения к Богу и называет три ступени: ступень «следов» телесного мира вне человека, ступень внутреннего мира человека, ступень божественная, превышающая все сотворенное. «Так вот она – дорога «в пустыню на три дня пути» и тройное озарение одного дня: первое подобно вечеру, второе – утру, третье – полудню. Это озарение соответствует тройному существованию вещей: в материи, в уме, и в вечном замысле Бога согласно тому, как сказано: «да будет, сделал и стало». Это также соответствует тройной субстанции во Христе, лестнице нашей, то есть телесной, духовной и божественной» [Бонавентура, 1993, 53].


