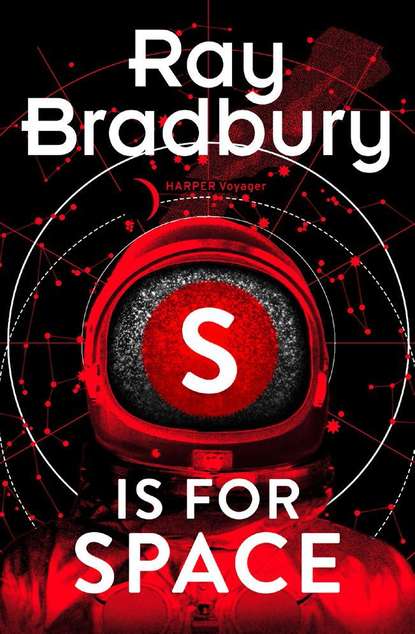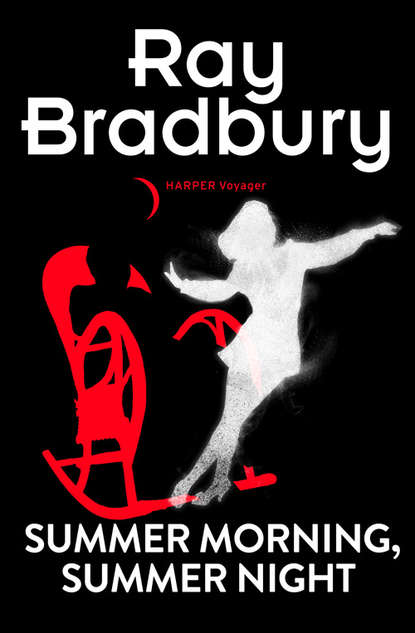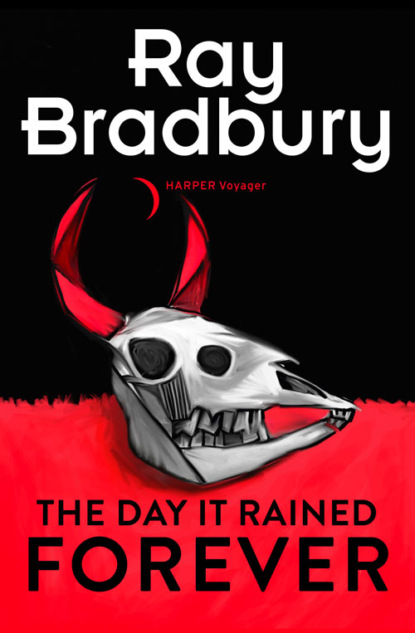- Рейтинг Литрес:4.5
- Рейтинг Livelib:4.2
Полная версия:
Рэй Дуглас Брэдбери Золотые яблоки Солнца
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт


Рэй Брэдбери
Золотые яблоки Солнца
RAY BRADBURY
The Golden Apples of the sun
© by Ray Bradbury, 1953
Ray Bradbury trademark used with the permission of Ray Bradbury Literary Works LLC
© В. Чарный, перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Туманный Горн
1951В холодном океане, вдали от берега, каждую ночь мы ждали, когда придет туман – и вот он пришел, и мы, смазав медные механизмы, зажгли лампу на верху нашей каменной башни. МакДанн и я, словно пара птиц в сером небе, следившая за одинокими судами, подавали световые сигналы: красный, белый и снова красный. Если же вдруг с их борта не видели вспышек огня, на помощь приходил наш Туманный Горн, чей гулкий, протяжный зов разрывал туман в клочья, распугивая чаек, рассыпавшихся, как колода карт, взметая пенящиеся волны.
– Вокруг ни души, но ты ведь уже привык, да? – спросил МакДанн.
– Вполне, – отвечал я. – Слава богу, с тобой есть о чем поболтать.
– Что ж, завтра твой черед отправляться на Большую землю, – улыбнулся он. – Будешь с девчонками танцевать, пить джин.
– МакДанн, а о чем ты думаешь, когда остаешься тут один, без меня?
– О тайнах моря.
МакДанн раскурил трубку. Было пятнадцать минут восьмого – холодный вечер ноября, топилась печь, маяк слал свои сигналы во все стороны света и Туманный Горн гудел в вышине, в башенной глотке. На сотню миль вдоль побережья никто не жил – лишь дорога, где изредка проезжали автомобили, вилась среди этой пустыни, и столь же редкими были суда, что шли мимо нашего маяка на острове среди стылых волн, в двух милях от берега.
– О тайнах моря, – задумчиво повторил МакДанн. – Знаешь, океан – он как огромная снежинка. Такой изменчивый – чертова прорва форм и цветов, и все время разных. Диву даешься. Однажды ночью, много лет назад, когда я сидел здесь один, целое сонмище рыб вдруг поднялось из глубин. Что-то заставило их всплыть – трепещут себе на воде, в свете лампы – красные, белые, красные, опять белые – и будто уставились на него, я их глаза видел, чудные такие. Целую трубку выкурил, а они все качались, как павлиний хвост, пока не пробило двенадцать. А потом вдруг все ушли обратно в океан – целый миллион. Думаю, может, они все проплыли столько миль, чтобы поклониться маяку? Не понимаю. Но если еще подумать, то, может, башня действительно кажется им Богом? На семьдесят футов возвышается над морем, и вся ангельски сияет, и громогласно трубит над водами. Рыба больше не приходила сюда, но как знать, может, тогда они ощутили присутствие чего-то божественного?
Я содрогнулся. Взглянул на серую, бескрайнюю водную гладь, уходившую в никуда.
– В море всего полно. – МакДанн, моргая, беспокойно попыхивал трубкой. Весь день он был сам не свой, но до сих пор не сказал почему.
– Изобретаем все новые и новые машины, и всякие субмарины, а все равно десять тысяч веков пройдет, пока мы ступим на самое дно океана, в это царство чудес, и тогда-то узнаем, что значит настоящий ужас. Подумай, что там, внизу, все так же, как и триста тысяч лет назад. Мы тут маршируем под звуки труб, грыземся за землю, сносим друг другу головы, а там, на глубине двенадцати миль, все старое, как хвост кометы, живет и живет себе в холодной бездне.
– Да уж, этот мир очень стар.
– Пойдем-ка, я хотел тебе кое о чем рассказать.
Мы неспешно поднялись по лестнице в восемьдесят ступеней, беседуя по пути. Наверху МакДанн выключил свет в камере, чтобы можно было смотреть сквозь стекло. Гигантский глаз жужжал, вращаясь в своей смазанной глазнице.
И каждые пятнадцать секунд слышался размеренный зов Туманного Горна.
– Кричит, будто зверь, правда? – МакДанн кивал сам себе. – Большой одинокий зверь, плачущий в ночи. Сидит над бездной, которой десять миллиардов лет, и все взывает к глубинам: я здесь, я здесь, я здесь! И бездна отвечает, и еще как. Ты здесь уже три месяца, Джонни, к этому надо быть готовым. В это время года, – он вгляделся в туманную мглу, – что-то приходит сюда, к маяку.
– Косяки рыб, про которые ты рассказывал?
– Нет, совсем не это. Я все не хотел тебе рассказывать, боялся, ты подумаешь, что я рехнулся. Но откладывать нельзя – если судить по моим отметкам в прошлогоднем календаре, оно придет этой ночью. Не стану утомлять тебя подробностями, сам все увидишь. Просто присядь. Если захочешь – завтра же соберешь свою сумку, сядешь в лодку, поплывешь на материк, сядешь в свою машину у пристани, уедешь в какой-нибудь городок подальше отсюда и будешь спать со светом – и я тебя винить не стану. Это повторяется уже три года, но сегодня ты – мой первый свидетель. Ты только жди и смотри в оба.
Минуло полчаса, и за все время мы лишь пару раз перешепнулись. Когда мы устали ждать, МакДанн поделился со мной кое-какими соображениями. Насчет самого Туманного Горна у него было несколько теорий.
– Однажды, много лет назад, человек, шедший вдоль берега, остановился, слушая, как океанские волны бьются о темный холодный берег, и сказал: «Нам нужен голос, что звучит над водами, предупреждая корабли, и я создам его. Я создам голос, звучащий сквозь все века и сквозь туман; создам голос, подобный пустой постели в ночи, покинутому дому, что встречает стоящего в дверях, голым осенним деревьям. Голос, что звучит, как клич стаи птиц, улетающих на юг, что воет, как ноябрьский ветер, как волны, что бьются о суровый, стылый берег. Голос настолько одинокий, что никто не пройдет мимо, и каждый, заслышав его, в душе будет плакать, и очаги покажутся теплее, и все, кто услышат его в далеких городах, будут рады, что они дома. Я создам этот голос и заключу его в машину, которую назовут Туманным Горном, и каждый, кто сумеет вынести его, познает печаль всей вечности и то, как коротка наша жизнь.
Раздался зов Туманного Горна.
– Я выдумал эту историю, – тихо продолжал МакДанн, – пытаясь объяснить, почему оно каждый год приходит к маяку. Я думаю, что оно откликается на зов Туманного Горна…
– Но… – начал было я.
– Тише! – оборвал меня МакДанн. – Вон там!
Кивком он указал на морскую бездну.
В ней что-то было, и оно плыло к башне.
Я уже говорил, что ночь была холодной; в высоком маяке тоже было холодно, вспыхивал и гас свет лампы, и зов Туманного Горна все звучал и звучал среди клубившегося тумана. Все было смутным, и вдали ничего не было видно, но вокруг был ночной океан, глубокий, спокойный, безмолвный, грязно-серый, и мы были совсем одни на верху башни, а там, вдалеке, по воде пошла рябь, затем волна, затем всплеск, и пузырьки, и пена. И вдруг над холодной водой взметнулась голова – огромная, темная, с гигантскими глазами – а затем взвилась шея. А потом – не тело, но все еще шея, еще и еще! На сорок футов над водой на красивой, изящной, темной шее вздымалась эта голова. И лишь затем из глубин показалось тело, как черный остров, усеянный кораллами, раковинами и лангустами. Над водой качнулся хвост. Я прикинул, что от головы до кончика хвоста чудовище было порядка девяноста-сотни футов длиной.
Не помню, что именно я сказал тогда. Но что-то пробормотал.
– Спокойно, парень, спокойно, – прошептал МакДанн.
– Это невозможно! – ответил я.
– Нет, Джонни, это мы невозможны. Оно все такое же, каким было десять миллионов лет назад. Оно не изменилось. Но изменилась Земля, появились мы, и стали невозможными. Мы!
Величественное, черное, оно плыло там, вдалеке, среди ледяных вод. Клубы тумана скрыли его очертания. Его глаз отразил свет нашей лампы – как гигантский прожектор, светил красным, белым, красным и снова белым, слал весточку на древнем языке. Оно молчало – безмолвное, как скрывавший его туман.
– Это какой-то динозавр! – Я присел, схватившись за перила.
– Да, один из них.
– Но все они вымерли!
– Нет, просто скрылись в бездне. Глубоко-глубоко, в самой глубокой бездне. Понимаешь теперь, Джонни, что означает это слово, как много скрыто в нем? Бездна. В этом слове весь холод, вся тьма и глубина.
– Что же нам делать?
– Что делать? У нас работа, мы не можем уйти. Да и здесь оставаться безопасней, чем пытаться добраться до берега на лодке. Эта штуковина размером с эсминец и почти такая же быстрая.
– Но почему она приплывает именно сюда?
Спустя мгновение я получил ответ.
Раздался зов Туманного Горна.
И чудовище ответило.
Сквозь миллионы лет, сквозь воды и туман звучал этот крик. Столько тоски и одиночества было в нем, что я задрожал всем телом. Чудовище взывало к башне. Взревел Туманный Горн. Чудовище вновь закричало. Взревел Туманный Горн. Исполин раскрыл необъятную, усеянную зубами пасть, исторгнув вопль, и голос его был голосом Туманного Горна. Одинокое, громадное, оно кричало там, вдали. И голос его был голосом отчуждения, бескрайнего моря, холодной ночи, разлуки. Таков был этот голос.
– Теперь, – шепнул МакДанн, – понял, почему оно приходит сюда?
Я кивнул.
– Весь год, Джонни, это несчастное чудище лежит там, за тысячу миль отсюда, на глубине двадцати миль, и в молчании ждет. Может, ему миллион лет! Только подумай: ждать целый миллион лет – ты бы смог столько ждать? Может, оно последнее на Земле. Я почему-то думаю, что так и есть. Как бы там ни было, на Земле появились люди и пять лет назад построили здесь маяк. Поставили Туманный Горн, включили его – и теперь его голос зовет и зовет тебя, спящего и видящего сны о мире, в котором когда-то жили тысячи таких же, как ты, но теперь ты совсем один, и мир больше не твой, и ты вынужден скрываться. И голос Туманного Горна звучит и смолкает, зовет и стихает, и ты пробуждаешься в илистой бездне, глаза раскрываются, как объективы двухфутовых камер, и ты движешься – медленно, ведь на твоих плечах вся тяжесть океана. Но зов Туманного Горна за тысячу миль пронзает толщу вод, слабый, знакомый, и запускаются котлы в брюхе, и ты начинаешь подъем – очень, очень медленно. Кормишься косяками трески и мальками, стаями медуз и медленно поднимаешься всю осень – весь сентябрь, когда приходят туманы; весь октябрь, когда они сгущаются; и на исходе ноября, когда ты приспособился к давлению, день за днем, час за часом поднимаясь на несколько футов – ты у поверхности, все еще живой. Двигаться нужно медленно – тебя разорвет, если ты будешь подниматься быстрее. Целых три месяца нужно тебе, чтобы всплыть наверх, и еще несколько дней, чтобы добраться до маяка, рассекая холодные волны.
Ты один в ночи, Джонни – самая гигантская из всех тварей, которых когда-либо порождала Земля. А маяк все зовет тебя, и длинная шея, совсем как твоя, торчит из воды, покоясь на скале, огромной, как твое тело, но самое важное – его голос совсем как твой. Понимаешь теперь, Джонни, в чем дело?
Взревел Туманный Горн.
Чудовище ответило.
Я видел все своими глазами, и мне все стало ясно – миллионы лет ждать в одиночестве, ждать того, кто никогда не вернется. Миллионы лет скрываться на дне морском, где безумно долго тянулось время, пока в небе не исчезли перепончатокрылые ящеры, царившие в небе, не иссохли болота на материках, не вымерли гигантские ленивцы и саблезубые тигры, опустившись на дно асфальтовых ям, и люди, как белые муравьи, принялись сновать по склонам холмов.
Взревел Туманный Горн.
– В прошлом году, – продолжал МакДанн, – оно всю ночь проплавало возле башни, круг за кругом. Держалось неподалеку, наверное, сбитое с толку. А может, испугалось. Или разозлилось – столько-то проплыть! Наутро туман вдруг рассеялся, выглянуло солнце, в небе посвежело – все было голубое, как на картине. Тогда чудовище уплыло прочь от жары и тишины и не вернулось. Весь этот год, наверное, ломало себе голову, размышляя.
Теперь тварь была всего в сотне ярдов от нас и перекрикивалась с Туманным Горном. Пылали ее глаза в свете бившего в них луча – огонь сменялся льдом, огонь – льдом.
– Такова жизнь, – заключил МакДанн. – Кто-то всегда ждет того, кому уже не вернуться домой. Всегда любит кого-то больше, чем любят его самого. Пройдет время, и ты захочешь уничтожить то, что любишь, чтобы оно перестало мучить тебя.
Чудовище мчалось к маяку.
Взревел Туманный Горн.
– Посмотрим, что будет, – сказал МакДанн.
И отключил Туманный Горн.
Стало так тихо, что с минуту мы слышали, как биение наших сердец отражалось в стеклах световой камеры, и как смазанный механизм медленно вращал лампу.
Чудовище остановилось, замерло. Моргнули гигантские лампы глаз. Открылась пасть. Оно зарокотало, как вулкан. Качнуло головой, будто пытаясь расслышать те звуки, что исчезли в тумане. Уставилось на маяк. Заклокотало вновь. Его взгляд полыхнул огнем. Встав на дыбы, оно взметнуло волны и бросилось на башню – злой мукой пылали его глаза.
– МакДанн! – завопил я. – Включай сирену!
МакДанн нерешительно взялся за рычаг. Но даже когда он включил Горн, тварь снова встала в полный рост. Я увидел, как мелькнули ее исполинские лапы, и чешуя блеснула сквозь перепонки меж пальцев, вцепившихся в башню. Невероятный глаз на страдальчески вскинутой голове горел, словно кальдера, где мог утонуть и я, и мой крик. Маяк содрогнулся. Взревел Туманный Горн, ревела тварь. Она обхватила башню – стекло не выдержало и обрушилось на нас.
МакДанн схватил меня за руку.
– Давай вниз!
Башня качалась, дрожа, поддаваясь. Ревел Туманный Горн, ревело чудовище. Спотыкаясь, мы скатились по лестнице.
– Быстрее!
Мы спустились, и башня угрожающе накренилась. Залезли в подвал под лестницей. Тысячи камней сыпались градом, и вдруг Туманный Горн умолк. Чудовище билось о башню. Башня не выдержала. МакДанн и я, вцепившись друг в друга, стояли на коленях, пока рушился весь наш мир.
Все было кончено – воцарилась тьма, и океан бился о сырые скалы.
Но мы услышали кое-что еще.
– Прислушайся, – шепнул МакДанн. – Слышишь?
С минуту мы ждали. Затем я услышал, как тяжко вздохнула гигантская тварь, и прямо над нашим убежищем, в воздухе, напитанном ее тошнотворным смрадом, раздался ее скорбный, растерянный, одинокий вой. Чудовище захлебывалось криком. Башни больше не было. Угас ее свет. Погибло то, что звало его сквозь миллионы лет. И теперь тварь, распахнув пасть, ревела в ночи. Ревела, как Туманный Горн, снова и снова. И на судах вдали от побережья не видно было сигнала во тьме, но моряки слышали ее и, должно быть, думали: «Вот он, звук сирены в Одинокой Бухте. Все в порядке. Мы обошли мыс».
Так продолжалось всю ночь.
Когда прибыли спасатели, раскопавшие наше укрывище, в небе уже стояло жаркое желтое солнце.
– Взяла и развалилась, – угрюмо пробурчал МакДанн. – Волны были ужасные, вот кладка и не выдержала, – прибавил он, ущипнув меня.
Смотреть было не на что. Океан стих, и над нами было синее небо. Все, что осталось – зеленая слизь с терпким запахом водорослей, покрывавшая камни рухнувшего маяка и скалы. Вокруг вились мухи. Прибой ничего не вынес на берег.
На следующий год маяк возвели заново, но я уже получил должность в городишке на побережье, женился, и мы поселились в теплом домике, где осенними ночами в окнах горел свет, двери были заперты и дымил камин. МакДанн стал смотрителем нового маяка, по его просьбе построенного из армированного бетона. «Мало ли что», – говорил он.
В ноябре новый маяк был готов. Как-то поздним вечером я поехал туда, остановил автомобиль и слушал, как над серыми водами одиноко звучит новый Горн – один, два, три, четыре раза в минуту.
Чудовище?
Больше оно не возвращалось.
– Оно ушло, – сказал МакДанн. – Ушло назад, в бездну. Узнало, что в этом мире никого нельзя любить слишком сильно. Ушло в самые бездонные глубины, чтобы ждать еще миллион лет. Как жаль его! Люди пришли на эту маленькую, жалкую Землю, и люди исчезнут – а оно все еще будет ждать. Ждать и ждать.
Я сидел в машине и слушал. Не видно было ни маяка, ни его света в Одинокой Бухте. Лишь слышно было, как звал Туманный Горн, Горн, Горн. И голос его был зовом того исполина.
Мне хотелось что-то сказать, но я не мог найти слов.
Пешеход
1951В восемь часов, туманным ноябрьским вечером, выйти на безмолвные улицы города, ступая по выщербленному бетону, перешагивая через травянистые швы, и бродить в тишине, сунув руки в карманы, – вот что Леонард Мид любил больше всего на свете. Он вставал на углу перекрестка, всматриваясь в освещенные луной улицы, что расходились на все четыре стороны, и решал, куда пойти, но идти можно было куда угодно – в 2053 году от Рождества Христова на этих улицах он был один, или почти один – решившись и выбрав направление, он шагал дальше, и морозный воздух клубился перед ним, как сигарный дым.
Иногда он бродил так часами, пройдя много миль, и возвращался домой лишь в полночь. По дороге он видел дома с темными окнами, за которыми лишь изредка вспыхивали слабые отблески света, словно светляки, и он как будто шел по кладбищу. Серые призраки виднелись на фоне стен в тех комнатах, где не задернули шторы, чтобы укрыться от ночи, шепот и бормотание слышались там, где осталось распахнутым окно, и каждый дом был, как склеп.
Леонард Мид, помедлив, склонял голову набок, прислушиваясь, присматриваясь, и бесшумно шагал дальше по выщербленному тротуару. Уже давно он благоразумно сменил ботинки на кроссовки, чтобы попадавшиеся ему стаи собак не провожали его лаем, не включался свет в окнах, не появлялись лица и стук каблуков одинокого пешехода – его каблуков – не тревожил покой целой улицы этим ранним ноябрьским вечером.
Этим вечером его путь лежал на запад, где пряталось море. Воздух был свежим, морозным – щипал нос, а легкие горели, как рождественская елка; холодный свет в них вспыхивал и гас, и ветви покрывались невидимым снегом. Он с удовольствием слушал слабый отзвук своих шагов на осенней листве, тихонько насвистывая, иногда поднимал сухой лист, разглядывая его скелет в свете редких фонарей, вдыхая его увядающий аромат.
«Эй, вы там, – шептал он домам, стоявшим по обе стороны улицы, – что показывают по четвертому, седьмому, девятому каналам? Куда скачут ковбои, кому на выручку спешит кавалерия там, за холмом»?
Улица была тихой, длинной, пустынной, и видна была лишь его тень, как тень ястреба на полях Среднего Запада. Закрывая глаза, застывая, дрожа от холода, он представлял, что стоит посреди безветренной ледяной аризонской пустоши, где на тысячу миль вокруг ни души – лишь улицы, как иссохшие русла рек.
«А что теперь? – спрашивал он у домов, взглянув на часы. – Половина девятого? Дюжина убийств на любой вкус? Викторина? Ревю? Комедиант падает со сцены?»
Неужели отзвук смеха донесся из дома, бледного, как луна? Он чуть помедлил, но больше ничего не услышал, и он отправился дальше. Ему повстречался совсем разбитый кусок тротуара, где цемент едва виднелся из-под цветов и травы. Десять лет он гулял вот так, днями и ночами, и ни разу никого не встретил на пути.
Он подошел к развязке клеверного типа, в молчании стоявшей на перекрестье двух шоссе. Днем здесь бурлил поток машин, кипели заправки, и автомобили, как скарабеи, сновали, меняясь местами, дымя выхлопными трубами, разбегались домой, на все четыре стороны. Сейчас они опустели, словно русла пересохших рек, чьи каменные ложа покоились под светом луны.
Свернув в переулок, он пошел домой кружным путем. Ему оставалось пройти всего квартал, когда из-за поворота внезапно показался одинокий автомобиль, ослепивший его ярким, белым лучом прожектора. Он замер, совсем как сбитый с толку мотылек, и шагнул ему навстречу.
Его окликнул металлический голос:
– Стоять! Оставаться на месте! Не двигаться!
Он остановился.
– Руки вверх!
– Но… – возразил он.
– Руки вверх, или мы будем стрелять!
Разумеется, это полиция – но какой же невероятной была эта встреча для трехмиллионного города, где осталась всего одна патрульная машина! Еще в 2052 году, сразу после выборов, их количество сократили с трех до одной. Преступность сходила на нет, и в полиции больше не нуждались – лишь этот автомобиль все еще катил и катил по пустынным улицам.
– Ваше имя? – В шепоте машины слышался металл.
Свет мешал ему разглядеть людей внутри.
– Леонард Мид, – ответил он.
– Говорите громче!
– Леонард Мид!
– Род занятий и профессия?
– Полагаю, можно считать меня писателем.
– Без профессии. – Патрульная машина словно говорила сама с собой. Луч света пригвоздил его к месту, как игла, пробившая грудь музейного экспоната.
– Можно и так сказать, – согласился Мид. Он уже много лет ничего не писал. Больше не продавали ни журналов, ни книг. По вечерам средоточием жизни были дома-гробницы, где у телевизоров, будто мертвецы, сидели люди, и свет с цветных экранов падал на их лица, не касаясь их.
– Без профессии, – как фонограф, прошипел голос. – Что вы делаете снаружи?
– Гуляю, – ответил Леонард Мид.
– Гуляете!
– Просто гуляю, – бесхитростно повторил он, чувствуя, как по лицу пробежал холодок.
– Просто гуляете? Гуляете?!
– Да, сэр.
– Куда направляетесь? С какой целью?
– Дышу воздухом. Смотрю по сторонам.
– Ваш адрес?
– Юг, Сент-Джеймс-стрит, дом одиннадцать.
– У вас дома есть воздух, чтобы дышать им? Есть кондиционер, мистер Мид?
– Да.
– У вас дома есть телевизор, чтобы смотреть его?
– Нет.
– Нет? – Голос умолк, и в потрескивавшем молчании слышалось обвинение.
– Вы женаты, мистер Мид?
– Нет.
– Не женат, – проговорил голос за ослепительным лучом. Высоко в небе, среди звезд ярко сияла луна, и дома вокруг были серыми, безмолвными.
– Я никому не был нужен, – уточнил Леонард Мид, улыбаясь.
– Не говорите, пока к вам не обратятся!
Леонард Мид ждал в холодной ночи.
– Просто гуляете, мистер Мид?
– Да.
– Но вы не объяснили, с какой целью.
– Я же сказал: дышу воздухом, осматриваюсь, просто прогуливаюсь.
– Вы часто так делаете?
– Каждую ночь, уже много лет.
Полицейский автомобиль стоял посреди улицы, и в его радиоглотке слышалось слабое гудение.
– Что ж, мистер Мид, – раздался голос.
– Это все? – вежливо спросил он.
– Да, – ответил голос. – Сюда. – Раздался вздох, затем щелчок. Широко распахнулась задняя дверь.
– Садитесь.
– Подождите, я же ничего не сделал!
– Садитесь.
– Я протестую!
– Мистер Мид.
Неверным шагом, как пьяный, он направился к машине. Заглянул в лобовое стекло. Как он и ожидал, там никого не было – в автомобиле никто не сидел.
– Садитесь.
Опершись на дверь, он смотрел на заднее сиденье – маленькую тюремную камеру с черными решетками. Оттуда пахло кованой сталью. Оттуда сильно пахло антисептиком; пахло чистотой, жесткостью, металлом. Там не было ничего мягкого.
– Если бы вы были женаты, жена могла бы предоставить вам алиби, – проговорил железный голос. – Но…
– Куда вы меня везете?
Машина медлила с ответом, а точнее, слабо жужжала, щелкая, словно где-то там электрические глаза считывали данные с перфокарт.
– В Психиатрический центр изучения регрессивных наклонностей.
Он сел в машину. С глухим стуком захлопнулась дверь. Патрульный автомобиль катился по ночным улицам, лампы ближнего света освещали его путь.
Минуту спустя они миновали дом – единственный во всем темном городе, – где ярко горели огни и желтые квадраты окон лучились теплом среди холодного мрака.
– Это мой дом, – сказал Леонард Мид.
Ему никто не ответил.
Машина катилась по дорогам, пустым, как русла мертвых рек, все дальше и дальше, оставляя позади безлюдные улицы и тротуары, и не было больше ни звука, ни движения в этой стылой ноябрьской ночи.
Апрельская ведьма
1952В звездном небе над долинами, над рекой, над прудом и дорогой летела Сеси. Невидимая, как свежие весенние ветра, свежая, как аромат клевера на сумеречных полях. Она парила в голубках, мягких, как мех горностая, приземлялась на кроны деревьев, жила в цветках, чьи лепестки падали, словно дождь, под дуновением ветерка. Зеленой, холодной, как мята, лягушкой она ютилась у сверкающей заводи. Кудлатым псом она семенила и лаяла, и эхом ей откликались другие в далеких дворах. Она жила в молодых апрельских травах, в сладких, чистых ручьях, бежавших из терпкой земли.
«Весна, – подумала Сеси. – Этой ночью я побываю во всем, что живет в этом мире».
Вот она вселилась в опрятных кузнечиков на дороге у асфальтовых ям, вот окунулась в росу на железных воротах. Сегодня вечером ее разум, невидимый другим, летел на крыльях иллинойского ветра – сегодня ей исполнилось семнадцать.
– Я хочу влюбиться, – сказала она.