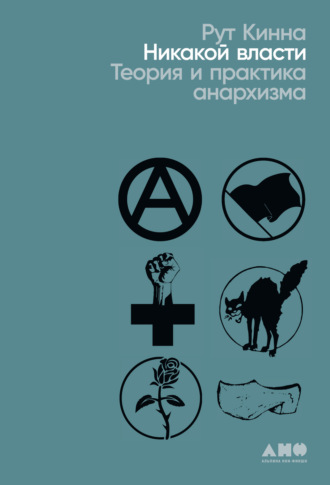
Рут Кинна
Никакой власти. Теория и практика анархизма
Доминирование
Понятие «доминирование» происходит от латинского слова «dominus», которое означало абсолютное право господина или хозяина управлять хозяйством, а также от связанного с ним термина «dominium», обозначающего как владение собственностью, так и государственное правление. В повседневной речи доминирование связывают с правом осуществления власти, суверенитетом и полномочиями церкви и государства, а также фактическим осуществлением власти путем утверждения верховенства или опосредовано, через правительство. Поскольку изначально понятие определяло абсолютную власть хозяина, оно также применимо к тирании и деспотичному правлению. В этом смысле доминирование ассоциируется с несправедливостью, узурпацией и лишением свобод, особенно через культивирование отношений, основанных на зависимости.
Таким образом, доминирование описывает институты власти в самом широком смысле: организационные механизмы, нормы и поведение. Возьмем пример из популярной литературы: в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» мистер Рочестер занимает доминирующее положение как хозяин своего дома. Он привык разговаривать властным тоном. Несмотря на его стремление обходиться с Джейн как с равной, на деле их отношения строятся на доминировании. Джейн говорит ему, что до тех пор, пока он является ее работодателем, она – его подчиненная. Она остается «подчиненной, которой он платит деньги», независимо от того, повышает он на нее голос или нет. Концепция недоминирования описывает компенсирующие меры, которые в случае романа сводятся к культивированию равенства и являются результатом сопротивления убежденности другого человека. Джейн черпает силы для сопротивления доминированию в дружбе и добровольном согласии. Впервые она поднимается над навязываемой ей ролью жертвы в деспотичной Ловудской школе, когда отказывается участвовать в публичном унижении своей подруги. Позднее, поняв, что ей по душе «свободная и честная» жизнь, а не материальное благополучие в рабстве[70], она отвергает патриархальную власть в лице преподобного Сент-Джона, ее поклонника, сначала открыто заявив о своем праве не принимать его предложение руки и сердца, а затем решительно отвергнув его.
Все эти идеи обнаруживают себя и в анархизме. С одной стороны, доминирование понимается как тип власти, присущий самой иерархии – пирамидальным структурам, чиноначалию и субординации – и выраженный в неравном доступе к экономическим и культурным ресурсам. С другой стороны, доминирование описывает такой тип несвободы, который реализуется через традиции, насилие или манипулирование. Доминирование, связанное с привилегированным положением, проявляется как социальная власть, вырастающая из статуса или незаслуженного преимущества, такого, к примеру, как цвет кожи, половая принадлежность или физические возможности. Такое доминирование проявляется одновременно в маргинализации тех, кто не соответствует стандартам, и в распространении предрассудков. Смешение этих двух интерпретаций вызвало немало критики. Анархистов объединяет неприятие любого типа доминирования. Их общая борьба направлена против монополизации ресурсов и централизации власти, против системы представления интересов, против расизма, империализма и господства, обнажая институциональные и социологические механизмы для критики. Здесь я остановлюсь на трех типах отношений, в которые вступает доминирование: доминирование и закон, доминирование и иерархия, доминирование и завоевание.
Доминирование и закон
В анархистской критике закон часто фигурирует в образе двуглавой гидры. Одна голова – это абстрактная политическая философия и теория права, а другая – реализация этой политики. С точки зрения анархиста, теория права обосновывает исполнение закона необходимостью, опираясь при этом на две связанные между собой идеи: что социальные группы не способны изобретать свои собственные системы регулирования и что жизнь в обществе в отсутствие закона непривлекательна. Теоретически закон – это инструмент, который обеспечивает безопасность и свободу за счет сдерживания ненадлежащего поведения. Джон Локк, которого иногда называют одним из отцов либерализма, сказал: «Там, где заканчивается закон, начинается тирания»[71].
На практике исполнение закона лишает возможностей нормотворчества большинство людей, которыми этот закон управляет. Люди знают, что такое закон, знают, что он предписывает повиновение и что нарушение закона ведет к наказанию. Однако большинство из них имеют смутные представления о содержании и сфере действия закона и не обладают техническими возможностями для принятия заметного участия в его создании, толковании или применении. Таинственность закона только усиливает мысль о его необходимости. Всякий раз, когда мы прибегаем к услугам представителей сферы закона – полиции, юристов, адвокатов и судей, – мы косвенно признаем нашу зависимость от закона и неспособность вести дела в его отсутствие.
Для анархистов, таких как Зигмунд Энглендер, который участвовал в революции 1848 года, был политическим ссыльным и журналистом, разделение закона и общественной жизни было признаком политической коррупции. Его представление о законе и доминировании точно соответствовало критике наемного рабства и господства, которую развивали чикагские анархисты, что, впрочем, неудивительно, поскольку он тоже учился у Прудона. Выйдя после раскола из МТР, он сфокусировался на критике закона, поскольку тот поощрял эксплуатацию и зависимые отношения, а законотворцы присвоили себе право решать, что будет лучше для всех. В обоих случаях закон заведомо одерживал верх.
В основе проведенного Энглендером анализа доминирования лежало несоответствие между идеальными представлениями о законе и его реальным воплощением. Рассматривая революционные изменения во Франции в период с 1789 по 1848 год, Энглендер использовал закон как своеобразное свидетельство двух противоборствующих векторов: стремления к совершенству, основанного на принципах уважения прав личности – «революционной идее нашего века»[72], – и инертности, которая проявилась в затянувшемся процессе написания новой конституции, что, по факту, способствовало закреплению неравенства. Идеальный закон должен устанавливать порядок через гармонизацию. В реальности же он только усиливал разногласия, навязывая конкуренцию за ограниченные ресурсы и поощряя угнетение.
Предполагалось, что верховенство закона должно гарантировать торжество справедливости в республиках, возникших после 1789 года, но, по мнению Энглендера, фактически закон применялся для регулирования конституционных отношений, обусловленных исключительным правом частной собственности. Изображаемый как «выражение глобального разума, общественного сознания, справедливости, могучего оплота человечества против варварства»[73], на деле закон был выражением «социального антагонизма». Он никогда не был нейтральным или «слепым». Революционный принцип прав человека плавно трансформировался в нем в то самое буржуазное право частной собственности. Закон мог лишь частично разрешать споры – ведь он должен сохранять неравенство, которое лежит в основе исключительного права собственности. Вслед за Прудоном Энглендер утверждал, что «устранение экономического опустошения человека человеком и прямой власти человека над человеком» являются аспектами одной и той же проблемы. Вкратце его вывод заключался в том, что закон доминирует подобно «оружию, с помощью которого можно запугивать, порабощать и истязать угнетенных»[74]. Он есть «дитя несправедливости и амбиций», а также «последнее прибежище веры во власть»[75].
Чтобы объяснить превращение закона из правового принципа в орудие несправедливости, Энглендер обратился к философии. В качестве ключевых фигур для своей критики он выбрал философа XVIII века Жан-Жака Руссо и восхищавшихся его трудами якобинцев Робеспьера и Сен-Жюста. Эти трое были самыми решительными защитниками закона. Ознакомившись с их трудами, Энглендер заметил роковую ошибку, допущенную ими в теории и практике законотворчества. Будучи заклятыми врагами абсолютизма, эти революционеры осознавали, что деспотизм монархов зиждился на исключительном праве устанавливать законы. Однако вместо того, чтобы подвергнуть сомнению саму идею законотворчества в качестве основного источника тирании, они просто передали законодательные полномочия монарха – иначе говоря, верховную власть – народу.
Энглендер не вникал в детали философской аргументации, однако ее анализировали другие анархисты, в том числе Прудон, Бакунин и Кропоткин. Критикуя Руссо, они утверждали, что для изучения моделей формирования правительства он ошибочно использовал идею «естественного человека», описывающую воображаемое дополитическое состояние общества. Руссо утверждал, что договор, заключаемый между людьми, знаменует начало процесса трансформации естественного состояния в систему права и государственного управления. Условия договора, предложенного Руссо, были весьма щедрыми: гарантировались личная свобода и равенство, а закон основывался на верховной власти народа. Тем не менее анархисты отвергли эту аргументацию государственного управления. Они обвинили Руссо в том, что он ошибочно разграничил примитивный дополитический и цивилизованный политический порядок, а также в том, что он создал ложное представление о социальной организации как об особом достижении, поскольку она по своей сути является отличительным свойством человеческого бытия. Рассуждая в таком духе, анархисты настаивали на том, что государственное управление ошибочно преподносится как результат сознательных действий, направленных на улучшение общественной жизни. Точно так же неверна трактовка закона как инструмента достижения некоего совершенного общества.
В борьбе с абсолютной монархией революционеры эффективно использовали теорию государственного управления Руссо, однако с анархистской точки зрения она была неспособна привести к реальной трансформации общества. Оценивая ее влияние, Энглендер утверждал, что левые радикалы вырвали законодательные полномочия из-под монархического контроля в надежде, что новый закон сможет обеспечить общее благо, «ликвидирует все пороки человечества» и сделает людей свободными, счастливыми и добродетельными. Упразднение монархии заставило философов ошибочно полагать, что для искоренения тирании достаточно устранения авторитарной власти. Эта смесь наивности и тщеславия оказалась глубоко консервативной. После революции вместо монарха начали править философы-законотворцы, однако «в остальном между Людовиком XIV, сделавшим свою бесконтрольную власть равнозначной закону, и Руссо, Робеспьером, Сен-Жюстом не было никакой разницы»[76]. Характер управления стал иным, но сам властный принцип только укрепился. Хуже того, наделив народ властью в теории, на практике революционеры вдруг обнаружили, что государственное управление – дело слишком важное и сложное, чтобы позволить народу самому устанавливать правила. Да и людей оказалось слишком много, чтобы они могли напрямую осуществлять верховную власть. Эта реальность заставила утопистов, действующих из лучших побуждений, но порядком запутавшихся, восстановить феодальный принцип представительства, который прежде использовался для ограничения власти монарха.
Энглендер утверждал, что, когда дело дошло до написания конституции, законодатели только усугубили свои ошибки, сознательно поставив себя «вне общества». Стремясь к тому, чтобы конституционное право не было запятнано следами борьбы фракций, философы учредили специальные съезды и поручили народным избранникам разработать универсальные правила, которые принесли бы пользу всем. Поскольку философия уже выявила правовые принципы, на которых должен основываться закон, – право на жизнь, право на свободу и право собственности, – то законодатели наивно полагали, что существует некое естественное соответствие между их идеалами и интересами миллионов людей, которых закон якобы наделяет властью. Будучи убежденными в том, что представляют «волю и душу нации», они установили набор правил, которые одновременно признавали народ верховным властителем и при этом системно лишали граждан власти.
Закон закреплял идею справедливости в противовес монархическому произволу и этим внушал уважение, но в то же самое время он попирал права и свободы граждан. С этой точки зрения революционная идея о правах человека была предана. Закон обеспечивал повиновение угнетателям. «Любой произвол тирании теперь является допустимым, если… он подкреплен законом», – мрачно констатировал Энглендер[77]. Аналогичным образом закон направлял свободолюбивые устремления народа в русло институтов, освященных конституцией, при этом отделяя конституционные вопросы от споров на тему власти и политики. Каждый «пророк устанавливает двенадцать скрижалей закона; французские социалисты тоже больше не пишут теорий, а издают указы и как шарлатаны морочат людям голову сказками о своих чудесных рецептах». В бесконечной борьбе за контроль над законом «каждый класс надеется, что, когда эта война прекратится, закон окажется на его стороне. Любой партийный лидер воспринимает право как форму для отливки модели общества»[78]. Эти партийные дебаты о сфере полномочий и надлежащем применении законодательства сделали невидимыми социальные противоречия, лежащие в основе закона, и вместе с тем открыли безграничные возможности для регулирования общественной жизни. Торговля, образование, здравоохранение – всем этим можно управлять с помощью закона, смягчая последствия структурного неравенства и сохраняя в безопасности сами процессы законотворчества.
Почему же закон стал доминировать, если люди могли свободно высказывать свое мнение и принимать конкретные законы, которые бы делали их счастливыми? Энглендер предположил, что на то было четыре причины. Во-первых, нормализация права превратила людей, из которых и состоит народ, в подданных и рабов. Народ мог осуществлять полномочия по принятию решений только в рамках того закона, который не имел конкретного авторства. Во-вторых, подчинение закону подразумевает временный отказ от индивидуального суждения. Соблюдая закон, люди либо добровольно пренебрегали «голосом собственного разума», либо их вынуждали его игнорировать[79]. Такое же мнение высказал и Альберт Парсонс на суде в Чикаго:
«Естественное и неотчуждаемое право всякого человека – это право контролировать самого себя… Закон – это сила, порабощающая человека… Блэкстон определяет закон как нормы поведения, предписывающие то, что правильно, и запрещающие то, что неправильно. Истинно так. Анархисты считают неправильным, что один человек диктует правила поведения другому и заставляет его подчиняться этим правилам. По этой причине правильное поведение заключается в том, чтобы каждый человек занимался своим делом и позволял всем остальным делать то же самое. Тот, кто прописывает правила поведения, которым должны подчиняться другие, – тиран, узурпатор и враг свободы. А это как раз то, чем грешит каждый закон»[80].
В-третьих, высокая степень уважения к власти усугубила регулятивное влияние систем, контролируемых законом[81]. Отметив, что «народ абсолютно обожает своих избранников», Энглендер обратил внимание, что лишь эта «небольшая кучка свободных, никем не управляемых людей готова на то, чтобы во всеобщей борьбе за пост законодателя был нарушен и сам закон»[82]. Дав объяснение общественному неприятию анархистских идей, он раскрыл четвертую причину: конечный эффект доминирования закона заключается в гомогенизации интересов. Энглендер утверждал, что, став единым народом, «многие субъекты или граждане становятся флегматичными либо теряют свой голос»[83]. Закон радикальным образом отличался от провозглашенного революцией принципа прав человека и идеи самоосвобождения, которую позаимствовало МТР. Он установил «так называемый суверенитет народа», тем самым убив «свободу личности ровно так же, как это делает божественное право», и, как оно, был «столь же таинственным и душегубительным»[84].
Энглендер объединил свою критику закона и доминирования с предложением перестройки существующих институтов. Предложение заключалось в том, чтобы направить «кровь», прихлынувшую к голове «государственного тела», в его «отдельные вены». Разрушение существующей государственной структуры устранило бы причины, вызывающие саму потребность в представительстве, и дало возможность отдельным людям и социальным группам управлять собой напрямую, по собственным правилам. Это стало бы воссозданием конституции с учетом прав личности. Связав доминирование с отстраняющим, губительным воздействием закона на людей, Энглендер нашел противоядие от тирании и господства в самом духе мятежа и, если использовать лексику Макса Штирнера, в «чистом эгоизме». В анархизме Энглендера эгоизм – жизнь без доминирования, которую человек проживает «сам и для себя»[85], – требовал одновременно признания необходимости разногласий и добрососедства. Если разногласия указывали на социальный плюрализм, то термином «добрососедство» обозначалась взаимозависимость. Энглендер стремился заменить буржуазную «гармонию» на то, что он называл «социальным сердечным трепетом»[86]. С этой точки зрения недоминирование становилось процессом человеческого взаимодействия, движущей силой которого являются индивидуумы, отстаивающие определенные принципы управления, но при этом всегда твердо противостоящие искушению управлять посредством введения закона.
Доминирование и иерархия: Бакунин и Толстой
В то время как Энглендера интересовала институциональная структура, другие анархисты изучали микрополитику доминирования. В этом ракурсе доминирование относится к формальным и неформальным обычаям и практикам, упорядочивающим повседневные отношения, в частности путем присвоения статуса. Значительные расхождения во мнениях между Бакуниным и Толстым по поводу того, что заставляет людей повиноваться и властвовать, демонстрируют наличие в анархистском движении серьезных разногласий касательно методов самосохранения иерархии. Тем не менее в отношении привилегий, которые устанавливает доминирование, и унижения, которое оно возводит в норму, между анархистами существует согласие: доминирование учреждает социальные иерархии путем отделения хозяев от подчиненных.
Разногласия между Бакуниным и Толстым касались Бога и авторитета. Эти понятия выражали идеи абсолютной истины и права доминирования соответственно. С точки зрения Бакунина, иерархия поддерживалась безоговорочным принятием авторитета, подкрепленным знанием о существовании Бога. Толстой соглашался с тем, что иерархия проистекает из неспособности бросить вызов авторитету, но вместе с тем утверждал, что признание Бога является предпосылкой отказа от доминирования. Судя по всему, откровенный атеизм Бакунина и неортодоксальное христианство Толстого делали разрыв между их позициями непреодолимым. Как бы подчеркивая это, анархисты часто апеллировали к Бакунину и Толстому, чтобы отвергнуть либо принять религию под знаменем анархизма. Если бы Бакунин и Толстой оттачивали свои идеи непосредственно друг на друге, общие позиции в их критике могли бы стать более очевидными: ни тот ни другой не поддерживали превращение религиозных организаций в государственные институты, и оба требовали, чтобы люди тщательно обдумывали то, какие мнения им принимать в качестве авторитетных. Оба одинаково разграничивали согласие и повиновение, своеволие и обязанности. И тот и другой призывали людей иметь собственное суждение, отмечая, что это зачастую требует мужества, но является важным шагом на пути к отказу от доминирования.
Перефразируя известное изречение Вольтера о том, что «если бы не было Бога, его следовало бы придумать», Бакунин заявил: «Если бы Бог существовал, то было бы необходимо его уничтожить»[87]. Он возражал против божественного начала с позиций философии и социологии, а для объяснения использовал термин «политическая теология»[88]. Его критика философии основывалась на убеждении, что западную ортодоксальную мысль сформировала идея первородного греха. Философы буквально впитали христианскую идею о божественном совершенстве и историю о человеческом пороке и изгнании из рая. Как следствие, проблема, над которой билась их философия, заключалась в том, как выйти за пределы опороченного, несовершенного материального мира и как улучшить погрязшее в грехах человечество. Даже современная философия, под которой Бакунин имел в виду идеализм Гегеля, отталкивалась от этой отправной точки. В центр своей метафизики вместо Бога Гегель поставил Разум с большой буквы, однако его сложная новаторская эволюционная история представляла собой лишь еще один механизм, призванный показать, как человечество поднимется из своего низменного состояния и постепенно достигнет совершенства. Марксизм, по Бакунину, тоже был формой политической теологии, хотя Маркс и выдвинул свою так называемую материалистическую теорию. Бакунин заявлял, что материализм Маркса лишь заточил идеалистическую философию Гегеля под экономику. Это поменяло движущую силу истории в философской модели, но, вопреки утверждениям Маркса, не перевернуло теорию Гегеля с ног на голову. Ведь независимо от того, была ли история связана с появлением Разума в мире или с изменением форм собственности и производства, идея поэтапного перехода к совершенству была общей для них обоих. Бакунин утверждал: для того чтобы опровергнуть Гегеля, необходим более фундаментальный материализм. Настоящий материализм означал для него отказ от представлений о вечной истине и божественном начале, а также укоренении философии непосредственно в человеческом опыте.
В этом контексте идея Бога неизбежно означала порабощение. «Если Бог существует, то он непременно вечный, высший и абсолютный господин, а раз существует такой господин, то человек – раб; если же он – раб, то ни справедливость, ни равенство, ни братство, ни благосостояние невозможны»[89]. Люди могли стяжать благодать, но только путем откровения, предпосылкой которого было повиновение авторитету, то есть подчинение.
Бакунин исследовал философию с позиций инструментализма, чтобы продвинуть свою социологическую критику. Его аргумент состоял в том, что вера работает как наркотик, вызывающий принятие очевидной несправедливости общественной жизни. Прочно укоренившись, эта идея позволила целому классу функционеров использовать «подобие веры» для издевательств, угнетения и эксплуатации. Бакунинский список эксплуататоров был весьма ощутимым: «Священники, монархи, государственные люди, солдаты, финансисты, чиновники всех рангов, полицейские, жандармы, тюремщики и палачи, монополисты, капиталисты, сборщики податей, подрядчики и домовладельцы, адвокаты, экономисты, политики всех оттенков, купцы, кончая самым мелким торговцем пряниками»[90]. Самые обездоленные смирялись со своим положением, утешаясь верой в божью милость и заботу.
К этому хорошо известному доводу Бакунин сделал одно характерное анархическое добавление о том, что государственные структуры, утверждающие власть, по сути, были манифестацией религиозной веры. Проводя различие между атеизмом-неверием и анархическим атеизмом, Бакунин подхватывает некоторые темы, развитые Энглендером, с целью критики радикалов, вольнодумцев и масонов, которые подвергали нападкам церковные власти, но стремились реформировать существующие структуры только для того, чтобы исповедовать новую политическую теологию. Эти атеисты критиковали религиозные организации и искренне считали себя неверующими, оставаясь при этом приверженцами иерархии и господства. Бакунин считал такой атеизм поверхностным. Хотя он сам нередко обличал порочность религиозных институтов и лицемерное благочестие верующих, его атеизм был направлен против уничижительных характеристик человечества и идей о совершенстве грядущего мира и красоте вневременного. Будучи вольнодумцем, Бакунин отвергал эту истину и санкционируемое ею подчинение, независимо от того, было ли оно непосредственно связано с религией или нет.
Если Бакунин отвергал откровение как вымысел с целью порабощения, то Толстой утверждал, что добровольный отказ от доминирования – это и есть главная истина, которую открывает принятие Бога. В этом заключается основная мысль его рассказа «Хозяин и работник», написанного и опубликованного в 1895 году[91], где описываются отношения между Василием Андреичем Брехуновым – владельцем трактира, купцом и церковным старостой, человеком, имеющим статус в своем селе, и Никитой – крестьянином, склонным к выпивке, но при этом трудолюбивым, умелым и сильным. Никита наделен всеми добродетелями, которых не хватает Василию Андреичу. Он честный и добродушный, «любит животных» и не придает особого значения деньгам. Василий Андреич нечист на руку и одержим материальным обогащением. Он присваивает находящиеся в его ведении церковные деньги ради собственных деловых интересов и пользуется добродушием Никиты, недоплачивая тому за труд. Вместе они отправляются в дорогу: Василию Андреичу необходимо съездить в другое село, чтобы заключить сделку. Несмотря на стужу, сильную метель и приближающуюся ночь, Никита запрягает любимую лошадь, и оба усаживаются в сани. Василий Андреич укутан в меховые тулупы, Никита же едва одет: свои добротные сапоги он обменял на водку, а средств на покупку теплых вещей у него нет.
Характер превосходства Василия Андреича над Никитой раскрывают два его неверных решения. Во-первых, вопреки чутью Никиты, он выбирает короткий, но более опасный маршрут. Во-вторых, настаивает на том, чтобы продолжить путь после того, как они безнадежно заплутали в темноте и случайно наткнулись на усадьбу зажиточного гостеприимного крестьянина. Василий Андреич отказывается от предложения заночевать, опасаясь, что упущенное время обернется потерей денег. Озябший, промокший насквозь и обессилевший Никита хочет остаться на ночевку, но не противится властному решению. Его почтительность проявляется в тщательно продуманной череде поклонов: сначала образам, затем хозяину дома, сидящим за столом мужикам и, наконец, прислуживающим им бабам. Обостренное чувство долга емко выражено в его реплике: «Дело ваше… ехать – так ехать»[92]. Никита подчиняется воле Василия Андреича, даже если решительно с ним не согласен. Толстой говорит, что Никита покидает усадьбу, потому что он «уже давно привык не иметь своей воли и служить другим»[93].
Тип господства, которое приемлет Толстой и против которого выступает Бакунин, представляет собой непосредственный долг перед Богом. Хотя наивная вера Никиты делает его уязвимым для жестокости и подлости земного хозяина, Толстой одобряет принятие им божьей воли. Брошенный в снегу, без надежды на спасение, Никита оказывается перед лицом смерти, однако он спокоен – ведь жизнь его была невыносимой. Такова одна из причин, но более глубокое объяснение заключается в том, что он воспринимает смерть как новый этап своих отношений с Богом, «главным Хозяином… который послал его в эту жизнь»[94]. Неожиданное прозрение Василия Андреича усиливает посыл Толстого, раскрывая возможность иного общественного устройства. Понимая, что они застряли в снегу, Василий Андреич сначала пытается спастись – забирает лошадь и бросает Никиту на произвол судьбы. Когда лошадь приводит его обратно к Никите, он пересматривает свое первоначальное суждение. Он ошибался, считая, что жизнь Никиты ничего не стоит, а его собственная обретает значимость благодаря богатству и статусу. Теперь, понимая, что одержимость материальным благополучием лишь обедняла его жизнь, Василий Андреич действует самоотверженно: он укрывает Никиту шубой и ложится на него, пытаясь согреть. В результате Никита выживает. Этот последний поступок Толстой описывает как обретение Василием Андреичем Бога, но без обрядов и ритуалов. Василий Андреич постигает свое призвание через радость и блаженство, которое он испытывает, осознавая, что Никита жив.
Хотя Бакунин и Толстой толковали доминирование каждый по-своему, их критическая мысль во многом была схожей: оба выступали против несправедливости иерархической модели. Однако если Бакунин призывал угнетенных восставать против господ, то Толстой умолял господ принять тот факт, что перед Богом все равны, и отказаться от незаслуженных привилегий. Отталкиваясь от интерпретации Бакуниным «Книги Бытия», можно предположить, что в качестве первого шага к освобождению он, вероятно, предложил бы Никите бросить вызов Богу по примеру Адама и Евы[95]. Но подчинение, против которого выступал Бакунин, не то же самое, что повиновение Богу, которое Толстой видел ключевым условием недоминирования. Хотя Толстой и считал непротивление богоугодным качеством, он разделял беспокойство Бакунина по поводу навязывания веры. Никита принимает церковные обряды и сопутствующие иерархии. При этом он постигает Бога интуитивно, через свои отношения с окружающим миром. Его вера исходит изнутри. Никита не спорит с Василием Андреичем, но и не воспринимает его приказы как авторитетные. И в конце концов истинно божественное обнажает рабскую сущность Василия Андреича. Таким образом, божественное не поддерживает иерархию.
Частичное совпадение взглядов Бакунина и Толстого проявляется и в их оценке доминирования и авторитета. Бакунин приравнивал авторитет к иерархическим принципам, которые лежат в основе и структурируют власть. Толстой показал, что авторитет заложен в нормах и привычных моделях поведения. Хозяева у Толстого, как и угнетатели у Бакунина, ни в коей мере не являются выдающимися личностями. Это заурядные, обладающие относительными привилегиями функционеры всех мастей, извлекающие максимум пользы из властных преимуществ, которыми наделяет иерархия. Их стремление занять высокое положение на иерархической лестнице и составляет сущность доминирования. Бакунин хотел, чтобы здравый смысл и согласие заменили собой принуждение и повиновение. Место несменяемой, единой, устойчивой власти должен занять «постоянный обмен взаимного, временного, а главное, добровольно признаваемого авторитета и подчинения»[96]. Для Толстого отход от иерархии означал возможность опираться на истину, чтобы противостоять образу жизни, поддерживающему господство, – отказ служить маммоне, отказ от использования привилегий. В обоих случаях недоминирование берет начало в неповиновении и наделяет людей способностью делать то, что они считают правильным, и сопротивляться тому, что, по их мнению, является заведомо неверным.


