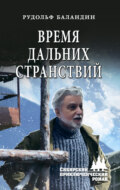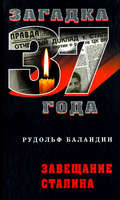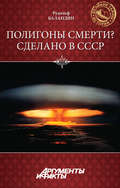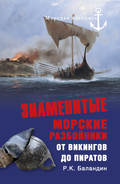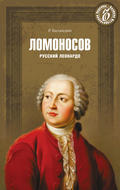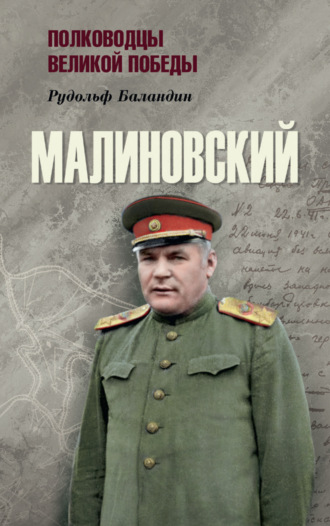
Рудольф Баландин
Малиновский
По закону военного времени
Родион Малиновский, испытавший в царское время лишения и унижения, во Франции не был очарован «скромным обаянием буржуазии»: быстро понял, что трудящимся и там приходится несладко, а благополучие во многом основано на эксплуатации колоний. Лживость буржуазной пропаганды о свободе он также испытал на себе, когда русские солдаты потребовали возвращения на родину.
Пережил Родион Яковлевич бедствия Гражданской войны и разрухи, а затем необычайно быстрое возрождение Великой России – СССР. Это убеждало его, что Ленин и Сталин ведут верную политику, спасительную для России. Поэтому он вступил в коммунистическую партию.
Из аттестации на начальника 2-го сектора 1-го отдела штаба Белорусского военного округа Р. Малиновского, 1934 г.:
«Обладает волевыми качествами командира, на занятиях с начсоставом принимает грамотные решения и твёрдо проводит решение в жизнь. Политически развит хорошо. Оперативная и тактическая подготовка хорошая.
Подлежал выдвижению вне очереди на должность Начальника штаба дивизии, командира стрелкового или кавалерийского полка, единоначальника.
Достоин продвижения на начальника сектора 1 отдела штаба округа К-10».
…В смутное время «перестройки» официальная пропаганда твердила о том, что сталинский курс завёл страну в тупик, а он пришёл к власти благодаря интригам и террору. Выходит, все те, кто считали его достойным вождём, большинство русского народа и партийцев были убогими, глупыми, запуганными людьми? И как же они победили в Великой Отечественной войне?
Ситуация в стране оставалась напряжённой даже после подъёма не только промышленности, но и сельского хозяйства. Профессиональный антисоветчик Роберт Конквист в книге «Большой Террор» написал:
«В комсомоле, например, ещё в 1935 году наблюдалось удивительно сильное сопротивление сталинизму. Секретные архивы Смоленской области (они были захвачены немцами во время войны и позже попали на Запад) выявляют степень этого сопротивления. На комсомольской дискуссии по поводу убийства Кирова один член организации говорил: “Когда убили Кирова, то разрешили свободную торговлю хлебом; когда убьют Сталина, то распустят все колхозы”. Директор школы, комсомолец и пропагандист, объяснил: “Ленин написал в своем завещании, что Сталин не мог работать руководителем партии”… Есть рапорт о девятилетнем пионере, который кричал: “Долой советскую власть! Когда я вырасту, я убью Сталина!” Об одиннадцатилетнем школьнике сказано, что он говорил: “При Ленине мы жили хорошо, а при Сталине мы живем плохо”. А 16-летний студент якобы заявил: “Кирова они убили, пусть теперь убьют Сталина”. Время от времени высказывались даже случайные симпатии к оппозиции».
Трудно сказать, насколько подобные симпатии были случайными. Дети и юноши высказывали чужие мысли, мнения, имевшие распространение в окружающей их семейной или социальной среде. Враги у Сталина были реальные, а не мнимые: некоторые из них были настроены радикально. Возможно, наивные комсомольцы смело высказывали то, о чём иные партийцы думали, предпочитая помалкивать до поры до времени.
На таком фоне среди руководства страной, партией, вооружёнными силами складывалось впечатление, что пора отказаться от сталинского курса. Что предложить взамен? Мнения расходились. По-видимому, у некоторых военачальников (к их числу относились М.Н. Тухачевский и И.П. Уборевич) симпатии были на стороне вермахта и агрессивного фашистского милитаризма.
Для Р.Я. Малиновского, так же как для многих тысяч красных командиров, политические конфликты в партии, борьба за власть были чужды. Они служили Советской Родине. У «заговорщиков» в верхних этажах партийного аппарата, армии, органов госбезопасности не было надёжной опоры в массах. Иначе Сталин и его сторонники были бы низвергнуты.
Не было лидера, которого можно было противопоставить Сталину. Он прошёл все ступени партийной иерархии, начиная с низовой подпольной работы. Успешно проявил себя в Гражданской войне и в государственном строительстве, написал талантливые теоретические работы, был наиболее верным и последовательным соратником Ленина.
Мог ли Тухачевский всерьёз претендовать на роль «красного Бонапарта»? Нет. Настоящий Бонапарт несколько лет тянул лямку в провинциальном гарнизоне, познал военную службу изнутри, досконально. Попутно написал несколько работ по математике и баллистике, много читал. А Михаил Николаевич попал из военного училища в окопы Первой мировой войны; участвуя в боевых действиях всего несколько месяцев, оказался в плену. Зато потом хвастал, будто получил чуть ли не все боевые ордена Российской империи. Он умел выслуживаться перед начальством и приобретать высоких покровителей – вот секрет его карьеры.
Наиболее полное впечатление об этих людях оказалось ошеломляющим, когда через полвека были открыты (лишь частично) материалы их процесса. Обвиняемые признавались потрясающе, неправдоподобно быстро!
«До сих пор не содержится ответа, – пишет В.З. Роговин, – на многие законные вопросы, возникающие при анализе дела генералов. Я имею в виду прежде всего вопрос о причинах признаний подсудимых и написания ими перед судом рабских писем Сталину. В большинстве исторических работ, посвящённых делу Тухачевского, эти признания объясняются исключительно применением физических пыток. Однако такое объяснение представляется несостоятельным по целому ряду причин».
Он перечисляет эти причины. От профессиональных военных, находящихся в расцвете сил, «следовало ожидать значительно большей стойкости, чем, например, от Зиновьева и Бухарина». (Можно припомнить Радека, который около двух месяцев изводил следователей.) Известно много случаев, когда жестокие пытки не могли вырвать у подследственных лживые признания. А тут ещё не только признавали свою вину, но и выдавали реальных или мнимых соучастников.
Находясь под следствием, Тухачевский написал обширную докладную записку, посвященную возможной будущей войне. Если у него достало физических и моральных сил для такого сочинения, то почему бы он перед следователями оказался таким слабым и робким, что по их указке давал ложные показания на себя и на своих друзей и знакомых?
Трудно считать всех, кто давал признательные показания, такими жалкими и подлейшими доносителями на безвинных людей. С одной стороны, некоторые заговорщики, не потерявшие окончательно совесть, узнав, что их заговор раскрыт, с некоторым даже облегчением могли давать показания, подсознательно чувствуя, что их заговор преступный. С другой стороны, многие антисталинисты (военные и гражданские лица) были из числа «раскаявшихся», притворно отказавшихся от своих оппозиционных убеждений. В действительности они продолжали скрыто противостоять сталинскому курсу. Такая двурушническая позиция тоже не способствовала крепости их духа.
Они понимали, что правда и народ не на их стороне, что действительно замышлялось преступное деяние. Но главное, что вынуждало их признаться, – это предъявляемые им документы, свидетельства, показания арестованных ранее, донесения секретных агентов. Получалось, что следствию почти всё уже известно. Тухачевский, Гамарник, Якир заранее ощущали, а затем и ясно понимали, что они находятся на подозрении, за ними наблюдают и могут в скором времени арестовать. Такое состояние неопределённости, постоянной угрозы деморализует человека, подавляет его психику.
…В середине января 1937 года Сталин получил от корреспондента «Правды» А. Климова письмо, в котором со ссылкой на достоверные источники в Германии сообщалось о связи немецких правящих кругов с руководством Красной Армии и лично Тухачевским.
Сходные сведения были получены и от генерала Скоблина («Фермера») из Парижа. В послании упоминались циркулировавшие в белоэмигрантских кругах слухи о том, что в СССР готовится военный переворот. В апреле 1937 года начальник Главного управления РККА комкор С. Урицкий доложил Сталину и Ворошилову, что в Берлине поговаривают об оппозиции советскому руководству среди высшего комсостава Красной Армии.
На Тухачевского скопилось много компромата. Кольцо вокруг него стало сжиматься. Он стал чересчур «баловаться» коньячком, чего раньше за ним не водилось. Сестре высказал сожаление, что не стал в юности музыкантом (он неплохо играл на скрипке и сам мастерил эти музыкальные инструменты).
Только 11 мая нарком обороны К.Е. Ворошилов подписал приказ о смещении Тухачевского и Якира. В ночь на 14 мая был арестован командарм 2-го ранга А.И. Корк. Уже через день после ареста он написал два заявления Ежову. Первое – о намерении произвести переворот в Кремле. Второе – о штабе переворота во главе с Тухачевским, Путной и Корком. По его словам, в заговорщическую организацию его вовлёк Енукидзе, а «основная задача группы состояла в проведении переворота в Кремле».
Около месяца не давали признательных показаний работники НКВД Гай и Прокофьев (им, безусловно, требовались особая осторожность и предусмотрительность). Но всё-таки они сообщили о преступных связях своего шефа Ягоды с Тухачевским. Тогда же Волович показал на Тухачевского как на участника заговора, обеспечивавшего поддержку заговорщиков воинскими частями.
Арестованный 6 мая комбриг запаса М.Е. Медведев (исключённый из партии за разбазаривание средств) через день заявил о своём участии в заговорщической организации, «возглавляемой заместителем командующего войсками Московского военного округа Б.М. Фельдманом».
Если Корк поспешил признаться в заговоре и назвал своих подельников, то хитроумный Ягода стал давать показания на Енукидзе, Тухачевского, Корка и Петерсона примерно через полтора месяца после ареста. А заместитель командующего МВО Б.М. Фельдман, арестованный 15 мая, уже на четвертый день признался и начал выдавать соучастников.
22 мая были арестованы Тухачевский и Эйдеман. Через три дня заключенный № 94 внутренней тюрьмы НКВД подписал признательные показания о руководстве заговором с целью государственного переворота. Этим № 94 был Тухачевский.
Якир сразу же после очной ставки с арестованным ранее Корком, как сообщили в 1989 году «Известия ЦК КПСС»: «написал заявление Ежову, в котором признал себя участником заговора и что в заговор его вовлёк Тухачевский в 1933 году». Уборевич, категорически отрицавший своё участие в шпионаже и вредительстве, показал, что заговор возник в 1934 году и тогда же его вовлёк в заговор Тухачевский.
В книге Н.А. Зеньковича «Маршалы и генсеки» опубликованы показания Тухачевского, написанные им во внутренней тюрьме НКВД. По словам маршала, переворот первоначально планировался на декабрь 1934 года. Его пришлось отложить из-за покушения на Кирова; поднялась волна народного негодования, и эта реакция вызвала у заговорщиков опасения. По-видимому, сказалось и то, что была усилена охрана руководителей государства.
В.М. Молотов утверждал, что попытки произвести государственный переворот были и в 1935, и в 1936 годах. Например, 1мая 1937 года на поясе наркома обороны Ворошилова был револьвер в кобуре, чего не наблюдалось никогда ни раньше, ни позже (нарком был отличным стрелком).
Не обязательно все осуждённые военачальники были участниками заговора. Некоторые пострадали только за то, что не донесли в органы госбезопасности о тех, кто говорил: надо Ворошилова снять с поста наркома обороны, да и Сталин отходит от ленинских принципов руководства партией и страной, устранил многих соратников Ленина…
В мирное спокойное время такие разговоры можно было бы считать достойными наказания, но не столь сурового. Но страна была фактически на осадном положении; действовали жестокие законы военного времени.
Вот что было написано в секретной записке германского Управления вооруженных сил от апреля – мая 1937 года: «Действительные причины падения маршала Тухачевского пока неясны; следует предполагать, что его большое честолюбие привело к противоречию между ним и спокойным, рассудительным и четко мыслящим Ворошиловым, который целиком предан Сталину. Падение Тухачевского имеет решающее значение. Оно показывает со всей определенностью, что Сталин держит в руках Красную Армию».
Слова «Сталин держит в руках РККА» показывают, что это обстоятельство имело решающее значение, ибо свергнуть вождя могли руководители армии и НКВД, среди которых были «германофилы» Тухачевский и Уборевич.
Сохранялись неплохие отношения между германскими и некоторыми нашими военачальниками. И те и другие были недовольны «слишком идеологизированной» политикой Гитлера и Сталина. Ведь объединение германских и советских армий стало бы решающим фактором гегемонии в мире. Есть сведения, что планы такого раздела существовали.
…Приходится уделять много времени ситуации в стране и армии в 1930-х годах, потому что именно на этот период приходится быстрый карьерный рост многих в будущем прославленных наших полководцев, в том числе Р.Я. Малиновского.
Глубоко ошибаются те, кто верит, будто Красная Армия была чрезвычайно ослаблена репрессиями тех лет. Не оправдывая характер этих репрессий (прошлое надо стараться понять), признаем, что они не подорвали боеспособности нашей армии. Поражения первых двух лет Великой Отечественной войны были вызваны другими причинами.
Глава 3. Гражданская война. Испания
Под именем Малино
В январе 1937 года Р.Я. Малиновский был направлен в испанскую республиканскую армию как военный специалист. Под именем Малино служил он советником командующего Маневренной армией Арагонского (Восточного) фронта.
«Полковник Малино, – писал М. Захаров, – … не жалея сил и энергии, передавал свой богатый боевой опыт и знания товарищам по оружию, передавал не в аудиториях, не с лекторской кафедры, не на учебных полях, а непосредственно на поле боя, на огневых позициях и командных пунктах, под артиллерийским огнем, под свист пуль и разрывы бомб.
Готовится наступление – полковник Малино вместе с испанскими командирами обдумывает замысел операции, разрабатывает её план. Операция началась – он там, где непосредственно куётся победа, колесит по разбитым фронтовым дорогам, собирает и поторапливает резервы, помогает наладить в войсках взаимодействие, укрепить фланги, организовать контратаку. Махадаонда, Гвадалахара, Сеговия, Барселона – эти звучные названия навсегда вошли в боевую биографию Малиновского».
Особенно важно для понимания личности Р.Я. Малиновского свидетельство Энрике Листера Форхана (1907–1994). А чтобы понять, насколько веско такое свидетельство, следует иметь в виду его автора, легендарного героя республиканской Испании.
«Я знаю Энрике Листера, – вспоминал писатель Борис Полевой, – одного из самых замечательных революционеров, каких мне только доводилось встречать… на долю которого выпали самые трудные бои и самые нелёгкие победы республиканской армии… человек легендарной славы, о котором в своё время буржуазная пресса сочинила столько легенд. Говорилось о его аристократическом происхождении, о том, будто образование он получил во французской военной академии… Многое болтала в те дни буржуазная печать, стараясь объяснить непонятные ей полководческие дарования этого республиканского военачальника, о котором точно знали лишь одно: что он коммунист».
Подобно Родиону Малиновскому, Энрике Листер в юности служил солдатом в королевской армии. Стал членом Испанской компартии, участвовал в восстании против диктатора Х. Мачадо на Кубе. С 1932 года жил в Москве, работал на строительстве метро, а затем учился в Академии имени Фрунзе. Сражался в рядах Красной Армии во время Великой Отечественной войны. В книге «Наша война» (1966), вспоминая о Гражданской войне в Испании, писал:
«В самый разгар сражения на Хараме в мою дивизию прибыл полковник Малино – Родион Малиновский, позже ставший Маршалом Советского Союза и министром обороны СССР. На мой командный пункт, расположенный почти на передовой, дождем падали снаряды, летели пули. Когда мы знакомились, в его полуизумлённом и полунасмешливом взгляде я прочёл осуждение за то, что держу командный пункт в таком месте».
Энрике Листер пояснил, почему всегда располагал свой командный пункт как можно ближе к передовой линии: «Дело было не в бравировании храбростью, а в возможности осуществлять таким образом всесторонний контроль и действенное руководство. Я мог непосредственно наблюдать за происходящим на поле боя и тут же разрешать все возникавшие трудные вопросы. Кроме того, присутствие командира оказывало положительное влияние на подчинённых».
Приходится помнить о том, что темпераментные уроженцы Южной Европы обычно сильно поддаются влиянию эмоций, проявляя то чудеса храбрости, то поддаваясь панике. Для них особенно важно видеть пример командира. Тем более, если речь идёт не о профессиональных солдатах.
И всё-таки Листер, пожалуй, излишне бравировал своим хладнокровием и мужеством. Вот что рассказал в 1965 году об их знакомстве Р.Я. Малиновский:
«Вот я уже на командном пункте народного героя Испании Энрике Листера, назначенного командиром одной из первых дивизий Народной армии.
Как сейчас вижу эту встречу с ним. Мятежники пристрелялись к его командному пункту, расположившемуся в пастушечьем домике. В домик угодило несколько снарядов – засуетились санитары, забелели бинты. Потом начался пулемётный обстрел… А он стоит передо мной во дворике, подтянутый, в лихо заломленной фуражке, при галстуке, и изучающе посматривает на меня: как, мол, тебе нравится такая музыка? Не начнёшь ли кланяться пулям?
Советником к Листеру шёл я, надо заметить, с известным опасением. Укрепилась за ним репутация командира храброго, тактически грамотного, но не терпящего постороннего вмешательства и тем более какой бы то ни было опеки. Владея немного русским языком (Листер… был бригадиром забойщиков на строительстве Московского метрополитена), он посылал к чёртовой матери всех, кто под горячую руку совался к нему с неразумными советами.
– Не сработаешься, Малино, – предупреждал меня кое-кто.
А я решил: “сработаюсь”. И теперь видел: Листер устраивает мне своеобразный экзамен.
Над головами, над чахлыми безлистыми кустиками посвистывают пули. Мы прохаживаемся с Листером от домика до дворовой изгороди, от изгороди до домика.
У генерала вид человека, совершающего послеобеденный моцион, я тоже показываю, что пули беспокоят меня не более, чем мухи. Перебрасываемся короткими деловыми фразами… От домика до изгороди, от изгороди до домика… Начинает смеркаться. Будто невзначай рассматриваю на рукаве рваный след от пули.
– Полковник Малино! – с улыбкой восклицает Листер. – Мы ещё не отметили нашу встречу. – И подзывает адъютанта: – Бутылку хорошего вина!»
Теперь продолжим воспоминания Энрике:
«Мы были вместе до окончания сражения на Хараме. Оттуда он направился во 2-й корпус, а я – на Гвадалахару. Мы снова встретились в марте 1938 года на Арагонском фронте, куда он приехал навестить нас и опять увидел меня на командном пункте, обстреливаемом прицельным огнем врага. Незадолго до этого противник прорвал наши линии у Ла Кондоньеры, и я только что бросил в бой мой последний резерв – Специальный батальон. Благодаря геройству его бойцов, подоспевшим резервам и наступлению ночи мы сумели удержать свои позиции. Тогда-то я в последний раз видел полковника Малино в Испании.
За время, что нам довелось воевать вместе, мы крепко подружились. Его отличали не только необыкновенная боевая закалка, но и умение быстро, чётко и проницательно решать сложные военные вопросы на каждой стадии боя. Позже эти качества проявились ещё более широко и блестяще. Больше всего мне нравились в нём смелость и твёрдость, с какой он отстаивал свои взгляды, уважение к мнению других, прямота и честность в отношениях с людьми.
Мои взаимоотношения с советскими товарищами всегда были откровенными и сердечными. Каждый из них был для меня другом, прибывшим помочь нам в трудной борьбе. Мое трёхлетнее пребывание в Советском Союзе и тесное общение с советскими людьми, в особенности в период моей работы на строительстве метро, дали мне возможность убедиться в их простоте, щедрости, прямоте, упорстве в труде, высоком чувстве солидарности, дружбы и самопожертвования. В Советском Союзе я никогда не чувствовал себя иностранцем. Я работал, спорил, критиковал, как это делал любой советский человек.
Когда советские люди приехали в нашу страну, моё отношение к ним не изменилось, – я не считал их иностранцами, видел в них братьев по борьбе, дорогих друзей. И если не был согласен с действиями или предложениями кого-либо из них, говорил открыто и прямо, как и должно быть между друзьями. Именно это и способствовало иногда возникновению обо мне мнения как о трудном человеке, о чём и говорил Малиновский».
Эти два замечательных человека были достойны друг друга. Но, в отличие от Энрике Листера, Родион Малиновский прошёл долгий и трудный путь солдата, офицера, генерала, маршала. Оба были членами коммунистических партий. Листер был активным политическим деятелем. Малиновский всегда оставался прежде всего кадровым военным, высоким профессионалом своего дела.
Из письма Франсиско Сиутата (во время Гражданской войны в Испании начальника штаба Северного фронта) дочери Р.Я. Малиновского Наталье:
«За всю мою жизнь я не встречал человека, которого бы уважал больше, чем твоего отца, а ведь судьба сводила меня, без всякого преувеличения, с историческими личностями.
Мне выпала честь быть рядом с твоим отцом, которого тогда скромно называли коронель (полковник) Малино, в 1937–1938 годах. Нас связала такая сердечная дружба, что он стал называть меня “сынком“ (у меня сохранилась его фотография, подаренная на память, с надписью “Сынку моему Пакито”). Я же, хотя между нами всего десять лет разницы, называл его “отец” – падре.
Коронель Малино всегда оставался для меня недосягаемым примером. Я обязан ему не только обретением профессиональных навыков, но и тем, что тогда ещё понял, как необходимо в военном деле прочное, глубокое, доскональное знание предмета, но не только. Не менее нужны командиру взыскательный ум и доброе сердце. Твой отец дал мне не только военный урок, но и урок доблести, стойкости, достоинства. И – не удивляйся! – урок деликатности.
Исполняя обязанности советника, трудно удержаться от соблазна публичного поучения, и все предшественники коронеля Малино давали советы Листеру в присутствии подчинённых, попросту говоря, командовали через его голову, что не всякий потерпит. И пусть советник трижды прав, но, задевая самолюбие командира, он колеблет веру солдат в него, и в итоге страдает общее дело. Я доподлинно знаю, что коронель Малино обсуждал положение с Листером в самом узком кругу (несколько раз я при этом присутствовал). Коронель Малино давал точную характеристику обстановки, подводил к выводу, но последнее слово всегда оставлял за командиром, а при оглашении приказа чаще всего даже не присутствовал.
Твой отец встал плечом к плечу с нами в час тяжелейших испытаний, а позже, уже в Москве, когда мы были оторваны от родины, скольким из нас он помог! Мы знали, что у испанцев есть свой депутат в советском правительстве – коронель Малино».
…На этой войне за республиканцев сражались в большинстве люди штатские. Наши военные советники были необходимы не только для планирования боевых действий, но и для организации воинских частей и соединений. В этом отношении преимущество было на стороне мятежников: там воевали преимущественно профессионалы, при участии многотысячного контингента итальянских и германских военных.
По мнению историка В.Л. Телицына (книга «Пиренеи в огне»), «Сталин, опасаясь растущего влияния Берлина на международной арене, усиления его вооружённых сил, стремился чужими руками измотать потенциального соперника (не скупясь на поставки вооружения), а затем нанести сокрушительный удар».
Получается, что СССР к 1937 году стал агрессором, как гитлеровская Германия. В таком случае наши военные советники в Испании играли роль разжигателей войны, что и фашисты. Но раздуть мировой революционный пожар стремились троцкисты. По словам английского историка Алана Джона Буллока, до 1936 года Сталин и Гитлер «не проявляли особого интереса к Испании». Сталин хотел «предоставить Франции оказание помощи республиканскому правительству». «Сталину пришлось… не допускать прямого участия России в войне; и, наконец, не допустить возрождения пугающего образа Советского Союза как экспортёра революции».
Немецкий историк Иоахим Фест писал: «Подлинная выгода, которую мог извлечь Гитлер из Гражданской войны в Испании… искусно управляя ходом событий, состояла в той встряске, которой он подверг прочно сложившиеся отношения в Европе». Вдобавок война упрочила связь двух фашистских режимов: итальянского и германского.
Стремясь завоевать симпатии мировой буржуазии, Гитлер восклицал: «Даже если весь мир станет гореть вокруг нас, национал-социалистическое государство сохранится как слиток платины среди этого большевистского огня». «Мы идём через мир как миролюбивый, но закованный в железные латы ангел». Хотя уже зверская бомбардировка немцами мирного испанского города Герники показала, что из лат высовывается дьявольский хвост.
Почему-то В.Л. Телицын не осознал разницы между фашистами и антифашистами. Вот как обратился к германскому народу Эрнест Хемингуэй в 1938 году: «Германский народ может гордиться теми мужественными немцами-антифашистами, которых мне довелось видеть на фронтах освободительной войны в Испании».
Республиканцы и добровольцы-интернационалисты защищали демократически избранное правительство от фашистской агрессии.
Было бы глупо со стороны Сталина считать, будто германская военная помощь испанским фашистам способна «измотать потенциального соперника». Как известно, немцев не измотали, а, напротив, укрепили победоносные войны с Францией, Бельгией, Чехословакией, Польшей.
Не Сталин, а Гитлер использовал испанскую войну в своих целях и старался продлить её. В ноябре 1937 года он писал в секретном докладе: «С германской точки зрения нежелательна стопроцентная победа Франко. Мы сейчас заинтересованы в сохранении противоречий в Средиземноморском бассейне». Гитлер и Муссолини не скупились на военную помощь Франко, но фюрер ограничивал участие в войне своих солдат и офицеров.
Республиканцам из СССР было поставлено 648 самолетов, 347 танков, 60 бронеавтомобилей, 1186 артиллерийских орудия, 20 486 пулеметов, 497 813 винтовок. Италия и Германия поставили мятежникам 1650 самолетов, 1150 танков и бронемашин, 2630 артиллерийских орудий, 8759 станковых пулеметов, 1426 минометов, более 250 тыс. винтовок, 16 720 авиабомб, 1000 тонн взрывчатки.
…Помимо пренебрежения к фактам и смыслам, бывшие советские, а ныне ставшие буржуазными историки забыли простой принцип деления войн на справедливые (оборонительные) и несправедливые – захватнические, имеющие целью покорять и порабощать народы, присваивать чужие земли и ценности. В Испании воевали сторонники демократически избранного правительства с мятежниками, пособниками которых были фашистские диктатуры. Не советские, а немецкие самолёты бомбили мирные города.
Многие действия советского руководства определялись пониманием неизбежности войны с фашизмом. Мы помогали республиканцам как защитники законного правительства. Посылая своих военных советников, кроме того, изучали будущего врага.
Гражданскую войну в Испании сторонники Троцкого, а также анархисты, расценивали как ещё один очаг мировой революции. В реальности эта идея утопична уже потому, что государства находятся на разных социальных, экономических, культурных, научно-технических уровнях.
Судьба каждой страны индивидуальна. Кризис в Испании назревал долго. Пытаясь спасти престол, испанский король Альфонсо XIII в 1923 году установил диктатуру Мигеля Примо де Риверы. Некоторые экономические успехи свёл на нет очередной кризис мировой капиталистической системы 1929 года. В стране углубился раскол между республиканцами и монархистами. В начале 1930 года Примо де Ривера подал в отставку. 28 января 1931 года на муниципальных выборах левые партии победили.
Альфонс XIII, покидая Испанию на борту военного корабля, признался: «Выборы… с ясностью показали мне, что сегодня любовь моего народа решительно не со мной. Я предпочитаю удалиться, чтобы не толкать соотечественников на братоубийственную Гражданскую войну, по требованию народа я сознательно прекращаю отправление королевской власти и удаляюсь из Испании, признавая её единственной властительницей своих судеб».
Конституция, принятая в конце того же года, провозгласила Испанию «Демократической Республикой всех трудящихся». В феврале 1936 года на очередных выборах в кортесы победил Народный фронт, объединивший антифашистские партии. Недовольных таким поворотом событий генералов направили подальше от центра в колонии.
Мятеж начался в ночь на 17 июля 1936 года на территории испанского Марокко, на Канарских и Балеарских островах. Возглавили его генералы Хосе Санхурхо (вскоре погибший в авиационной катастрофе), Мануэль Годед Льопис, Эмилио Мола, Франсиско Паулино Эрменехильдо Теодуло Франко Баамонде. Последнего 29 сентября избрали каудильо (вождём) в звании генералиссимуса.
На их стороне было большинство офицерского состава и подчинённых им солдат, «колониальные» войска, иностранный легион, жандармы, фашисты-фалангисты. Всего более 200 тысяч человек. Сторонников законного правительства было вчетверо меньше. Однако их поддерживало большинство народа, и это определило первые неудачи мятежников.
Гитлер и Муссолини направили Франко немецкий авиационный «Легион Кондора» и итальянский пехотный «Корпус добровольческих сил». К мятежникам примкнули добровольцы из Ирландии, Португалии, русские белоэмигранты. На стороне Республики выступили коммунисты, анархисты и социалисты со всего мира.
Гражданская война в Испании превратилась в интернациональное столкновение левых революционных сил со сторонниками фашистской диктатуры и капитализма. Англия, Франция и США при соблюдении формального нейтралитета поощряли франкистов.
Из «Википедии»: «Отечественные историки считают, что “несмотря на принятый еще в 1935 году Закон о нейтралитете, США помогали мятежникам, продавая им горючее, грузовики, бомбы. Только одна компания «Техасо» за время войны в Испании поставила в кредит франкистам 1866 тысяч тонн нефти”. Однако В.Л. Телицын так комментирует этот сюжет: “В США незыблемо существовал принцип частной собственности и кодекс законов, стоящий на страже этого общественного института и не позволяющий государству давить на частный бизнес, если он не вступал в противоречие с национальными интересами государства, или использовать его в своих интересах”. Удивительно благодушное оправдание военных поставок, так, словно речь идет о поставках шампанского к новогоднему столу!