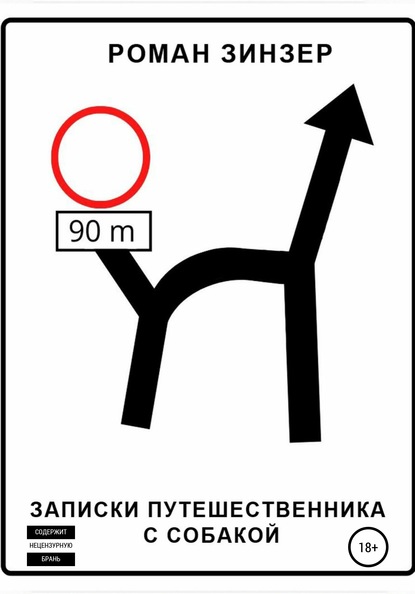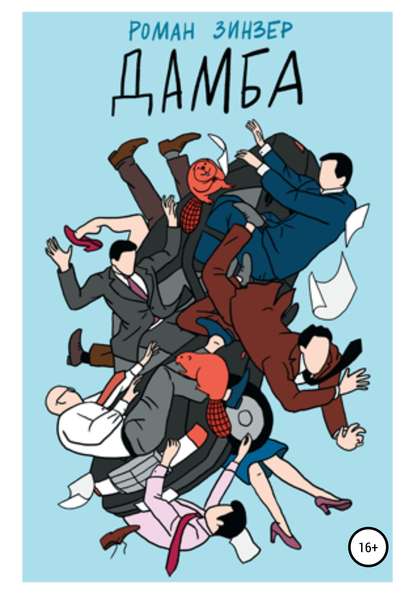Полная версия:
Роман Зинзер Кингс Хайвей
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

В ресторане не было окон. Он находился на подвальном уровне отеля, окруженный стеклянными стенами бутиков и шуршащим звуком эскалатора. Там играла музыка: что-то вполне соответствующее духу цивилизованного поедания блюд – бархатные Синатра и другие, с незапоминающимися именами тихой страсти в автомобилях и заведениях общепита из кожи и дорогих ароматов. К десяти вечера, за час до закрытия, менеджер ресторана Зейн включал «Никелбэк».
Несколько барных стоек напротив открытых для обзора кухонь и пара огромных столов заполняли все помещение. Посетители были вынуждены передвигаться боком, уступая дорогу басбоям с эшелонами грязной посуды в руках.
Теснота, как считали дизайнеры этого места, создавала теплоту и уют. По мне, так она только создавала большие трудности для посетителей. Ресторанный персонал сновал по залу черно-белыми пятнами, гости чаще были вполне скромно одеты, у многих женщин были очень красивые лица и открытые плечи, мужчины заросли кредитами и бородами.
– Марк, переставляй свои ноги быстрее, очень медленно! – это Эмили. Она стерва и меня не выносит. Ей где-то под тридцать, в ней пуд лишнего веса, но приятные губы и скулы. Ее можно назвать симпатичной и милой, но на работе я стараюсь быть с ней в разных углах ресторана: она в зале – я обязательно начинаю искать дело на кухне, и наоборот. Ее раздражают мой ужасный английский и моя хладнокровная физиономия. Кстати, Эмили – мой шифт-менеджер и лесбиянка. Может, в этом тоже есть свои пять копеек к ее неприязни.
Эмили несправедлива: я неплохо работаю. Мне, конечно, вряд ли выдадут грамоту или диплом за искусство таскания подносов и объедков с посудой на них, если такие, вообще, существуют, но я очень вежлив, приятен и редко что-то роняю.
Да, я не пытаюсь сесть на все стулья сразу. Я помогаю одному-двум официантам, не больше, улыбаюсь только девушкам и русскоязычным, иногда являюсь в мятой белой рубашке, хотя дресс-код у нас строгий. На черный форменный фартук я часто ляпаю пятна, ежечасно хожу в туалет, и не по известному делу, а перевести дух, еще раз разглядеть себя в зеркале. Я могу опоздать на прешифты – собрания персонала для дегустаций, получения нотаций от менеджера, обсуждения вопросов и новинок в нашем меню перед выходом в зал. Прешифтов в день два: утром в десять и под конец утренней смены в районе четырех часов дня. Но еще раз, я вовсе не плох для басбоя в нью-йоркском ресторане. Кстати, да, я с недавних пор в Нью-Йорке.
Рассказать, кто такие басбои? Басбои, раннеры, бассеры – это официанты без права принятия заказов. Помощники. Эти люди, как вороны, летают по ресторану в поисках заброшенных блюд и грязной посуды. Они принесут вам тарелки с дымящимся деликатесом, уберут и доедят то, что вы не доели, вытрут ваш стол или барную стойку, расставят бокалы и серебро, возможно, подскажут, как пройти в туалет. Говорить с ними не стоит: они вас не поймут, коммуникация у них часто хромает обеими ногами. Это работа начинающего иммигранта. Легального, скорее всего. Нелегалы, как я, собеседование в fine dining[1] места не проходят и растворяются по недорогим кабакам, дайнерам и пиццериям далеко от Манхэттена.
Басбоям платят неплохо. Помимо восьмерки долларов в час, к ним в карман идет двадцать-тридцать процентов от всех чаевых. А это с полсотни зеленых за смену. Официанты, правда, часто эти деньги просто воруют: распихивают кэш по карманам и не сдают его менеджеру для пересчета по окончании смены. Никто никогда ничего не докажет.
– Манвел на прешифт не явился, не могу до него дозвониться, – это Зейн, тоже мой босс, он же шифт-менеджер, сообщает мне новости. Зейн Латта – парень нормальный. Ему, так же как и Эмили, где-то под тридцать, он вежлив, корректен, мне понятны его шутки и замечания, которые часто по делу: не лапать руками тарелки, не ковыряться в носу на публике. Он носит пиджак или шерстяную жилетку, узкие брюки и большие бифокалы в толстой оправе. Иногда прицепляет бабочку непонятного цвета. За глаза его зовут Гарри Поттером, но при всем его внешнем виде отличника рожа у Зейна постоянно мятая и небритая.
– Буду признателен, если, Марк, ты его заменишь.
Манвел на прешифт не явился. Это значит, что тот, кто с утра, будет работать весь день или, как говорят, делать дабл. Дабл – две смены подряд. Я не против: дабл – значит сто двадцать, а может, сто сорок баксов за раз. Двенадцать часов на быстрых ногах выжмут и марафонца, но сто сорок есть почти треть от моей квартплаты за месяц или четверть от платы за обучение на моих курсах английского в семестр. Или семьдесят пять больших кружек кофе на утро. А с бейглом, вкусным бубликом, их будет сорок.
– Не проблема, Зейн, пиши меня, у меня есть лишнее время.
Манвел из Армении. Ему двадцать четыре, здесь он уже успел фиктивно жениться, выцыганить у государства зеленую карту – право на работу и жительство – и привыкнуть тратить «пейчеки»[2] на бензин для прокатных машин и «лэп-дэнсы»[3] от стриптизерш. Я вам потом расскажу, чего ему эта грин-карта стоила. Он знает русский, и иногда, возле мойки очищая тарелки от костей и салфеток, мы отдыхаем ногами и болтаем о жизни других. Внешне Манвел немного похож на бандита из телевизионного сериала о 90-х в России: он также выплевывает короткие фразы, гундит и выдвигает вперед шершавую челюсть. Вчера, да, вроде вчера, был его день рождения, но менеджерам этого лучше не знать, тогда у Манвела останется шанс оправдать свое опоздание: придумать историю про болезнь, несварение желудка, ранение или что-то еще в этом духе и как-то спасти себя от увольнения.
До letting go, увольнения то есть, ему еще далеко: он пришел работать в «Плазу», наш ресторан, сильно позже меня. Официально тут у нас увольняют через сто двадцать дней с начала работы, иначе после этого времени мы можем вступить в профсоюз для работников ресторанной обслуги и тиранить свое руководство за любую рабочую лажу. Якобы.
Профсоюз официантов, ха. Да, здесь есть и такой. Каждый месяц к нам на кухню заходит его главный глашатай – бородатый дядька итальянского типа, − раздает всем флаеры и визитки, снимает копии с документов потенциальных членов рабочей общины. Членство в ней, в профсоюзной общине, дает право законно требовать денег и хорошего расписания и трудового контракта с Брайана Кроуфорда – нашего главного менеджера. Брайану, мужику лет под сорок со свинячими глазками и пузом беременной, вся эта контора по защите прав и свобод как кость в горле, поэтому нас – официантов, барменов, басбоев – ему проще заменить кем-то новым, чем ждать, пока мы вольемся в неугодную ему социалистическую шайку и начнем правомерно сосать его кровь и кровь нанявших его акционеров.
Мне, к слову сказать, в любом случае никакого профсоюза не светит: я нелегал и никуда вступить не могу, но Брайану об этом сообщать мне нельзя, иначе карьера басбоя накроется сразу.
Черт, а ведь даже Манвел легален! Из всего front of the house – персонала обслуживания – я, кажется, только один без документов с нужными штампами. В back of the house – среди поваров и мойщиков – таких, как я, целые гроздья. Все они – мексы Ману и Херардо, чернокожий сенегалец Жуан, который днями драит полы и посуду и обедает внутри холодильника-склада, чтобы отдохнуть и остыть, Макс – пиццемейкер из Хабаровска, еще несколько нормальных ребят, имен которых я уже не вспомню, – очень забавны, обучают меня испанскому и готовят мне что-нибудь пожрать. Слова плохого о них не скажу. Они выживают на семь пятьдесят в час, повара на чуть больше – на тринадцать. На конвертах пейчеков, я видел, у многих из них не было адреса, только пустое окошко. Наверное, они и живут в ресторане.
Вот и Манвел. Пришел. Посиневший, небритый – день рождения наступил. В джинсах, футболке, работать сегодня он явно не будет.
– Что случилось-то?
– Проспал до четырех.
– Что скажешь?
– Проспал до четырех.
А я иду на прешифт, второй за день. Шеф-повар Майкл Суппа, американский итальянец, похожий чем-то на младшего Корлеоне, только толстого, уже стоит с новой паэльей из мидий, и мне надо успеть что-то съесть хотя бы сейчас, на дегустации. Утром не вышло, и я остался голодным. Если и сейчас пропущу эти пробы, на обед придется хлебать отвратительный луковый суп – единственное, что сегодня готовят для персонала. Как французы, вообще, до такой жидкой дряни додумались?
По правилу все новые блюда сначала пробуют (плотно ими жрут) официанты, ведь это им рассказывать о них, им врать посетителям о потрясающем вкусе и необычайном аромате наших кулинарных изделий. Басбоев к fancy еде пускают потом, когда уже ничего от нее не осталось. Хотя честно, я не понимаю, как в десять утра можно есть мясную паэлью или сырые, липкие суши. Меня даже вечером от последних тошнит.
На прешифте Зейн заново раздал всем по участку работы. Меня с пиццы отправили на суши и «море». Сейчас поясню. Я уже говорил: наш ресторан состоит из нескольких барных стоек. За каждой стойкой открытая кухня: вы видите, что и как вам готовят. По крайней мере, вам кажется, что вы это видите. За каждой кухней закреплены свои типы блюд и продуктов. Так, мясной гриль – это бургеры, стейки и картофель фри. Пицца – это очень хреновая пицца и разная салатная зелень. Китайская кухня – лапша и пельмени. И наконец, кухня морепродуктов, японская и бар обыкновенный – с бутылками и ассортиментом бокалов. За всей этой дизайнерской показухой находятся настоящий камбуз и посудомойка. Это место доступно только для персонала, там на самом деле и готовят все блюда. Ну или подготавливают к готовке.
У нас в ресторане все вкусно и хорошо. Все популярные истории про грязные руки кухонных рабочих, капли пота в заказах, несвежие ингредиенты, плевок в суп на счастье, член в греческом салате – все это бред фантазеров и писателей, чаще бывавших не на кухне хорошего ресторана, а в столовках детских садов и забегаловках для дальнобойщиков. Или вообще нигде не бывавших, кроме своего махрового халата и теплых тапок. У нас все было чисто, все были в перчатках и под десятком видеокамер. Бургер, упавший на пол, обязательно отправлялся в ведро.
Так вот, с пиццы меня отправили на суши. На суши работать легко и приятно. Здесь всегда мало народа: запах сырых морепродуктов никого не влечет, туда наши хостес сажают гостей только в случае отсутствия других вариантов. Еще около суши прохладно (нет печей и огня), и всегда есть о чем поговорить с поварами.
Повар Лысый Стивен (его все так зовут, я не помню его настоящего имени) с внешностью японского летчика-камикадзе времен Второй мировой сказал как-то, что давно хочет уехать в Россию и открыть там свой бизнес.
– Все ваши русские суши и роллы – полное дерьмо! Такой рынок стоит неосвоенным! Дайте мне денег – я научу вас готовить. Навезли вы к себе всяких китайцев с монголами: типа, раз узкоглазый, значит, хороший сушист. Дерьмо!
Стивен для японца очень активен, на его лице всегда буря эмоций. Он провел какое-то время в России и умеет говорить без акцента по-русски «доброе утро». Он единственный островитянин у нас, все остальные «японцы» приехали из континентальных Непала и Южной Кореи и от этого немного стесняются говорить о себе и своих приключениях по пути из дальней Азии в Америку.
Я опять в туалете. Закрылся. Время открыть рыжий конвертик с чаевыми за вчера, там семьдесят. Хорошо.
Через проход, почти напротив дверей туалета, стоят бочки с фруктами и овощами. Проходя мимо них, можно стащить два банана и съесть их, сидя на унитазе. Или, юрко засунув в карман, унести сэндвич с сыром, реже с какой-нибудь рыбой из предресторанной витрины, и съесть его в закутке у служебного входа. Сэндвич для уборной слишком большой: поедание его там вызовет очередь страждущих сбросить балласт.
Дальше по коридору, за кухней, прямо между каморкой для менеджеров и клеткой с дорогим алкоголем, на которой висит гигантский амбарный замок, есть негласное место намаза. У нас два мусульманина: Баха, здоровый мужик из Палестины с огромной белозубой улыбкой, и черный, длинный, как каланча, поваренок из Нигерии. Нигериец неразговорчив и незаметен, Баха виден издалека: он любит опаздывать, пить крепкий кофе каждые десять минут и рассматривать стринги клиенток. Он силен, как два КамАЗа, и запросто может унести по четыре кувшина с водой в руке. Это двадцать неудобных килограмм.
– Марк, двадцать баксов – твои. В исламе тому, кто нашел чей-то кошель, принадлежит десять процентов от его содержимого.
У Бахи произошла катастрофа: он вчера потерял свой бумажник в метро, когда мы вместе ехали домой. Там были пара франклинов[4], куча пластика и документы. Я бумажник нашел: он оказался у меня под сиденьем в вагоне, и на следующий день вручил его горемычному Бахе. Тот обещал за меня помолиться и любыми путями всучить эту двадцатку. Я отказался: у него и так денег нет ни фига, да и вряд ли в исламе про десять процентов хоть где-то написано. Знал ли, вообще, Мухаммад, что такое проценты?
– Нет, ты возьми эти деньги. Они не мои, – Баха, казалось, сейчас заплачет от счастья. А плачущим этого палестинца представить просто нельзя. КамАЗы не плачут. Подошел Манвел.
– Марк, будет рублей двадцать до послезавтра? – Манвел немного проснулся и, видимо, проверил пустые карманы. Доллары он всегда называл рублями.
– Ты поговорил? – спросил его я, имея в виду наших менеджеров.
– Да, все нормально, завтра – уик-энд, послезавтра – ночная.
– Спроси у Бахи, у него есть ненужные двадцать.
У Бахи все в порядке: он тоже с грин-картой. Его американская жена работает брокером на Уолл-стрит и кормит обоих. Или что-то вроде того. Свои чаевые Баха раз в неделю спускает на покер в одном из игорных подвалов Бронкса. Мы с ним вместе будем встречать Новый год на работе: сегодня Брайан вывесил расписание на праздники. Все остальные басбои пойдут смотреть это дурацкое падение яблока на Таймс-сквер или просто в другую таверну что-то жевать в телевизор. Но я бы тоже пошел. Даже с радостью.
– Ко мне жена придет на работу, я вас познакомлю. У тебя есть какая подружка? – спросил Баха.
– Нет, я мастурбирую. Чаще интеллектуально, впрочем.
– Найди себе girl. Американскую. Ты с документами?
– С документами, но неправильными.
– Какими?
– Учебная виза без права работы.
– А чего ждешь?
– Большой любви с синим паспортом. И с маленьким лексиконом. И зубами чуть посерее.
– Да по херу это. Возьми да найди.
– А ты меня любишь, Баха?
– Я люблю тебя, Марк: ты мне бумажник нашел.
– Вот. Твою любовь мне есть чем купить. Остальное идет все на гамбургеры и оплату коммунальных услуг.
– Улыбайся чаще. И не порти людям мозги размышлениями.
– Я записал. Буду заучивать.
Я говорил вам про Манвела и как он заслужил себе право на жительство? Так вот. Тут все покупается. Ну почти все. И грин-карта покупается. Только в рассрочку. Ты скапливаешь тысяч десять–тридцать и покупаешь себе невесту. Или жениха. Женихи стоят раза в четыре дешевле, так как спрос на них ниже. Только совсем «ядерная» или принципиальная девушка не сможет найти себе нью-йоркский вариант бесплатного замужества в Штатах. За мои полгода здесь не знаю таких неудачниц.
Есть целые сайты с резюме кандидаток в «грин-картные» жены. В штате Нью-Йорк вся эта матримониальная история встанет в тридцать тысяч в карман невесты. Плюс-минус. Это на начальном этапе. Если не лень тащиться в Арканзас, то можно сэкономить тысяч пятнадцать. Играется свадьба, и в течение пары лет «новобрачных», один из которых не местный, иногда зовут в эмиграционные органы. Подтверждать, что их брак не фиктивный. Спрашивают, где супруги живут, какие сосиски жарят на барбекю и какие позы предпочитают. Просят показать фотографии. Соцсети. И прочую ересь. Тут не обойтись без фотошопа и прочих приколов. Бывает, что «невеста», получив заветные деньги, не выдерживает двух лет «совместной» жизни и делает ноги от «жениха» раньше времени. Тогда молодой человек садится в лужу, и план его американской ассимиляции катится… Ну понятно, куда катится. А если два года прошли и все хорошо – тадам! Грин-карта получена. Теперь можно разводиться, жить и работать. У Манвела все в этом плане сложилось.
Сегодня в «Плазу» пришли русские. Я сразу их вижу. Это была семья: мужик и женщина лет по сорок пять, и с ними дочь лет двадцати пяти. Красивая. Очень красивая: черные длинные волосы, рост где-то метр семьдесят. Они сели за один из столов, не за барную стойку, и стали изучать меню. Через пару минут они начали оглядываться в поисках официанта, но наши все носились с языком на плече. Был вечер. Людно. Вместо официанта к их столику подошел Зейн, чтобы принять заказ. А через минуту Зейн подошел ко мне, сказав что-то вроде: «Они вообще по-английски не секут, ты же знаешь этот ваш «пшеш-пшеш» язык?».
– «Пшеш-пшеш» – это польский, а я знаю русский, – ответил я Зейну.
– Да по фигу, сходи. Помоги, а? – сказал он.
– Yes, sir! – по-армейски ответил я ему.
Русская семейка удивилась, что к ним подослали русскоговорящего, но порадовалась. Они быстро заказали устриц, вина и что-то еще существенное пожевать. Я традиционно задержался чуть поболтать с соотечественниками. Они это любят и оставляют больше чаевых, если ты успеваешь им кратко поведать про свою жизнь.
– А вы тут как, Марк? – задал мужик обычный вопрос. У него было лицо серьезного человека, с которым он так и не расстался даже после двух или трех бокалов вина.
– Учусь, ну и вот работаю.
– Да, а я себя полной дурой чувствую, что даже про устрицы этому вашему, в бабочке, официанту объяснить не могу, – сказала дочь мужика. Она действительно была дочерью, ее звали Мария, и приехали они из Москвы в Нью-Йорк на отдых и шопинг. Я заметил, что шопинг, видимо, не удался, так как эта Мария была в легкой кожаной куртке и в подобии туфлей. А на улице был дубак.
– Просто думала, что зимой тут теплее. Дважды дурочка, – сказала она и белоснежно улыбнулась. Я поболтал еще пару минут и откланялся.
Зейн, поджидая меня у терминала заказов, спросил, как все прошло.
– Все гуд. Им очень понравилась твоя бабочка, – ответил я. Зейн хотел было улыбнуться, но понял, что это не комплимент, а стеб, и нахмурился.
Когда мои соотечественники рассчитывались, мужик сунул мне пятьдесят долларов в руку.
– Спасибо, Марк, – сказал он.
– Устрицы вам понравились? – вежливо, по-официантски спросил я.
– Устрицы я терпеть не могу. Спасибо за хороший пример, – ответил он.
Скажу честно, я не понял, что он имел в виду, но полтиннику порадовался. Уже потом, под конец дня, я попросил Зейна этот полтинник мне разменять. Десятку я отдал Бахе, который носил блюда моим согражданам, и десятку Манвелу: он эти самые блюда потом уносил. Так у нас устоялось: чаевые от своих – русских, арабов, кавказцев – мы делили между собой.
В выходные мы закрываем ресторан в одиннадцать вечера. Выживаем гостей, моем столы и барные стойки, получаем талон об окончании смены с точным, до минуты отработанным временем. Потом мы грабим нашу витрину. Все тащат роллы и сырно-рыбные булки, каждая баксов по десять. Я роллы не ем, а недобор компенсирую сэндвичем с ветчиной. Тоже десять долларов, кажется. Бесплатно. Красота.
Уже в метро, заменив туфли на беговые кроссовки под все те же черные брюки и белую рубашку, я еду и давлюсь всухомятку наворованным. После метро до дома еще идти минут десять. Я живу в Бруклине, на Кингс-Хайвей, линия метро F.
В квартире прямо напротив моей кто-то умер вчера, еврей или еврейка. На лестничной клетке с самого утра раздавались шарканье подошв и разговоры в несколько голосов. Через приоткрытую дверь была видна гостиная с кучей старых стульев и сдвинутыми буквой П овальными столами. За ними сидели трое мужчин и пожилая женщина в выцветшем халате.
На первом этаже в подъездном предбаннике висело что-то похожее на расписание выступлений скорбящих гостей с названиями тем для беседы на иврите. Время и даты стояли в английском формате.
Сами прибывающие на невеселое торжество мужчины и несколько женщин были при полном параде: черные плащи, шляпы, длинные юбки и прочие «симпатичные» аксессуары ортодоксального иудейства. Или неортодоксального. Убей, не знаю. Короче, хасидов. Кажется, так их зовут. Многие мужики приходили с айподами, женщины с шуршащими пакетами из продуктовых лавок с Кингс-Хайвея. Все некрасивые. Женщины, не пакеты. В черном, в толстых колготках и башмаках.
Я стараюсь пройти мимо этих людей очень быстро. Я не еврей, и, несмотря на все мое любопытство, мне немного неловко.
Снаружи – Оушен-Парквей, проспект, как река, берущий начало где-то в холмах бруклинского даунтауна и впадающий в океан. Буквальный океан. Атлантический. Моя шестиэтажка, выстроенная, как и все дома для людей на пособиях, в форме креста, завернута в леса и веревки. Активная стадия ремонта.
Здесь всегда дует ветер. Километры воды в двух шагах от места моего обитания приносят свежую влажную пыль. Вообще, конечно, ничего они не приносят, но звучит это очень красиво. Нагнал я пафоса, да?
Сегодня тепло, солнце щурит глаза пешеходов, отражаясь в витринах и на ржавых вывесках окрестных трущоб. Все окна супермаркетов и стены жилых домов для иммигрантов-бюджетников заклеены рекламой вакцины от гриппа: красивая кудрявая девушка на ней показывает свои банки и сжатый бицепс на левой руке. Двадцать семь долларов за процедуру.
Вокруг моего дома очень много кабинетов лойеров, зубных и ортопедов с отформатированными под латынь кириллическими именами: Nick Korsunski MD; Tanya Katz MD; Abe Shpakov MD PhD. Это значит, что район тут хороший, раз здесь практикует белая косточка эмиграции – эскулапы и правоведы. Ими непросто стать. Пролетарии обживают места намного грязнее. Впрочем, это они сами их превращают в такие, как Брайтон или Джамейка. В срач. С тараканами и прочей «радостью».
Я живу тоже с врачом, точнее с медсестрою на частичной занятости в какой-то больнице. В смысле она снимает двушку и сдает одну комнату мне и руммейту[5] Юре. Ей лет пятьдесят, у нее большой старый джип и короткие толстые ноги. За пятнадцать лет в США это все ее приобретения.
Ее зовут Мария Михайловна, и хотя в Америке отчеством никто не пользуется, она продолжает на нем настаивать. Она та еще тварь: постоянно что-то мутит с моими счетами за коммуналку, не дает провести Интернет в нашу комнату, много советует по моему внешнему виду: то «Марк, ну-ка оденься теплее», то «а шапка-то тонкая». Выносит.
Но это не самое страшное. Эта Мария говорит. Она говорит постоянно, говорит обо всем, и ее не заткнуть. Способ спастись только один. Надо знать до секунды, когда она встает на работу, идет по нужде, что-то готовит на кухне, – все для того, чтобы не столкнуться с ней в лобовую и молодости не завянуть от скуки.
– Марк, раз ты сегодня на отдыхе, поставь и наряди тогда елку, – сегодня я не успел увернуться от говорящей метелки.
– Да пошла ты в жопу, старая слякоть, у меня раз в год выходной, и срал я на все твои елки!
Это я только так думаю. Никакую елку я, конечно, ставить не стану, но промолчу. Еще рано. Еще квартплата за месяц не кончилась. И да, у меня сегодня выходной.
Сегодня, правда, очень тепло на улице. За декабрь я уже успел привыкнуть каждый день продуваться до кашля по пути на станцию метро и выздоравливать в тот же вечер на работе. И солнце тоже приятно, совершенно, как оказалось, не слепит. В теплый зимний солнечный день этот город в центре пахнет копченными на открытом огне кренделями и хот-догами, возле метро – типографской краской и бомжами, а на моей русской окраине – хлебом и выхлопными трубами. Но, вообще, в Нью-Йорке в декабре очень холодно.
Бруклин под солнцем очень вкусный и симпатичный, правда. Когда у тебя пустота и в холодильнике, и на всех полках для сыпучих продуктов, когда твои окна выходят во двор, куда не проникает свет, и живешь ты с болтливою иммигранткой и соседом-задротом, тоже, кстати, смертельно болтливым, внешний мир становится очень выпуклым и аппетитным. Солнце, три зеленых светофора подряд. Все в радость.
От дома мне нужно пройти метров сто двадцать туда, где кофейня – мое развлечение на выходной. «Бейгл Бой» называется. Тут всегда очень жарко и вокруг всегда люди. Я знаю, что никогда в жизни не заговорю с ними просто так, и никогда их больше не увижу, и, вообще, все они, скорее всего, хорошо прожеваны бытом, выходят на улицу только по делу, заходят в кофешопы действительно только с целью поесть и потом идти дальше. Но это неважно. Мне нравится быть среди незнакомых людей и смотреть на их беготню и общение. Да, завтра я тоже возьму ноги в руки и буду куда-то опаздывать. Но сейчас, в полпервого дня, я буду сидеть и делать как можно меньше движений.
Мне повезло: я пришел в ее смену. Она, та, от которой весь внешний мир на какое-то время сжимается до размера ее лица и, может быть, чего-то еще, у меня есть в каждом магазине, на каждой улице, в любом помещении, на работе.