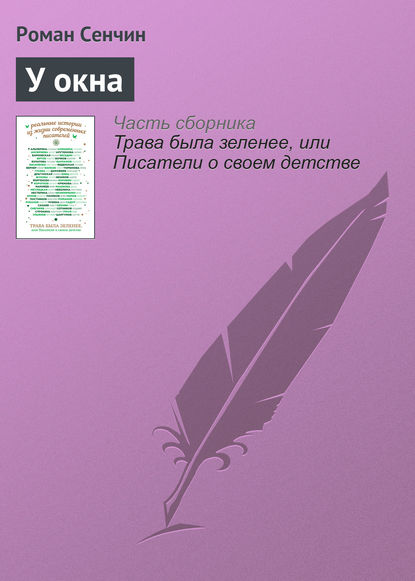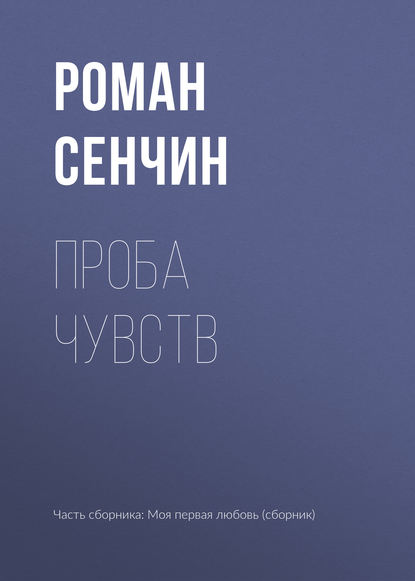Полная версия:
Роман Валерьевич Сенчин Рок умер – а мы живем (сборник)
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Роман Валерьевич Сенчин
Рок умер – а мы живём
© Сенчин Р., 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Лёд под ногами
1
Осенью и зимой по утрам в будни он видел за окном одно и то же – колонна белых огней медленно двигалась внизу и уходила почти под дом. Через двойные рамы слышался ровный, размеренный гул; иногда из него выделялся треск трактора или рёв мощного грузовика, случалось, вскрикивал нетерпеливо-обидчиво клаксон оттёртой на край легковушки, ещё реже гул разрезала сирена «Скорой помощи» или кряканье милицейских «Фордов» и «Лад», депутатской «Ауди».
Но что-нибудь особенное происходило редко, и колонна огней напоминала хорошо отрепетированное то ли ритуальное, то ли воинское шествие, где каждый несёт светящийся фонарь… А вечером можно было наблюдать, как бегут прочь из-под дома мелкие красные точки – казалось, что участники утреннего шествия, добравшись куда-то, целый день с кем-то сражаясь или добиваясь увидеть святыню, в итоге оказались разбиты, размётаны, и теперь остатки воинства пытаются спастись, укрыться, чтоб завтра повторить то же самое – снова сплотиться в крепкую, длинную колонну и, освещая путь белыми фонарями, решительно двигаться вперёд. И на стёкла окна снова будет давить гул, беспрерывный, угрожающий, словно в колонне дружно, сжав челюсти, на одной ноте тянут: «М-м-м…»
Он не то чтобы любил по утрам стоять у окна – нет, он даже не замечал, как, умывшись, почистив зубы, побрившись, заварив чашку кофе и закурив первую за день сигарету, подходил к окну и смотрел. И видел в мутном полумраке жёлтые точки окон соседних домов, синеватый свет фонарей, разноцветные гирлянды на магазинах и, главное, жирную колонну тёмных шевелящихся существ, освещающих себе путь белыми огнями. И во сколько бы ни подошёл к окну – в семь часов, в восемь и в половине девятого, – колонна была всё такой же густой, полнокровной, и он не мог определить, когда она возникает и когда редеет, иссякает; он не мог позволить себе дежурить у окна: днём были дела, необходимые и обязательные, а ночью – драгоценный, восстанавливающий силы сон. Но десяток минут, пока курилась сигарета и в чашке был кофе, он наблюдал. И вид плотной двигающейся массы внизу тоже давал силы, заражал желанием поскорее выйти из квартиры и двинуться вместе со всеми.
Времена, когда к скопищу людей и машин он чувствовал неприязнь, враждебность, когда оно приводило его то в бешенство, то в отчаяние, давно прошли. И теперь, стоя перед окном с чашкой кофе, неторопливо затягиваясь лёгким «Винстоном», он был рад, что колонна эта есть и сегодня, от неё исходила уверенность – уверенность в себе и в городе, в котором живёт он – один из многих и в то же время отдельный, особый, – Денис Чащин… В выходные и праздники порой становилось жутковато от того, что улица пуста, – казалось, за ночь все вымерли или ушли навсегда и он остался единственным…
У него была машина – почти напротив подъезда стояла серебристая «девятка» девяносто седьмого года выпуска. На ходу. Нужно только масло сменить, прогреть хорошенько, и можно ехать.
Конечно, на машине, пусть даже и на такой, престижнее, но удобнее всё-таки на метро. Хоть и давка, зато нет пробок. Да и дешевле. Одно дело, если бы жил где-нибудь в Бутове или в Видном, машина была бы необходима, а так… Ему повезло – квартиру нашёл в районе станции «Варшавская»; путь до работы занимал тридцать-сорок минут. Одна пересадка. И, глядя в вагоне на схему метрополитена, он ёжился от мысли, что мог бы обитать на одном из кончиков этих растопыренных разноцветных щупальцев. Ведь это пытка, каждодневная мука ехать, например, от «Битцевского парка» (одиннадцать перегонов до Кольцевой линии), или от «Планерной» (восемь долгих), или от считающегося элитным, чуть ли не санаторным Крылатского – девять перегонов, и поезд почти все время идёт по поверхности, зимой холодина, ветер, в дождь или в снег с потолка вагона летят чёрные, как сажа, капли… Да, с жильём ему повезло.
Уже шесть лет он снимал у одинокой пожилой женщины квартиру, оставшуюся ей от сестры, и хоть цена постепенно росла, но никогда не доходила до тех пугающих цифр, что звучали в обзорах рынка аренды жилья; женщина брала долларов на пятьдесят-сто меньше. Может быть, потому, что привыкла к нему, или, скорее, не была в курсе рыночных скачков…
В девять часов и примерно тридцать минут Чащин входил на «Варшавскую», вставлял в щель турникета магнитную карту. Раздавалось энергичное потрескивание, затем карта выскакивала из другой щели с отметкой о дате прохода и числе оставшихся поездок.
Спускался на платформу, занимал привычное место в районе, где должен был остановиться второй вагон от головы состава – там, по его наблюдениям, обычно бывало свободнее. Тревожно-бодряще звучал в динамиках голос дежурной по станции: «Во избежание несчастных случаев отойдите от края платформы за ограничительную линию!» Но люди толпились на краю – все спешили, всем очень нужно было скорее сесть в поезд. И Чащин, как только двери разъезжались, вминался в тела за ними. Неохотно, неуступчиво, но молча, без возмущений, пассажиры подавались, и Чащина тоже кто-то негрубо и уверенно толкал, вминал; люди утрамбовывались, прижимали к груди сумки и кейсы, подтягивали полы своей верхней одежды; двери захлопывались, и поезд, натужно шикнув, трогался, быстро разгонялся и уже летел по туннелю. Под днищем вагонов что-то звенькало и скрежетало, за окнами завывало, как вьюга. Головы пассажиров покачивались, а туловища оставались неподвижными, словно окаменевшими, – теснота держала крепче самых надёжных тисков.
Когда-то, стоя вот так, зажатым, он не знал куда смотреть, становилось неловко от такой близости с чужими людьми; случалось, нестерпимо возбуждали оказывающиеся рядом симпатичные девушки, и Чащин с трудом сдерживал желание дотронуться, погладить, погрузить лицо в душистые мягкие волосы. Но незаметно, без самовнушений и внутренней борьбы, он перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг, кто стоит рядом, даже зрение и слух выключались; он словно бы засыпал, и лишь аромат каких-нибудь необыкновенных духов иногда возвращал в реальность, заставлял вертеть головой. И Чащин злился: зачем побеспокоили, раздразнили, разбудили? А вокруг были сонные, отсутствующие лица.
После прошлогоднего взрыва между «Автозаводской» и «Павелецкой», когда погибло сорок человек, люди на некоторое время оживились – следили друг за другом, оглядывали большие сумки, пытались держаться подальше от кавказцев. Но потом вернулись в обычное состояние – выдерживать дополнительное напряжение было очень сложно.
Чащин работал в самом симпатичном ему районе Москвы – на Пятницкой улице. Вроде бы центр – Кремль видно, – но забытый теми, кто старается всё снести и перестроить, залить бетоном. Дома позапрошлого века стоят плотными шеренгами, трогательно обшарпанные, запылённые; сохранились скверики и дешёвые, простенькие кафешки. Впрочем, и пафосных мест тоже хватает.
Людей здесь никогда не бывает непроходимо много, как на Тверской или на Новом Арбате, и часто, оглядевшись кругом, Чащин вспоминал услышанное в детстве или в какой-то забытой, но страшно интересной книге прочитанное таинственное слово: Замоскворечье. И эта таинственность сохранялась для него до сих пор.
А ещё этот очень московский район был дорог ему тем, что походил на Питер – на Питер улицы Рубинштейна, Загородного проспекта, площади Пяти Углов; и там, и здесь не было столичной парадности, чувствовалась близость воды – в Питере Фонтанки, а в Москве Водоотводного канала; и там, и здесь как-то органично перемежались скученность застройки и пятачки крошечных сквериков, где можно свободно вдохнуть… С Питером у него был связан небольшой, но яркий, наверное, важнейший период жизни – конец юности, а с Москвой – продолжительный, длящийся уже девятый год, сначала трудный, хаотичный, но затем всё более размеренный и надёжный – период взрослости. Здесь у Чащина неплохая работа и спокойный отдых после неё, постепенно пополняющийся счёт в «Альфа-Банке»…
Минуту, когда выходил из метро «Новокузнецкая», оправляя после давки пальто, проверяя, не сбился ли галстук, Чащин тоже ценил. Останавливался на площади перед станцией, облегчённо выдыхал, оглядывался, определяя, всё ли на месте, всё ли так, как было вчера; мысленно здоровался с этими домами, деревцами, ларьками, куполом Климентовской церкви. А потом толкал себя дальше, вперёд, шагал бодро и делово к той арке, за которой, в вечно сумрачном дворе-колодце, была дверь его офиса.
Снаружи дом выглядел как развалины. Облупленные, будто стучали по ним огромными кувалдами, стены, проржавевшие до дыр козырьки над подъездами, оборванные водосточные трубы. Тонированные стёкла в рамах без перегородок кажутся чёрными дырами – впечатление, что дом внутри выгорел. Но двор забит дорогими автомобилями, а под окнами-дырами кондиционеры. И любой, кто более-менее в курсе цен на офисные помещения в Центральном АО, скажет, глядя на этот дом: «Достойная точка». Скажет с уважением, но без азарта, зная, что, не имея связей, соваться сюда смысла нет: никакие деньги не помогут заиметь хотя бы парочку комнат.
«Твой город», где работал Чащин, занимал весь третий этаж – обосновался здесь в девяносто восьмом, когда с недвижимостью было ещё полегче, пережил наезды, дефолты, несколько смен крышевателей и теперь никому ничего не платил, а сам сдавал часть площади бюро переводов…
Открыв неприметную железную дверь, Чащин вошёл в подъезд и попал в знакомую, но каждое утро удивляющую его обстановку. Свежие, с лёгким запахом цветущего сада, струи воздуха из кондиционера, яркие, но не слепящие шишечки ламп. Светло-серый – успокаивающий и в то же время настраивающий на деловой лад – пластик на стенах… Сделав всего пару шагов, Чащин со слякотной и неуютной улицы перенёсся, казалось, на борт огромного космического корабля, и в этот момент невозможно было поверить, что через восемь часов он снова окажется на улице, будет этому рад и, переступая через лужи и сугробики грязного снега, следя, чтоб не столкнуться с прохожими, не попасть под колёса, поспешит к метро, снова вдавится в тугую стену людей за раздвинувшейся дверью вагона…
– Доброе утро, Денис Валерьевич! – бодрое приветствие охранника.
– Доброе утро, – кивнул Чащин в ответ, взбегая по короткой лестнице к лифту.
Поднялся на третий этаж. Дверь из мутного стекла, за ней стойка ресепшен. Там девушка:
– Доброе утро, Денис Валерьевич!
– Доброе!
Тонкими пальцами с длиннющими накладными ногтями она сняла ключ с крючочка. Чащин черкнул роспись в журнале.
– Время прихода сами поставьте.
Кабинет находился в конце коридора – после ремонта в прошлом году он сам выбрал эту комнату, подальше от ресепшена и холла, от секретарской. Там поспокойнее, меньше топают, шум иногда возникающих переполохов почти не долетает. Кабинет только его, отдельный. Наверное, когда-то это была одна из двух десятков конурок коридорной коммуналки, жил здесь, среди антикварных буфетов и этажерок, какой-нибудь помнивший дореволюционные времена старичок, или старушка в источенной молью шали читала толстые, пыльные книги с ятями и твёрдыми знаками в конце слов. Окно было навсегда завешено светонепроницаемыми шторами, а в углу, на всякий случай, стояла буржуйка…
Теперь ничего не напоминало о коммунальном прошлом. Теперь на окне жалюзи, стены и потолок покрыты пластиком, на полу – гасящий звук шагов ламинат. В кабинете два больших стола пепельного цвета. На одном компьютер, бумаги, телефоны – городской и внутренний, на другом – сканер и принтер. Стоит узкий шкаф для документов, возле двери металлическая вешалка. У стены диванчик, телевизор на тумбочке; рядом с диваном круглый стеклянный столик с чайником. Вращающееся кресло с удобной спинкой для Чащина и два кожаных стула для посетителей… Небогатая обстановка, но при необходимости здесь можно и пожить.
Когда-то рабочий день казался ему бесконечным, мучительным; по утрам он не верил, что сможет дотянуть до вечера и не шизануться. То и дело взглядывал на часы, поражаясь, как медленно тянется время, представлял, сколько всего важного, интересного, значительного мог бы сделать вместо сидения за этим столом. Восемь часов в кабинете (не считая похода в столовую) плюс час с лишним в дороге на работу и с работы. В неделю выходит огромный кусок времени. Кусок жизни. И он тратился неизвестно на что, попросту убивался. И так, казалось, уже навсегда. По крайней мере – до пенсии.
Но постепенно Чащин привык, и время увеличивало скорость; появился набор дел, чтобы, вроде как ничем не занимаясь, потратить незаметно как можно больше минут. Не спеша отпираешь дверь, не спеша раздеваешься, тщательно чистишь обувной губкой туфли, включаешь компьютер, готовишь чашку кофе и пьёшь его, сидя на диване, наслаждаясь каждым глотком. Вот полчаса и прошло. Потом смотришь новости в Интернете, кочуешь по сайтам и блогам. А там и дело к обеду. Спускаешься на первый этаж в столовую. Выбираешь блюда. Обедаешь. Куришь в холле, болтаешь с коллегами или, если болтать не хочется, снова садишься за компьютер. То да сё, и вот уже вечер… В шесть ноль-ноль Чащин закрывал кабинет, сдавал ключ и выходил на улицу.
Дни в основном получались похожие один на другой; бывало, он по неделе не видел начальство, сдавая материалы секретарше. Лишь по средам вспыхивала суета – в этот день номер «Твоего города» отправляли в типографию, и нужно было всё окончательно выверить, в последний момент вечно появлялась какая-нибудь обязательная статейка, объявление, интервью, и приходилось разрушать тщательно скомпонованный блок. Правда, и к этим средовским авралам Чащин постепенно привык.
Он спокойно рисовал галочку в том месте вёрстки, куда нужно было вставить поступившую статью, спокойно отмечал, как поджать остальное, кое-что без сожаления вычёркивал, уменьшал размеры фотографий и нёс бумаги секретарше. В двух словах объяснял, как и что, а она передавала дальше… Секретарша, немолодая, но симпатичная женщина, работала у них давно, и Чащин всё больше её ценил – она избавляла его от общения со всеми этими худредами, техредами, верстальщиками, корректорами; львиную долю заморочек секретарша решала сама, решала как-то легко и для окружающих незаметно.
Сегодня была пятница, его блок почти собран, вчерне скомпонован. Из двадцати пяти полос готовы семнадцать. Но основная информация – проплаченные материалы о кинопремьерах, репертуар кинотеатров, рейтинги кинопроката – пойдёт в понедельник, и придётся отсекать маловажное, вжимать в положенный объём или выбивать ещё пару-тройку полос. Но раньше времени об этом лучше не думать. Не забивать голову.
Чащин устроился в кресле, машинально положил правую руку на мышку, рассеянно смотрел, как на экране монитора по короткой шкале бегают синие квадратики, обозначая загрузку системы; уютно, как приласкавшаяся кошка, урчал системный блок возле левой ноги… Сначала глянет новости, потом почитает, что пишут в «Живом Журнале» – там часто встречаются прикольные вещи…
– Привет, труженик! – вошёл в кабинет его начальник, непосредственный и единственный.
Чащин неискренне заулыбался:
– Доброе утро, Игорь. – Привстал, протянул руку.
– Чего прячешься?
– В смысле?
– Тыщу лет не видел. Как дела-то?
– Да как… – пожал Чащин плечами. – Вот сижу работаю…
– А чего сидишь? Ходить надо, Дэн, смотреть. У нас журнал про что, где, когда, а мы в норы позабивались… – Игорь достал из кармана «Зиппо», зажёг огонёк, полюбовался им. – В курсе, «Эксплоитед» опять приезжает?
– Да, слышал.
– Пойдёшь?
– Ну, смотря по билетам…
– Для нас-то билеты, наверно, найдутся. Чего, давай сгоняем? Оторвёмся, как в старые добрые… Когда мы на «Эксплоитед»-то ходили?
– В феврале девяносто восьмого, – нехотя подсказал Чащин, – на Горбушку.
– Ни фига себе – восемь лет прошло! Так и вся жизнь незаметно… Нет, надо сходить обязательно.
– Не знаю. – На концертах Чащин давно уже не бывал, и не хотелось. – Если билет пятисотку – не потяну.
– Все намёки на повышение зарплаты – директору. Я – творческое начало, никаких финансов.
Это была обычная фраза Игоря, и Чащин тоже ответил на неё, как отвечал обычно:
– Жаль. Тебя бы да на финансы – о лучшем и мечтать невозможно.
– М-да, месяц общего кайфа, а потом мне новое место искать с волчьим билетом… Ну так как с «Эксплоитед»? Погнали, Дэнвер, серьёзно. – И напел: – Фак ю юэсэ-эй!.. А?
– Не знаю пока. Ещё ведь нескоро. – И, вспомнив, что Игорь не просто его начальник, а друг и спаситель, поправился: – Скорей всего… Конечно, надо иногда зажигать.
Он говорил это, а сам боялся, что начнутся воспоминания о давних концертах, давно закрытых клубах, о тусовках, сейшенах, посыплются вопросы: жива ли гитара, не разучился ли Дэн аккорды брать… Нет, не надо разговоров, ворошения прошлого. Посидеть в тишине одному…
2
Они были знакомы с тех времён, когда Игорь ещё носил истёртую джинсу и брился раза два в неделю, а Чащин бродил по Москве с «Джипсоном» на плече, ломился в клубы, упрашивал выпустить на сцену… Игорь был музыкальным обозревателем, работал в журнале «Развлечения столицы», а Чащин считал себя рок-музыкантом. Игоря тогда называли Игги, а Чащина – Дэнвер.
Игорю Чащин был обязан устройством нескольких своих выступлений, публикацией анонсов этих выступлений в «Развлечениях…» и даже одной статейкой о нём, «Денисе (Дэнвере) Чащине – ярком представителе сибирского бард-панк-рока». Игорю он был обязан и тем, что стал таким, как сейчас…
День, когда всё изменилось, запомнился подробно, в деталях. После этого пошли почти сплошь ровные, одноцветно-благополучные, среди которых, конечно, случались редкие вспышки, но их уже невозможно было датировать, выстроить по порядку. А тот день получился страшным, переломным, нереально длинным. Утром Денис был уверен, что гибнет, искал спасения и не находил, а днём понял, что начинает жизнь по новой.
Утром его выгнали со вписки – из отличной двухкомнатной квартиры в свежем доме в Братееве. Он жил там уже около месяца – у него была своя кровать с подушкой, простынёй и одеялом, в ванной на полочке лежала его зубная щётка, а на кухне – походная алюминиевая миска. Он привык к хозяину этой квартиры, шестнадцатилетнему пареньку, фанату сибирского панка, у которого даже погоняло было Сиба, так мечтал съездить в Сибирь. И Дениса он поселил, кажется, затем, чтобы в любое время дня и ночи слушать рассказы о героических концертах «Гражданской Обороны» в общагах НГУ, о Янке Дягилевой, панковской коммуне в красноярском Академгородке, радикалах из Иркутска, о крейзерах с Кузбасса… И Денис рассказывал.
Они зажили почти как родственники, размеренно, упорядоченно, без шумных пьянок и многосуточной тусни. Днём читали, смотрели телевизор, Денис учил Сибу играть на гитаре, а ближе к вечеру ехали в один из клубов. Ночью или утром (как получится) возвращались. Частенько вместе зарабатывали сотню-другую в подземном переходе на Новом Арбате. Денис играл и пел, а Сиба протягивал прохожим обувную коробку, просил подать… Да, было нормально. Но в то утро нагрянули из отпуска родители Сибы.
Вообще-то рано или поздно они должны были появиться, но думать об этом не хотелось, грела мечта, что они возьмут и исчезнут… Конечно, родители ужаснулись, увидев в своей уютной квартире чужого, тем более такого – в рваных джинсах, в майке Sex Pistols, с выбритыми висками и зеленоватыми прядями на макушке. Отец Сибы, мощный, почти квадратный мужчина пролетарского вида, молча взял Дениса за шею и вывел на лестничную площадку. Захлопнул дверь.
Кажется, самые страшные минуты Денис испытал тогда, на площадке. Понимал, что вполне – даже наверняка – может больше не увидеть свой рюкзак, где лежали паспорт, записная книжка с необходимыми адресами, деньги в потайном кармане, а главное – лишиться бесценного «Джипсона»…
Он топтался на коврике у порога и вслушивался в бурю за дверью.
– Мы зачем тебя оставили?! Ты ведь готовиться обещал! Тебе в институт надо! – кричали по очереди мать и отец Сибы. – Ведь армия, армия осенью! Ар-ми-я! Что же ты делаешь?! Ты таким стать хочешь?! Оттуда ведь нет пути! Нет, понимаешь ты?! Они дохнут каждый день, как собаки! Там всё – пропасть! Пропасть, Кирилл!.. Ну-ка руки показывай! Показывай руки сейчас же!
Пауза. Тишина. Сиба, наверно, показывал руки без следов от уколов. И потому родители стали ругаться мягче, а у Дениса появилась надежда. Он даже отошёл от двери, присел на ступеньку. Хотел закурить, но сигареты тоже остались в квартире… Думать о том, где проведёт следующую ночь, не было сил. Два года жизни здесь он в основном только об этом и думал. Устал.
Наконец Сиба вынес вещи. За его спиной, как конвоиры, торчали родители.
– Спасибо, – сказал Денис и стал спускаться на улицу.
– Счастливо. Держись.
Да, сейчас вспоминалось, что именно в тот день он почувствовал полную опустошённость, понял бесцельность своего здесь пребывания. В этом городе. Даже идти было трудно; он добрёл до ближайшей скамейки, упал на неё. Рюкзак бросил на землю, гитару прислонил грифом к ноге. Если бы она съехала и упала, он вряд ли бы смог её поднять. Да и зачем? Бесполезно…
Он приехал сюда в июле девяносто шестого, заряженный злостью. Перед тем как купить билет на поезд, несколько дней смотрел по телевизору бесконечные концерты «Голосуй или проиграешь». Выступали его любимые группы, на песнях которых вырос, лет с тринадцати ловил о них любые сведения, собирал записи, выстригал из «Ровесника» и «Студенческого меридиана» фотографии и вешал на стены. И вроде бы, видя их теперь сутками на экране, он должен был радоваться – можно смотреть и слушать сколько угодно, – но вместо этого рычал от злости.
Ему было всё равно, в чью пользу они выступают, кого и что защищают, – было ясно: именно теперь, в эти дни, рок-музыканты меняют протест на присягу. Клеймят одну форму власти, славя другую… Рок окончательно покидал подполье и становился государственной музыкой.
Назлившись, чувствуя, что больше не может оставаться в квартире, побежал к Димке. Димычу… Они учились в одном классе все десять лет, потом уехали в Питер, поступили в строительное училище на годичные курсы; ходили на концерты, а в декабре восемьдесят девятого попали в армию. Правда, в разные части. После дембеля, вернувшись домой, создали свою группу. Записывали на магнитофон «Маяк» жуткого качества альбомы, несколько раз выступали на частых в то время фестивалях, даже два сольных концерта дали. Но группа распалась – барабанщик женился, бас-гитарист уехал, а они с Димычем виделись всё реже. Работа, девушки, дела, взросление. Да и особых поводов встречаться не возникало… Сейчас же стало необходимо увидеться, поговорить.
Димыч лежал на тахте в своей комнате. Письменный стол, где они когда-то делали вместе уроки, а потом сочиняли песни, был завален засохшей закуской, под столом – пустые литрухи «Асланова».
– Третий день уже так, – сказала его мать с безнадёжной горечью. – Даже на работу не ходит. Уволят опять. А-ай… – Вышла.
Телевизор был включён, показывали всё тот же концерт. Огромная сцена, пёстрое разноцветье, в котором преобладали белый, синий и красный. И как раз самый любимый и настоящий из рок-музыкантов Константин Кинчев пел своим демоническим голосом, при каждой фразе вскидывая вверх жилистые, в татуировках, руки:
День встаёт, смотри, как пятится ночь!Коммунистические звёзды – прочь![1]Это был гимн их – Дениса и Димыча – поколения, и сотни раз, то в полный голос за батлом водки, то шёпотом в казарме после отбоя, они пели его, спасались им. Но раньше слова «коммунистические» в нём не было. Оно появилось сейчас, специально для этого «Голосуй или проиграешь». Вписывалось, подходило под ритм. Но гимн стал чужим…
– Димыч, – затормошил Денис, – вставай. Слышишь?
Димыч стонал, словно от ударов, пытался прикрывать руками лицо. Размякший, растёкшийся, ноги поджаты, желтоватые волосы спутались, к футболке прилипли помидорные семена…
Денис выключил телевизор, присел к столу. Собрал из бутылок остатки водки – с полрюмки накапало – и выпил. Огляделся. Стены, как и в его комнате, сверху донизу в фотографиях, постерах. Выделялся огромный плакат с лицом Кинчева крупным планом. Кинчев смотрит пристально, в упор, честно… Тогда его называли Доктор Кинчев, даже на «мелодиевской» пластинке восемьдесят восьмого года написали – «Доктор Кинчев со товарищи»; потом стали называть Константин, а с недавних пор – в духе времени – Костя. «Выступает Костя Кинчев и группа «Алиса»!»
Этот плакат Димыч купил в декабре восемьдесят девятого в киоске у Московского вокзала; в их карманах уже лежали повестки в военкомат, и хотелось что-то оставить на память из питерской жизни. Отослать домой. Денис выбрал плакат с группой «Зоопарк», а Димыч – вот этот. Каждый стоил четыре рубля. Немало… В общажной комнате они аккуратно разрезали плакаты на прямоугольники и отправили в конвертах родителям. Через два года склеили и повесили на стены своих комнат. Издалека разрезов не было видно.