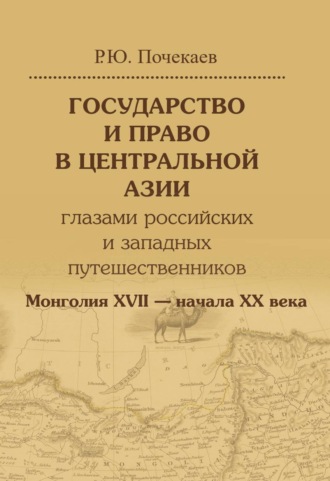
Роман Почекаев
Государство и право в Центральной Азии глазами российских и западных путешественников. Монголия XVII – начала XX века
Глава IV
Путешественники о государственности и праве Северной Монголии (Халхи) под властью империи Цин (XVIII – начало XX в.)
К концу XVII в. практически вся Монголия признала власть империи Цин, и следующие полтора столетия стали периодом ее интеграции в маньчжурское политико-правовое пространство. В течение XVIII – первой половины XIX в. маньчжурские власти формально проводили политику «сбережения сил монгольского народа», фактически же старались уменьшать автономию монгольской знати, урезать число налоговых льгот и привилегий для монголов и всячески изолировать их от внешних контактов[216]. При этом на население Монголии все больше распространялось маньчжурское законодательство, целью чего было постепенное превращение их из вассалов в подданных[217]. Во второй же половине XIX – начале XX в. эта политика из фактической превратилась уже и в официальную. Сведения российских и западных путешественников позволяют проследить основные тенденции и отдельные примеры цинской административной и правовой политики в Монголии. Ниже мы намерены рассмотреть их сведения по отдельным направлениям трансформации властных и правовых отношений в Северной Монголии цинского периода.
§ 1. Система власти и управления
В записках русских дипломатов, проезжавших через Монголию (Халху) в Китай, представляют интерес сообщения о статусе монгольских правителей, что отражается в их контактах с представителями Российской империи.
Следует отметить, что в первые десятилетия XVIII в. российские власти и их дипломатические представители «по инерции» продолжали пытаться вступать в отношения с монгольскими правителям, как они это делали в XVII в., до вхождения Монголии в состав империи Цин[218]. Им даже выделялись средства и подарки для вручения не только китайским, но и монгольским правителям и чиновникам[219]. Однако очень скоро дипломаты убедились, что монгольские правители выполняют исключительно волю цинских властей, не позволяя себе ни малейшего проявления самостоятельности.
Так, русские послы и другие дипломатические представители неоднократно упоминают, что те отказывались пропускать их через свои владения, задерживая до получения указаний от маньчжурских властей[220]. Причиной были либо проблемы, связанные с монгольскими перебежчиками, которых русские пограничные власти отказывались выдавать, либо разного рода торговые споры и пограничные стычки между представителями монгольской и русской сторон[221]. Монгольские феодалы могли самостоятельно участвовать только в решении мелких локальных вопросов. Например, в сентябре 1720 г. из Красноярска был направлен к «мунгальскому владельцу Гунбеку» сын боярский Тимофей Ермолаев, чтобы потребовать возвращения бежавших к тому русско-подданных «ясачных иноземцев». Вскоре выяснилось, что те бежали, напуганные слухом, будто их собираются насильно крестить, и вопрос о возвращении был решен без вмешательства маньчжурских чиновников[222].
Более активно проявляли себя лишь те представители монгольской знати, которые сами находились на маньчжурской службе[223]. Например, П.С. Паллас пишет, что переговоры с российскими пограничными властями по поводу возврата перебежчиков вел монгольский тайджи, который носил маньчжурский ранг «бошко» и, как и трое его подчиненных, обладал цинскими символами отличия, что позволяло ему вести себя более решительно и самостоятельно в переговорах с русскими[224]. Согласно участнику посольства Ю.А. Головкина в Китай в 1805 г.[225], монгольский князь Юндэндоржи, пограничный ван в Урге (с 1786 г.), был свояком цинского императора Цзяцина (1796–1820), поэтому по своему усмотрению распорядился принять русское посольство[226].
В первой трети XVIII в. формальным главой Монголии, как сообщает Савва Лукич Рагузинский в 1720-х годах, считался Тушету-хан[227], которому «все здешния дела его богдыханово величество определил по старому предусмотрению»[228]. Не изменилась ситуация и к сердине века: И.В. Якоби также сообщает, что наместником империи Цин в Монголии по-прежнему являлся Тушету-хан[229]. И когда российские дипломаты, уже имевшие возможность разобраться в том, кто же фактически контролирует ситуацию в Монголии, просили назначать для решения пограничных и иных дипломатических споров маньчжурских чиновников, цинские власти каждый раз заявляли, что эти вопросы находятся в ведении монгольских князей[230] – прекрасно понимая, что те все равно дождутся распоряжений из Пекина.
Уже в 1750–1760-е годы в Урге появляются полномочные представители маньчжурских императоров – амбани, носившие титулы ванов: именно они вели переговоры с российскими дипломатами при их проезде через Монголию, тогда как монгольские имели такое право лишь в случае отсутствия амбаня в столице[231]. Соответственно, учреждение должностей амбаней, т. е. внедрение маньчжур в правящую структуру Монголии, привело к урезанию власти правителя Тушету-ханского аймака.
Однако окончательно статус главного из ханов Северной Монголии (Халхи) оказался потерян им на рубеже XVIII–XIX вв. Согласно Йозефу Реману, участнику российского посольства в Китай 1805 г., «последний хан сего имени навлек на себя немилость покойного Императора разными честолюбивыми намерениями, неблагоприятными манджурским Государям. Он лишен был за то большей части своего имения и подчиненного ему дзасака; теперь живет он небольшим пенсионом и несколькими маловажными улусами, данными ему на содержание в 70 верстах от Урги. Главное его преступление состоит в том, что он после смерти прежнего Кутухты хотел поставить на его место одного из своих сыновей, и употреблял для этого всякого рода пронырства. Мы уже видели, что между прежними Кутухтами двое были из фамилии Тушету-хана; но китайское правительство усмотрело на этот раз его честолюбивые и опасные намерения»[232]. В результате главой монгольских князей Халхи стал вышеупомянутый Юндэндоржи, ван Урги и свояк маньчжурского императора[233]. Последующим Тушету-ханам не удалось вернуть прежний статус, и уже в первой половине XIX в. очередной правитель этого аймака характеризуется просто как «один из четырех владетелей Халхи»[234].
Еще одной важной тенденцией в рассматриваемый период стала активная интеграция представителей монгольской правящей элиты в сановную иерархию империи Цин. Наибольшими правами и привилегиями пользовались те потомки Чингис-хана, которые получали от маньчжурских сюзеренов титулы пяти степеней – цин-ван, цзюнь-ван, бэйлэ, бэйсэ и гун; по статусу ханы аймаков (т. е. самые высшие правители в Северной Монголии анализируемого периода) приравнивались к цин-ванам[235]. Кроме того, монгольские владетельные князья, не имевшие маньчжурских титулов и званий, по своим правам и привилегиям были ниже обладавших таковыми, даже если имели большие уделы[236].
Титулы и звания монгольских владетельных князей передавались, как правило, по принципу первородства (майората), но при этом наследник вступал в права лишь после издания соответствующего указа императора по представлению Палаты внешних сношений[237]. Вместе с тем возраст наследника не служил препятствием для получения титула или вступления в должность: если новый владетельный князь (дзасак) был слишком молод, фактическая власть до его совершеннолетия принадлежала его помощнику – туслагчи[238]. Соответственно, представители маньчжурской администрации в Монголии, амбани, в этот период и вплоть до середины XIX в. в большей степени ограничивались надзорными функциями, тогда как административные принадлежали именно монгольским князьям-дзасакам и их чиновникам[239].
Неудивительно, что многие монгольские чиновники вели себя по отношению к российским путешественникам весьма высокомерно, позиционируя себя в качестве представителей властей империи Цин. Егор Федорович Тимковский вспоминает, как один туслагчи называл его своим «младшим братом» и требовал от него богатых даров[240]. Петр Иванович Кафаров (о. Палладий), путешествовавший по Монголии четверть века спустя, также рассылал богатые дары начальникам почтовых станций, через которые должен был проезжать – сами они являться к нему не соизволяли[241]. Примечательно, что большинство чиновников не получало никакого жалованья – лишь продовольственное содержание; тем не менее «по временам достойнейшим делаются подарки»[242].
Формальным признаком вассальной зависимости монгольских князей от императора Цин являлась обязанность периодически являться к его двору в Пекине и привозить дань. Правда, далеко не всегда они удостаивались чести видеть самого императора – только по его личному волеизъявлению. Чаще всего князья взаимодействовали со специальными чиновниками – представителями «Управления колониями», как его именует, в частности, мадам Катрин де Бурбулон[243]: несомненно, речь идет о Лифаньюань – китайской палате внешних сношений, в ведении которой находились Внешняя Монголия, а затем Тибет и Восточный Туркестан. Однако это не означало, что монгольские князья не пользовались уважением цинских монархов: иностранцы упоминают, что императоры в обмен на символическую дань жаловали им богатые дары, платили жалованье и даже выдавали за них собственных дочерей – несмотря на постепенное урезание привилегий монгольских князей в имперском пространстве, эта традиция сохранялась и в конце XIX в.[244]
Заинтересованность цинских властей в покровительстве монгольским князьям вполне определенно объяснялась потребностью в их многочисленной и отважной коннице, которая неоднократно использовалась маньчжурскими монархами в их военных кампаниях. Поэтому максимальными правами и привилегиями князья Северо-Восточной Монголии обладали к середине XVIII в., после чего их статус по отношению к китайским сюзеренам стал неуклонно снижаться. Во многом это оказалось связано с тем, что в 1758–1759 гг. Цинская империя разгромила и присоединила западно-монгольское Джунгарское ханство, в противостоянии с которым монгольская конница постоянно задействовалась с конца XVII в. В результате маньчжуры больше не вели крупных военных кампаний в степных районах (где конница и оказывалась «царицей полей»).
Со временем потребность Китая в монгольских войсках снижалась, что отразилось и на административном положении элиты Халхи. Так, если Яков Федорович Барабаш еще в начале 1870-х годов отмечал, что монгольские князья, приезжая в Пекин с символической данью, получали от императора дары, существенно превосходившие стоимость этой дани[245], то Александр Александрович Баторский в конце 1880-х годов сообщал о существенном сокращении практики богатого одаривания князей[246]. Весьма любопытно, что сами князья отнюдь не связывали изменение ситуации с политикой Пекина: как сообщает миссионер Я.П. Дуброва, побывавший в Монголии в 1883 г., они считали, что император по-прежнему одаривает их за службу, однако его дары просто-напросто не доходят до рядовых хошунных князей, оседая у амбаней и правителей аймаков[247].
Впрочем, это изменение отношений с имперскими властями не повлияло на статус князей Внешней Монголии (Халхи) в собственных владениях, где они продолжали сохранять практически всю полноту власти, тогда как официальные представители империи Цин (цзянь-цзюнь и амбани) выполняли не более чем общие надзорные функции[248]. В XIX в. сохранялась практика назначения одного амбаня Урги из маньчжурских сановников, другого – из представителей монгольского ханского рода. В связи с этим весьма важным представляется замечание Николая Михайловича Пржевальского, уже в начале 1870-х годов отмечавшего «шаткую власть Срединного государства над номадами» и практически неограниченную власть монгольских правителей (ханов аймаков и князей хошунов) при номинальном контроле цинских наместников за ними[249]. Стараясь соблюдать лишь основные принципы «Лифаньюань цзэ-ли» («Уложения китайской палаты внешних сношений»), т. е. маньчжурского законодательства для монголов, князья действовали как самовластные правители и устанавливали собственные правила и ограничения как для собственных подданных, так и иностранцев в своих владениях, либо всячески ограничивая их, либо вводя «режим наибольшего благоприятствования»[250].
Монгольские правители устанавливали сборы даже с китайских торговцев в собственных хошунах; от их воли зависело, сколько голов скота могли продать их подданные; даже иностранцам требовалось получать разрешение хошунных князей для охоты в их владениях и т. п.[251] Полновластие князей в хошунах нашло отражение, в частности, в том, что их официальные административные названия давались по именам правителя. Г.Н. Потанин совершенно справедливо отмечал, что это было крайне неудобно для путешественников и дипломатов, поскольку со смертью князя хошун менял название: «Так нужно помнить, что нынешний хошун Джалцан-бэйси назывался несколько лет назад хошуном Ташарбын-бэйсы, что хошун Сюк-Сюрён-гуна есть бывший Аюр-туше-гуна и хошун Мани-гуна – бывший Юндын-Торджи-дзасыка»[252]. Впрочем, в начале XX в. в некоторых случаях контроль пребывания иностранцев во владениях монгольских князей носил чисто номинальный характер: ученый Виталий Чеславович Дорогостайский во время поездки в Монголию в 1907 г. упоминает, что его спутники посетили Да-вана – правителя Западной Монголии, «получив от него “пропускную грамоту”, хотя в ней особой надобности не предвиделось»[253].
Что же касается отношений северомонгольских князей с простым населением, то, вероятно, в силу все большей экономической зависимости простолюдинов от своих правителей их положение было совершенно бесправным. Рядовые монголы являлись, по сути, даже не подданными, а крепостными монгольских князей: хошунные князья-дзасаки имели право дарить их другим представителям знати или монастырям – правда, в пределах своего хошуна[254].
Исследователи отмечают противоречивое отношение монгольских чиновников к рядовым монголам, с которыми они сегодня могли панибратски общаться и курить трубку, сидя рядом, а завтра – по самому ничтожному поводу наложить на того же человека штраф в несколько баранов или назначить ему телесное наказание[255]. Со злоупотреблением полномочиями столкнулся Василий Федорович Новицкий: его экспедиция, пользуясь лошадьми почтовых станций, однажды встретила монгольского чиновника, который стал требовать у них документ, предоставляющий членам экспедиции такое право; однако, когда ему задали вопрос, на каком основании сам он требует такой документ, чиновник не нашелся, что ответить, и тут же ускакал[256]. Естественно, монголы, привыкшие повиноваться носителям власти, не реагировали столь решительно на действия представителей власти и безропотно платили налоги, несли повинности и терпели различные наказания.
При этом неформальный контроль империи за своими внешнемонгольскими вассалами был довольно строгим: в Степи имелось большое количество китайских шпионов – начиная от жен некоторых князей (царевен, принадлежавших к династии Цин) и их свиты и заканчивая мелкими чиновниками и торговцами[257].
Своеобразным способом контроля являлись сеймы (чуулганы)[258], которые должны были созываться в каждом аймаке Халхи не реже раза в три года. При этом уклонившиеся от явки на сейм штрафовались в зависимости от своего положения: с хошунных князей удерживали половину жалованья, с их подчиненных брали штраф в пять лошадей[259]. Подобные съезды, с одной стороны, являлись старинной монгольской традицией, начало которой было положено еще установлениями Чингис-хана[260]. С другой стороны, они проводились в интересах цинских властей и подчиненных им монгольских князей: сейм служил высшим коллегиальным судебным органом соответствующего аймака, решал важнейшие вопросы административного и экономического характера, а также организовывал перепись для корректировки системы налогообложения; возглавлявший его председатель (дарга) считался по статусу выше правителя аймака[261].
В некоторых случаях имперские власти старались учитывать особенности взаимоотношений различных племен и родов кочевников, находившихся в их подданстве, и принимали меры административного характера (безусловно, в собственных интересах), чтобы пресечь возможные конфликты и междоусобицы[262]. Так, дэрбэты издавна враждовали с соседними урянхайцами, считая их ворами и разбойниками, а последние не оставались в долгу. Чтобы взаимные обвинения не перерастали в открытые столкновения, на границе владений дэрбэтов и урянхайцев создавались пикеты под командованием китайских офицеров, и пересекать эту границу можно было только с их разрешения[263]. Однако границы между различными родоплеменными подразделениями самих монголов во второй половине XIX в. охранялись весьма небрежно. Я.П. Дуброва вспоминает, что «между землями дархатцев и билтысцев», где прежде располагалась резиденция пограничного начальника (зангина), были лишь символически установлены разделительные «колышки», которые только раз в год проверялись на предмет наличия[264].
Определенные административные ограничения действовали и в отношении китайского населения: цинские власти старались не допустить оттока китайских земледельцев в Монголию, для чего установили жесткие принципы ответственности в отношении нарушителей. Так, если монгольский князь принимал к себе на жительство 10–20 китайцев-земледельцев, он лишался годового жалования, а если их количество достигало 50, то такого нарушителя могли вообще лишить и должности, и всех чинов. Однако, как отмечали российские очевидцы, зачастую у имперской администрации не хватало возможностей отслеживать перемещения своих китайских подданных и, соответственно, обеспечить привлечение к ответственности принимавших их монгольских князей[265]. Тем не менее, чтобы явно не нарушать запрета, большинство китайцев, обосновывавшихся в Монголии, занимались, прежде всего, торговлей и в меньшей степени ремеслом. Полковник Дмитрий Васильевич Путята, посетивший Монголию в 1891 г., метко заметил, что китайцы теперь «завоевывают» Монголию не войсками и возведением крепостей, а «винокуренными заводами и торжками»[266].
Однако в конце XIX – начале XX в., по мере активизации политики все более полной интеграции монголов Халхи в цинское политико-правовое пространство контроль маньчжур над князьями усиливался[267], и китайские администраторы в Урге и других центрах приобрели гораздо больше полномочий в отношении не только рядовых монголов, но и правящей элиты – владетельных князей. Отражением этого процесса стал тот факт, что если раньше, назначая по два амбаня в каждый округ – одного из монгольских князей, другого из маньчжурских или китайских чиновников, – цинские власти номинально признавали первенствующим монгола, то в конце XIX – начале XX в. на первое место выдвигался именно представитель империи-сюзерена, тогда как его монгольский коллега имел лишь «фиктивную власть»[268]. Иностранцам следовало нанести первый визит маньчжуру, и только после этого у них появлялось право повидаться также с его монгольским коллегой[269]
Лишь в хошунах, пограничных с Российской империей, контроль за князьями со стороны маньчжур на рубеже веков стал слабее, зато они находились под влиянием российских пограничных властей. Все эти тенденции позволили В.Ф. Новицкому вполне уверенно утверждать, что «звание рядового монгольского дзасака идет неуклонно и неудержимо к упадку, и что в условиях степного быта Монголии не имеется никаких существенных данных для его укрепления и возрождения». Фактически, продолжает путешественник, они выживают исключительно благодаря покровительству цинских властей, для которых традиционная система управления монголами оставалась весьма привычной и удобной[270].
§ 2. Правовой статус монгольской буддийской церкви и духовенства
Анализируя записки путешественников XVII в., мы убедились в значительной роли буддийского духовенства в государственной жизни монгольских государств. Вместе с тем дипломаты в своих характеристиках и ограничились лишь этой стороной правового статуса служителей монгольской церкви – причем исключительно ее высших иерархов. В XVIII в. и особенно в XIX – начале XX в. путешественники гораздо более подробно охарактеризовали и место буддийской церкви в системе монгольской государственности, и статус ее служителей – причем не только высокопоставленных, но и рядовых.
Это неудивительно: ведь духовенство в Монголии было весьма многочисленным, составляя не менее трети населения, поскольку каждая семья отдавала в монахи одного или более детей, что в полной мере касалось и правителей. Например, по воспоминаниям Петра Кузьмича Козлова, у одного дзасака (хошунного князя) два старших сына были больны и поэтому пошли в ламы и только младший, здоровый и красивый, был утвержден в качестве наследника отца пекинскими властями. Этот же путешественник упоминает торгоутского князя-бэйлэ, который получил власть «случайно»: сын и наследник его старшего брата страдал душевной болезнью и поэтому стал ламой. Примечательно, что старший сын самого бэйлэ также являлся ламой и временно управляющим монастырем, а в наследники готовили его младшего брата – мальчика 11 лет[271]. Принимая такое решение, князья не только соблюдали давнюю традицию (отдать одного из сыновей в монахи), но и обеспечивали себе контроль также и над духовной жизнью своих подданных. Поэтому в монахи шли не только болезненные или неполноценные представители правящего рода: Н.М. Пржевальский, в частности, упоминает трех сыновей алашаньского князя, второй из которых должен был стать гэгэном[272]. Б.Я. Владимирцов, описывая семейство дэрбэтского Далай-хана, отмечает, что тот имел шесть сыновей, из которых каждый третий (т. е. третий и шестой соответственно) были отданы в ламы в соответствии с вышеупомянутой традицией[273].
Сразу следует отметить, что для путешественников не осталось скрытым намерение маньчжурских властей существенно потеснить позиции столь влиятельных прежде государственных деятелей, в результате уже в начале XIX в. гораздо меньшим влиянием по сравнению с XVII в. стали пользоваться даже верховные иерархи монгольской буддийской церкви – Богдо-гэгэны. Согласно Й. Реману, «Кутухта сам не имеет большей власти в управлении гражданскими и духовными делами: он начальник только по наружности. – Духовная и политическая власть находится в руках некоторых главных жрецов, его окружающих и составляющих сию ламайскую иерархию. Они содержат в своей зависимости избранного ими мальчика»[274].
Во второй половине XIX в. вмешательство маньчжурских властей во внутреннюю политику Монголии затронуло и религиозную сферу: пекинская администрация стала всячески ограничивать участие буддийского духовенства в политической жизни северных монголов[275]. Весьма ярким отражением этой тенденции является описанное российским консулом в Урге Я.П. Шишмаревым монгольское посольство в Лхасу за Богдо-гэгэном VIII в 1873 г.: по регламенту его должен был возглавлять князь в ранге вана, однако «все князья высших степеней, которым предлагалась эта, некогда весьма почетная и желанная миссия, отклонили ее от себя, и уже богдыхан [т. е. цинский император. – Р. П.] должен был решить, кому из них ехать вдогонку за посольством позднее»[276].
Не приходится удивляться, что в этой обстановке монгольские правители, включая и Богдо-гэгэна, довольно напряженно общались с Далай-ламой XIII, попытавшимся найти в Монголии убежище после того, как в 1904 г. его столица Лхаса была оккупирована британским экспедиционным корпусом. Несмотря на почитание его в Монголии, Далай-лама своим пребыванием в этой стране вызвал беспокойство цинских властей, и местные светские и духовные правители не захотели навлекать на себя гнев маньчжурских сюзеренов демонстрацией почитания верховного главы буддийской церкви[277].
При этом, как отмечают Ж. Габе и Э.Р. Гюк, в целом цинские власти весьма активно покровительствовали монгольским буддистам (в отличие от китайских), считая, что чем больше монгольских мужчин уйдет в монахи, тем меньше останется тех, кто сможет восстать против маньчжурских властей[278]. Неудивительно, что видные представители духовенства пользовались большим влиянием в экономической и политической жизни Монголии.
Чтобы не давать самим монголам слишком много власти в духовной сфере, имперские власти старались назначать на высшие должности в буддийской церкви Монголии выходцев из Тибета, к каковым относились практически все настоятели крупных монастырей и даже сам глава монгольского буддизма – Богдо-гэгэн[279]. Соответственно, в своих владениях и сам Богдо-гэгэн, и настоятели монастырей обладали всей полнотой законодательной, административной и судебной власти при содействии своих управляющих-казначеев и советников. Если же настоятели по каким-либо причинам начинали конфликтовать с подчиненными (причем порой доходило до разбирательства в китайских судах), то монастырь без согласованного управления мог прийти в упадок[280]. Отсюда необходимость в постоянном поиске перерожденцев, если тот или иной высокопоставленный лама-хубилган умирал. Путешественники и в XVIII, и в XIX, и в начале XX в. постоянно упоминают этот институт, который, вероятно, представлялся им столь уникальным и самобытным[281].
Монгольское буддийское духовенство не платило никаких налогов. Формально оно находилось в ведении Палаты внешних сношений, причем каждый лама считался «приписанным» к той или иной кумирне, однако по согласованию шанцзотбы (управляющего Богдо-гэгэна) с хошунными начальниками они могли переселяться в улусы. При этом те, кто проживал непосредственно при монастырях, существовали за счет казны Богдо-гэгэна, а кто проживал в улусах – за счет собственных родственников, для которых их содержание становилось, по сути, еще одной повинностью[282]. Причиной подобной практики было то, что ламы, как правило, отказывались от своей доли в семейном имуществе, и за это братья и другие родственники нередко помогали им материально и при нахождении лам в монастыре, и при проживании их в хошуне[283]. Выдающийся российский китаевед В.П. Васильев, пробывший в Пекине с 1840 по 1850 гг., отмечал, что ламы даже в столице империи Цин жили за счет монголов, несших там службу[284]. Лишенные же материальной поддержки родственников ламы превращались в паломников, ходивших по монастырям и княжеским ставкам. И.Я. Коростовец характеризовал их весьма негативно: «Это типичные паразиты, эксплуатирующие человеколюбие и надобность своих соотечественников. Среди них немало воров и конокрадов»[285].
Не являясь налогоплательщиками, буддийские священнослужители, злоупотребляя своим влиянием на монголов, постоянно увеличивали благосостояние за счет «добровольных» пожертвований. Наиболее откровенным вымогательством было вытягивание средств у паломников, приходивших на поклонение Богдо-гэгэну – главе буддийской церкви Монголии: его приближенные требовали с паломников подношений, которые клали себе в карман, и пропускали к иерарху лишь тогда, когда с паломников было «уже больше нечего взять»[286]. Также ламы осуществляли поборы с населения, взимая плату за совершение определенных ритуалов[287]. К числу таковых, в частности, относилось составление гороскопов женихов и невест: лама-астролог получал вознаграждение за то, что «спас» потенциального супруга от опасности соединить судьбу с женщиной, совершенно не совместимой с ним по знаку зодиака[288]. Еще более разорительными для монголов были похороны: сразу после смерти монгола у юрты его семьи собиралось множество лам, которые читали молитвы семь дней, а затем еще по одному дню в неделю в течение 49 дней – естественно, при этом кормясь за счет семейства покойного. На похоронах знатных или богатых монголов собиралось порой даже более 200 лам[289]. У определенных родоплеменных подразделений существовали и более регулярные обязательства перед буддийским духовенством: например, дархаты регулярно привозили в Шабинское ведомство[290] дань продуктами питания[291].
Отсутствие четких представлений об иерархии буддийской церкви и особенностях правового положения различных представителей духовенства и зависимых лиц порой приводило российских путешественников к ошибочным выводам. Так, Й. Реман всех лиц, подвластных Богдо-гэгэну охарактеризовал как шаби, сочтя этот термин синонимом «священнослужителя» и заявив, что они «могут вступать в брак и имеют семейства; они не редко пользуются собственным хозяйством и скотоводством»[292]. Между тем шаби (шабинары) – это были крепостные, принадлежащие буддийской церкви, а также ее отдельным монастырям и храмам, причем священнослужителями они не являлись и, соответственно, могли заводить семьи и иметь собственность[293].
Имея разные льготы и иммунитеты, ламы представали весьма привлекательными кандидатами на должности гонцов: вероятно, в силу того, что они пользовались правом сбора милостыни и пожертвований, лицам, отправлявшим их с посланиями, не нужно было тратиться на их содержание в пути. Так, Л. Ланг в первой четверти XVIII в. упоминает о том, что Тушету-хан отправлял в Пекин ламу в качестве гонца; согласно сообщению Александра Мичи, подобным же образом поступали в середине XIX в. и русские пограничные власти, отправляя монгольских лам с посланиями в Монголию и Китай[294].
Будучи монахами, буддийские священнослужители-ламы должны были отказываться от брака и от употребления мясной пищи, однако, как отмечают иностранные очевидцы, в этом отношении неоднократно делались исключения. Например, в знак уважения ламе могли предоставить «временную жену» в том месте, куда он приезжал[295]. Не вступая в официальный брак, ламы открыто держали любовниц, в результате чего многие отцы предпочитали выдавать своих дочерей замуж официально – даже в качестве вторых и более младших жен, лишь бы они не становились жертвами распутства лам[296]. Ц. Жамцарано в начале XX в. упоминает, что базар в Урге был «местом кутежа», где «преобладают ламы и девицы: парами и компанией»[297]. Зная о действии закона целибата в среде буддийского духовенства, Чарльз Уильям Кемпбелл был «трижды шокирован», узнав, что Богдо-гэгэн VIII (1870–1924, хан с 1911 г.) был официально женат и открыто участвовал вместе с женой и ребенком в священных церемониях[298]. Довольно снисходительно власти реагировали на нарушение обета безбрачия и менее высокопоставленными представителями духовенства – ламами, которые проживали не в монастырях, а «в миру». Такие священнослужители жили с женщинами «добрыми семьянинами» и даже заводили детей, которые, впрочем, наследовали статус матери, поскольку считались незаконнорожденными[299]. Лишь младшие священнослужители опасались нарушать данный обет: П.К. Козлов не без юмора описывает встречу с молодой парочкой, которая, увидев экспедицию, предпочла спрятаться: молодой человек был ламой и отношения с женщинами для него были запрещены[300]. То же касалось и запрета на мясо: учитывая особенности климата и хозяйства в Монголии, ламы преспокойно нарушали запрет на его употребление[301].







