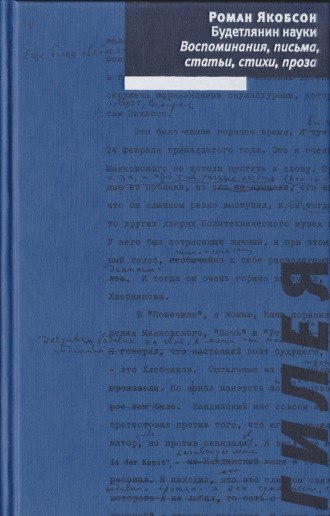
Роман Якобсон
Будетлянин науки. Воспоминания, письма, статьи, стихи, проза
Jakobson was not so much a philosopher or a linguist
as he was an aesthete, who had grown up among
artists, painters, and poets. Correspondingly, his earliest
and most important sources of information are to
be looked for in the realm of art and not in philosophy.
Elmar Holenstein, 1987
© The Roman Jakobson and Krystyna Pomorska Trust, 2012
© Б. Янгфельдт, составление, подготовка текста, вступительные статьи, комментарии, 2012
© А. Бондаренко, художественное оформление и макет, 2012
Об истории этой книги
В начале 70-х годов Василий Абгарович Катанян подарил мне машинопись своей книги «Не только воспоминания», которая могла выйти только после падения советской власти. Название – парафраз названия статьи Маяковского, написанной для номера журнала «ЛЕФ», посвящённого десятилетию Октябрьской революции. Вторая часть книги Катаняна начинается словами: «Он рассказывает о том, что было, без всякого усилия воспоминания. „О, погреб памяти! Давно я не был в нём…“ – пишет Хлебников. Никаких погребов! Всё тут же, под рукой. Не составляет никакого труда снять с полки памяти любой эпизод, о котором зашла речь». Он – это Роман Якобсон. Катанян продолжает: «Когда я впервые слышал P. O. Якобсона, меня поразила лёгкость обращения со своей памятью как с суммой точных знаний, которые без всяких расходов на художественность, образность сравнений и прочая излагались слушателям».
В эти же годы я стал собирать материалы о Маяковском. Ещё были живы многие друзья и знакомые поэта, и так как я собирался писать о нём диссертацию, то, естественно, старался встретиться с ними. Тут были Лили Юрьевна Брик и Василий Абгарович Катанян – но и Лев Гринкруг, Луэлла Краснощёкова, Татьяна Гомолицкая (приёмная дочь Сергея Третьякова), Галина Катанян, Вероника Полонская, Рита Райт и другие; в Америке я встречался с Татьяной Яковлевой. Со всеми сложились у меня хорошие отношения, с некоторыми даже близкие. Эти знакомства позволили мне составить себе представление о взглядах и настроениях в кругу Маяковского – не «объективную» картину, разумеется, а именно представление о том, какими мыслями и идеалами жил этот круг.
В июле 1973 года я прилетел в Москву на открытие юбилейной выставки Маяковского «20 лет работы». Выставка получилась хорошая, несмотря на сильное сопротивление со стороны антибриковского фланга в ЦК КПСС и Министерстве культуры РСФСР[1]. К выставке была выпущена книжка «Маяковский делает выставку», которую Л. Ю. Брик хотела переправить Якобсону в Америку. По почте это сделать было нельзя – она вряд ли дошла бы. Поэтому Л. Ю. попросила меня отправить книжку из Стокгольма, что я и сделал. Как мне кажется, не лишено интереса следующее описание обстановки тех лет из моего письма Якобсону, приложенного тогда к посылке:
«Работал над выставкой и книгой Константин Симонов[2]. Он делал всё, что мог, но ему мешали в работе; за день до открытия выставки какие-то бандиты хотели отстранить все экспонаты, связанные с Лили Юрьевной, – книгу „Про это“, афишу „Закованная фильмой“ и т. д. Но мало того, ему, говорят, пришлось своими деньгами платить рабочим, чтобы выставка была готова вовремя! Он сам работал как собака, хотя был болен, и за два часа до открытия он сам поехал за стёклами, чтобы прикрыть стенды!!![3]»
На фоне тогдашней ситуации в официальном «маяковсковедении», где главной задачей было устранение Бриков из биографии Маяковского, мне показалось жизненно важным сохранить для потомства воспоминания Якобсона. Тем более, что я знал, какая у него феноменальная память. Завёл я разговор с ним на эту тему в сентябре 1975 года, когда он был в Стокгольме. Относился он, надо сказать, к этой мысли без особого энтузиазма. Причина была простая. Ему было уже под восемьдесят, и он предпочитал уделить оставшееся у него время, как он выразился, «будущему, а не прошлому». Именно в это время он был занят работой над лингвистической книгой, которая вышла несколько лет спустя[4]. Но отношение изменилось после того, как через несколько месяцев, поздней осенью 1975 года, он познакомился со стокгольмским сборником, посвящённым Маяковскому и отредактированным мной и Н. О. Нильссоном[5]. Среди прочих материалов в сборнике была напечатана статья В. А. Катаняна об игре в буриме в 1919 году, в которой участвовал, помимо Маяковского, Хлебникова и других, и Якобсон. «Ваш том о Маяковском замечательно интересен и побудил меня снова взяться за свои воспоминания и размышления о Маяковском», – писал он мне в январе 1976 года и предложил написать для запланированного второго сборника комментарий к этой статье[6]. Этот сборник, однако, не вышел.
Отношение Якобсона к идее записи его воспоминаний о футуризме ещё более изменилось после того, как он прочёл мою диссертацию о Маяковском и футуризме в 1917–1921 годах, в которой подчёркивается значение лозунга «Революции Духа» для Маяковского[7]. Книга вышла в апреле 1976 года, и я сразу послал её Якобсону. В ответ он написал мне восторженное письмо – которое я так и не получил: только что приватизированная американская почта в те годы работала очень плохо. Но о своей высокой оценке моей книги и о пропавшем письме и он, и Кристина Поморска рассказали мне в Стокгольме в сентябре 1976 года. В этот раз, когда я поднял вопрос об интервью с ним, он отнёсся к этой мысли весьма положительно, хотя просил «очень помнить, что я буду страшно занят фонологической книгой, которую обязался кончить за этот учебный год. Придётся на беседы урывать время»[8]. А перед моим приездом в Кембридж в феврале 1977 года он писал: «Радуюсь предстоящим встречам и беседам»[9].
Беседы были записаны в Кембридже зимой и дополнены летом 1977 года на острове Готланд, где Якобсоны отдыхали. Записи не были рассчитаны на публикацию, речь шла именно о сохранении для потомства уникальных воспоминаний о футуризме и футуристах. Тем не менее, они были отредактированы и изданы в Стокгольме в 1992 году, а потом вышли по-английски и по-немецки. (Об истории издания см. с. 17 наст. изд.)
* * *
В предварительных разговорах Якобсон высказал желание, чтобы беседы были «нецензурными», то есть чтобы мы не избежали трудных вопросов. Посылая ему до своего приезда в Кембридж «Общий план» бесед, я писал: «Исходя из того, что Вы сказали в Стокгольме о желательной „нецензурности“ таких бесед, план включает и разговор о „любовной лодке“. Но вопрос о степени „цензурности“ – деликатный, и решение его останется, конечно, за Вами»[10].
Как Якобсон хотел, беседы получились по возможности «нецензурными». То есть он позволял себе говорить о вещах, о которых раньше не говорил. Это касалось и «любовной лодки», т. е. личной жизни Маяковского, и работы Брика в ЧК.
Узнав о моей работе с Якобсоном, Л. Ю. Брик опасалась, что он раскроет какие-то её «тайны», и передала ему через меня письмо, в котором между прочим писала: «Знаю, что ты пишешь иногда Бенгту и что собираешься взяться за воспоминания о Володе. Если будешь писать о нём – не забудь, что я ещё жива…»[11]
Когда Якобсон был в Стокгольме летом 1977 года, я спросил его, боялась ли Л. Ю. Брик чего-нибудь конкретного или это была просьба более общего характера. На это Якобсон ответил, что Л. Ю. имела в виду вполне конкретный случай, которому он однажды «совершенно случайно» – «Ну совершенно случайно!», – повторил он эмфатически – стал свидетелем и который «сильно изменил бы её биографию», если бы он стал известен. Когда я спросил, каким образом оглашение этого «случая» изменило бы её биографию, Якобсон ответил, улыбаясь косо: «Как изменения изменяют».
О чём бы ни шла речь, «случай» этот должен был иметь место между январём 1917 года, когда Якобсон впервые встретил Л. Ю. Брик после долгого перерыва, и маем 1920 года, когда он покинул Россию. Тот факт, что Якобсон не раскрыл этот секрет, который знали только Л. Ю. Брик и он, делает ему честь.
* * *
Память Якобсона была действительно исключительна. Как радио, на котором крутишь кнопку и вдруг ловишь какую-нибудь дальнюю станцию с предельно чётким голосом. Так было с ним: ловишь станцию, скажем, «Петербург, январь 13-го года», и слышишь: «Да, это должно было быть в пятницу, потому что в субботу я был уже в Москве». Другой пример. Во время моего пребывания в Кембридже Якобсон часто посещал Гарвардскую библиотеку, чтобы проверить цитаты для книги, над которой он работал. Обычно он полагался на свою память, но в этот раз решил проверить её – в конце концов, книга эта, «The Sound Shape of Language», была, по его же определению, его «лингвистическим завещанием». И проверял он не зря. Он рассказал мне, что после одного из посещений Трубецкого в Вене в 1929 году осталось несколько свободных часов до поезда, который должен был везти его обратно в Братиславу. Он зашёл в библиотеку посмотреть одну латинскую рукопись, которую с тех пор цитировал по памяти. «И Вы можете себе представить: неправильно!» – сообщил он мне с искренним удивлением, обнаружив, спустя пятьдесят лет, свою ошибку.
Бенгт Янгфельд, сентябрь 2011 г.
Предисловие к первому изданию
Варьируя слова Э. Холенштейна, служащие эпиграфом к этому сборнику, Вяч. Вс. Иванов, в предисловии к советскому изданию работ Якобсона по поэтике, подчёркивает, что «Якобсон по своему складу был натурой мятежной, романтиком, устремлявшимся к новому». Поэтому, продолжает Иванов, попытки Якобсона создать новую поэтику «связаны с поэтами русского футуризма – Хлебниковым и Маяковским – и с тем течением в русском литературоведении, которое поднималось навстречу этому литературному эксперименту», т. е. с русской «формальной школой» (Иванов, 1987,12). Сходство этих высказываний – не случайное: значение нового искусства для становления лингвиста Якобсона тавтологично, и сам Якобсон неоднократно и решительно подчёркивал глубокую внутреннюю связь между научными поисками молодых лингвистов и литературоведов и творческими исканиями современных поэтов и живописцев – причём важна не только теоретическая близость, но и личное знакомство и сотрудничество Якобсона с Маяковским, Хлебниковым, Пастернаком, Малевичем, Ларионовым и др.
Этим первым ступеням научного пути Якобсона посвящён данный сборник материалов, покрывающий «русский период» учёного и его тесные связи с представителями русского авангардного искусства (живописного и словесного). Важным вкладом в научную биографию Якобсона являются автобиографические заметки учёного «Будетлянин науки», базирующиеся на моих с ним беседах, записанных на магнитофон в 1977 году. Эти «воспоминания» (слово, кстати, которого Якобсон чуждался; ср. меткий комментарий К. Поморской по поводу его отношения к этому жанру: «The element obviously unacceptable to Jakobson was the tense’ of this genre: memoirs belong to the past tense; they push one’s life into the past, thus putting an end to one's biography and, consequently, to one's life» – Pomorska, 1987,4), публикуемые здесь впервые, в чём-то совпадают с тем, что Якобсон рассказывал К. Поморской в Беседах (Иерусалим, 1982). Эти совпадения объясняются не только общностью тематики, но и тем. что наши с Поморской беседы с Якобсоном велись почти одновременно и под ярким впечатлением двух свежих изданий: Ежегодника рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год (Л., 1976), содержащего, между прочим, письма К. С. Малевича к М. В. Матюшину, и сборника К истории русского авангарда (Stockholm, 1976), где печатались впервые главы из автобиографии Малевича. В отличие от Бесед К. Поморской с Якобсоном, сосредоточенных на научном мышлении и развитии учёного, мои разговоры с ним фокусировались на его связях с поэтами и художниками – контакты, которые в Беседах описываются довольно кратко.
Полностью соглашаясь с высказыванием Э. Холенштейна, я решил включить в сборник и стихотворения Якобсона, и не только известные ранние заумные стихи из Заумной гниги (1915), но и детские, шуточные и футуристические стихи, так же, как и переводы. Раннее увлечение школьника Якобсона поэзией и его скороспелый интерес к проблемам стихосложения и структуры поэтического произведения объясняют многое в дальнейшем развитии учёного.
В сборник включены и стихотворения, посвящённые Эльзе Каган (в будущем – Триоле), сыгравшей важнейшую роль в биографии Якобсона и бывшей особенно близкой ему в 1916–1917 годы. Поэтому, помимо писем теоретического характера, обращённых к А. Е. Кручёных и М. В. Матюшину, здесь напечатаны и сохранившиеся письма к Эльзе Триоле 1920-23 годов, проливающие новый свет как на первые годы Якобсона в Праге, так и на жизнь Маяковского и Бриков в Москве. Кроме того, они дают богатый материал для понимания душевной драмы, лёгшей в основу книги В. Б. Шкловского Zoo, или Письма не о любви (1923).
На самом деле, близкой дружбе с Эльзой и с её старшей сестрой Лили и окружавшими её мужчинами – О. М. Бриком и В. В. Маяковским – посвящены самые яркие страницы его воспоминаний и писем. В этом отношении сборник дополняет серию публикаций, посвящённых Маяковскому и его ближайшим друзьям, волею таланта и судьбы занявшим в истории и мифологии литературы двадцатого века совсем особое место: В. В. Маяковский и Л. Ю. Брик. Переписка. 1915–1930 (Stockholm, 1982)[12] и «Дорогой дядя Володя…» Переписка Маяковского и Эльзы Триоле. 1915–1917 (Stockholm, 1990).
Среди поэтов в «воспоминаниях» Якобсона главное место отводится Маяковскому, Хлебникову и Пастернаку. Не случайно, что именно этим трём поэтам Якобсон посвятил отдельные исследования, начиная с его первого крупного научного труда вообще: Новейшая русская поэзия. Набросок первый (Прага, 1921) и книги о Хлебникове, о которой тогда же молодой лингвист Г. О. Винокур написал, что в ней «впервые […] даётся в полной мере теоретическое обоснование всех тех попыток к установлению науки о поэзии, которыми отмечена жизнь московской и петроградской филологической молодёжи за последние 5–6 лет» (Винокур, 1921). Маяковскому посвящены два исследования совсем разного характера – О чешском стихе, преимущественно в сопоставлении с русским (Прага, 1923) и статья «О поколении, растратившем своих поэтов» в сб. Смерть Владимира Маяковского (Берлин, 1931) – Наконец, в 1935 году Якобсон в статье «Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak» сделал ставший впоследствии классическим анализ метафорических и метонимических полюсов в творчестве Маяковского и Пастернака. Работу эту очень ценил сам Пастернак, сообщивший Якобсону (в длинном, к сожалению, утраченном письме) о том, «какое громадное впечатление произвела эта статья», в которой «впервые он увидел, что его понимают».
Вяч. Вс. Иванов метко характеризует Якобсона как «романтика, устремлявшегося к новому». Не случайно сам Якобсон говорит об «едином фронте науки, искусства, литературы, жизни, богатом новыми, ещё неизведанными ценностями будущего» (с. 22) и всегда подчёркивает свою близость к футуризму и значение футуризма для своего научного развития – см., например, письмо В. Б. Шкловскому от 14 ноября 1928 года: «Ведь сила нашей науки была именно в этой футуристической глыбе слова МЫ» (Шкловский, 1990, 519) – На самом деле, «авангардность», молодость его мышления пронизывает все собранные в этом сборнике материалы, особенно автобиографические заметки «Будетлянин науки», рисующие яркую картину научного и жизненного пути Якобсона и его связей с миром литературы и искусства.
После смерти Якобсона Кристина Поморска попросила меня принять участие в будущей работе над изучением его архива, однако конкретная идея издания сборника «Якобсон-будетлянин» принадлежит Stephen Rudy, который в 1988 году от имени The Jakobson Foundation поручил мне отредактировать и издать мои беседы с Якобсоном и дополнить их другими материалами, относящимися к этому периоду. Я глубоко признателен The Jakobson Foundation за предоставление материалов из архива Якобсона и за материальную поддержку, давшую мне возможность сосредоточенно работать над сборником. В ходе этой работы мне пришлось неоднократно обсуждать разные детали биографии Якобсона со Stephen Rudy, щедро поделившимся со мной знаниями и архивными материалами; ему, в первую очередь, я хочу выразить свою благодарность за помощь и поощрение в создании этого сборника.
За советы и помощь в составлении комментариев хочу также поблагодарить В. М. Вольперта, Вяч. Вс. Иванова, В. В. Катаняна и И. Ю. Генс, М. Ю. и Ю. М. Лотманов, М. А. Немирову, Т. Л. Никольскую, А. Е. Парниса, Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака, Р. Д. Тименчика, Л. С. Флейшмана, Н. Ф. Фридлянд-Крамову, М. И. Шапира, Е. С. Янгфельдт-Якубович, Ben Hellman, Rein Kruus, Elena и Bengt Samuelson, Miloslava Slavickovd, ErikFait, Jan Benedict и проф. Peter Alberg Jensen, который любезно согласился включить сборник в серию Stockholm Studies in Russian Literature.
Бенгт Янгфельд
I. Будетлянин науки
I
Учебные годы двенадцатый-тринадцатый и тринадцатый-четырнадцатый (о тех временах я привык мыслить именно в рамках учебных годов) были годами литературного и научного созревания.
В те годы казалось совершенно несомненным, что мы переживаем и в изобразительном искусстве, и в поэзии, и в науке – вернее, в науках – эпоху катаклизмов. Тогда я заслушивался лекциями молодого физика, вернувшегося из Германии и рассказывавшего про первую работу Эйнштейна по теории относительности – это было ещё до общей теории относительности – а с другой стороны чередовались впечатления от французских художников и восходящей русской живописи, полубеспредметной, а затем уже совсем беспредметной.
После французского пролога, который для меня носит в первую голову имя Малларме – хотя я тогда же освоился и с Рембо, и с некоторыми другими, более поздними поэтами, пришли, наконец, откровения новейшей русской поэзии, начиная с «Пощёчины общественному вкусу», – это были незабываемые переживания. И ясно рисовался единый фронт науки, искусства, литературы, жизни, богатый новыми, ещё неизведанными ценностями будущего. Казалось, творится новозаконная наука, наука как таковая, открывающая бездонные перспективы и вводящая в обиход новые понятия – понятия, о которых тогда говорилось, что они не укладываются в привычные рамки здравого смысла. Так нас учили и Умов, и Хвольсон, атомные физики, которых я слушал и читал1. То же оказалось во всех других областях. Открывалась неведомая, головокружительная тематика времени и пространства. Для нас не было границы между Хлебниковым-поэтом и Хлебниковым-математическим мистиком. К слову сказать, когда я пришёл к Хлебникову – обновителю поэтического слова, он мне тут же начал рассказывать о своих математических разысканиях и раздумьях.
Эти же годы, незадолго до первой мировой войны, принесли увлечение всякими лекционными и дискуссионными вечерами. Ряд таких дискуссий был связан с т. н. кризисом театра, с проблемами театрального новаторства: горячо обсуждались опыты Крэга и Вахтангова, Таирова, Евреинова, Мейерхольда. Каждая постановка, и московская, и петербургская, вызывала волнение и споры. Были, конечно, также лекции и дискуссии на литературные, философские и социолого-публицистические темы.
Вечера футуристов собирали невероятное количество публики – Большой зал Политехнического музея был весь набит! Отношения были таковы: многие приходили ради скандала, но широкая студенческая публика ждала нового искусства, хотела нового слова – причём – и это интересно – прозой мало интересовались. Это было время, когда читатели тяготели почти исключительно к поэзии. Если бы тогда кого угодно из нашей широкой среды спросить, что происходит в русской литературе, – в ответ последовала бы ссылка на символистов, особенно на Блока и Белого, отчасти, быть может, Анненского, или же на тех поэтов, кто пришёл после символистов, но едва ли кто бы тогда вспомнил о Горьком; его творчество казалось завершённым до пятого года. Позднюю прозу Сологуба очень не любили, и единственное, что из его прозы признавали – это тоже была третьегодняшняя литература – «Мелкий бес» и мелкие рассказы. Читали Ремизова, но как-то между прочим, а в общем считалось, что главное – это стихи и что поэзии дано сказать доподлинно новое слово.
Кроме таких больших публичных вечеров было много замкнутых групп, кружков и частных собраний, где новому слову причиталось главное место.
* * *
Маяковского я видел в первый раз в одиннадцатом году. Как ни странно, эти ранние случайные съёмки памяти часто совпадают с памятными датами его биографии.
Лично я в то время был куда более связан с кругами художников, чем с кругами писателей и поэтов. И у меня было два друга. Один из них был моим сотоварищем по Лазаревскому институту – Исаак Кан2, очень рано начавший искания новых форм в живописи. Эпоха абстрактного искусства ещё только мерещилась – но уже решались проблемы освобождённого света и освобождённых объёмов. Обольщали французы. Уже склонялись имена Матисса и Сезанна. Хотя полотна Пикассо уже красовались в Щукинском особняке, мы туда не были вхожи и узнали о Пикассо чуть-чуть позднее. Но были другие. В Третьяковской галерее висело несколько очень больших художников, новых, французских – то есть новых для того времени – художников-постимпрессионистов. И мы переходили от увлечения импрессионистами именно к этому постимпрессионизму, который, собственно, уже нёс в себе отрицание импрессионизма. Мы увлекались Сезанном и Ван Гогом, а также – но меньше, чем Ван Гогом – мы увлекались Гогеном и рядом иных новаторов.
Другой друг был Сергей Байдин3, человек, вошедший в тесные ряды поклонников и учеников Михаила Ларионова. (В последние годы жизни Ларионова, когда я с ним встретился в Париже, он подробно вспоминал – у Ларионова была феноменальная память, – в частности, этого Байдина как одного из первых абстрактных художников, который уже в тринадцатом году – в эпоху выставок «Мишень» и «№ 4»4 – был воистину даровитым беспредметником.)
Вот вместе с ними, с Байдиным и Каном, я пошёл на похороны Серова5. А Серова мы всё ещё по-прежнему любили, при всём нашем неуклонном охлаждении и к «Миру искусства», и к «Союзу русских художников». Мы были на вернисаже «Мира искусства», в январе одиннадцатого года, и там две картины Серова своими новыми исканиями вызывали среди публики и восторг, и недоумение. Одна была «Похищение Европы», а другая – портрет обнажённой Иды Рубинштейн6. Стояли мы перед этими полотнами среди рассуждавших и большей частью осуждавших посетителей. В числе их – дородная барынька, жена грузинского князя Гугунавы, художника, которого я знал, – он был не то в родстве, не то в свойстве с моими близкими друзьями, семьёй Жебровских7. Никогда не забуду громкого ропота княгини: «Бесстыдница! Хоть было бы ей что показывать, а то ведь кошка драная!»
Похороны – как тогда бывало на русских похоронах – с громадными толпами студентов, которые шли до самого кладбища. Мы были в доме Серова. Он лежал в гробу. Очень запомнился его необыкновенно красивый профиль в гробу. Мы двинулись, и когда дошли до кладбища, вдруг послышался свежий, зычный голос. Мы стояли довольно далеко и от гроба, и от семьи художника. Спрашивали, кто это, – говорят: один из лучших учеников Серова. Это был Маяковский; он взволнованно и ярко вспоминал Серова и торжественно обещал, что то, чего не успел сделать Серов, будет осуществлено молодым поколением8. До тех пор я о Маяковском не слыхал.
В следующий раз я видел Маяковского на выставке «Бубнового валета», в начале двенадцатого года9. Помню, что я не опознал серовского ученика – вышел взлохмаченный парень, в потёртой бархатной кофте, и сразу началась у него перебранка с устроителями выставки. Его буквально выталкивали оттуда. Боялись какого-то скандала. Эти устроители выставки меня ошеломили и покоробили: всё-таки, казалось бы, художники-новаторы: чего они струсили? Из этих художников я ближе всего знал Адольфа Мильмана, был он старшим братом моего тех времён большого приятеля Семёна Мильмана. Я спросил его, в чём дело. «А это – дескать – просто хулиганы». Адольф Мильман был пейзажист, я сказал бы, чуть дерэновского толка. Он принадлежал к «Бубновому валету», сам к кубизму относился скептически, но перезнакомил меня со всеми, кто был тогда в «Бубновом валете», – Машков, Кончаловский, Лентулов, Якулов и другие – впрочем, это было знакомство на первых порах поверхностное10.
Через некоторое время я увидал Маяковского вместе с каким-то толстым человеком. Толстый человек с лорнетом оказался Бурлюком. Я их видел на том самом концерте Рахманинова, о котором в своей автобиографии рассказывает Маяковский11. Помню, как стоял он у стены с откровенной, тоскливой скукой на лице; на этот раз я опознал его. Его лицо удивило, и я в него упорно всматривался.
Вскоре после этого «Бубновый валет» устроил диспут, на котором был Маяковский: 25 февраля двенадцатого года. Это было, кажется, его первое публичное, дискуссионное выступление12. На меня диспут произвёл большое впечатление, потому что там впервые я цепко учуял всё то брожение, все те новые вопросы искусства, назревшие и ставшие ребром, близёхонько и неотступно.
А потом, поздним летом, вышла «Игра в аду»; я эту поэму-брошюру раздобыл и вчитался13. Она меня поразила – поразила тем, что я себе тогда совершенно не так представлял новаторский стих – это было в значительной степени почти что пародийной версификацией, пародией на пушкинский стих. Меня это туг же захватило. Я тогда не знал ничего о Хлебникове, не слыхал, что за Кручёных. Ио в нашем небольшом кругу начались в то время разговоры о появлении русского футуризма.
Об итальянских футуристах я уже был достаточно осведомлён, потому что мой преподаватель французского языка в Лазаревском институте был Генрих Эдмундович Тастевен14. У меня с ним были очень дружеские отношения; разучивать французский язык у него мне не приходилось. Я говорил по-французски с раннего детства, и вместо тех домашних работ, которые писали мои школьные товарищи, он мне давал специальные темы, сообразно с моими увлечениями. Собственно, таким путём возник мой, смело скажу, научный интерес к литературе.
Первая тема, которую он мне дал, это было «L’azur» Малларме. Только что вышла и только что попала в Москву книга Тибоде о Малларме15. Она на меня произвела большое впечатление своим разбором стихов, своими попытками войти вовнутрь строя стихотворений. К этому я совершенно не привык. Вообще я должен сказать, что я в начале своей учёбы в Лазаревском институте (который, собственно, был средним училищем при высшем учебном заведении для востоковедов) думал, что займусь не то естествознанием – отец был инженер-химик и настраивал меня в этом направлении – займусь, мол, не то астрономией, не то геологией. Я всё время колебался – но никогда не допускал возможности заниматься чем-либо другим, кроме науки. Ещё в детстве, когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я говорил: «Изобретателем, а если не выйдет, то писателем». Стать писателем мне казалось легко. Я в третьем классе редактировал литографированный журнал «Мысль ученика» и писал там стихи и прозу16, но стать изобретателем – вот что меня куда больше манило. От естественных наук, примерно в четвёртом классе, я перешёл к увлечению литературой, особенно поэзией, и решил: быть мне литературоведом. Но всё то, что я встречал в работах о литературе, мне сразу показалось глубоко недостаточным и совсем не тем, что надо. И особенно мне показалось необходимым для изучения литературы в первую очередь погрузиться в дебри языка.
Так я решил сделаться языковедом; было мне тогда лет четырнадцать-пятнадцать. Заняв у дяди, я купил и читал без отрыва толковый словарь Даля, приобрёл «Записки по русской грамматике» и «Мысль и язык» Потебни и вообще всё больше клонился в сторону лингвистики.
Тастевен был очаровательный человек и очень тепло ко мне относился. Он был секретарём журнала символистов «Золотое руно», культурным деятелем богемно-интеллигентского типа, нисколько не учитель-педант того времени; я помню, как мы однажды шли с ним по коридору – пора была реакционная, с суровым нажимом на гимназистов и студентов, с целым рядом казённых запретов для нас. В то время, как мы разговаривали о символистах, подошёл воспитатель и сказал: «Разве Вы не знаете, что ученикам по этому коридору ходить запрещено?» Тастевен замолчал. Меня это круто оскорбило.
После работы над стихотворением «L’azur» мне захотелось писать о том сонете, который, кажется, Тибоде считал самым трудным: «Une dentelle s’abolit». И я первым делом принёс Тастевену свой перевод в стихах этого сонета, умышленно поступаясь классическим стихосложением подлинника, и написал длинный разбор этого стихотворения17. Это было в самом начале тринадцатого года, уже после моей первой работы о Тредиаковском.
Дело в том, что в десятом году вышел «Символизм» Андрея Белого, с несколькими статьями о стихе – одна статья, где разбирались пушкинские строфы «Не пой, красавица, при мне», и одна по истории русского четырёхстопного ямба. Не на шутку увлекли меня эти опыты. Я в то время заболел, у меня была желтуха, и вот, лёжа в жару, я решил, под влиянием этих опытов, набросать разбор стихов Тредиаковского. Совершенно случайно у меня эта работа сохранилась18. Это был статистический разбор поэм Тредиаковского по образцу исследований Белого и с ответом на тезис, что у русских поэтов восемнадцатого века главные уклонения от ударения – главные, как их Белый окрестил, «полуударения» – то есть главные безударные слоги на сильных долях стиха приходятся на его четвёртый слог, а в девятнадцатом веке главные уклонения приходятся на второй слог. Я показывал в дополнение к Белому, что у Тредиаковского и тот, и другой тип «полуударений» в крайней степени развит, то есть, как мне тогда казалось, началу организации определённого метрического типа предшествовал хаотический период совмещения обоих типов19.
В самом конце двенадцатого года появилась «Пощёчина общественному вкусу», и в один из первых же дней я обзавёлся этим сборником20. Это было одно из моих самых сильных художественных переживаний. Начиналось со стихов Хлебникова, и это то, что меня по-настоящему увлекло. Всё, что там было, я знал наизусть – «Змей поезда», «И и Э», затем «На острове Эзеле» и все эти маленькие стихи – то, что называли «Конём Пржевальского», ещё и пьеса «Девий бог»21 – всё это произвело просто-напросто потрясающее впечатление: его понимание слова, словесное мастерство – всё соответствовало тому, о чём я в то время мечтал. В этот момент я уже знал Пикассо. Его я в первый раз увидел, когда на диспуте «Бубнового валета» Бурлюк показывал на экране снимки его картин22. Все кричали, большинство либо возмущалось, либо потешалось. Ещё более овладели мной эти картины, когда, при участии Мильмана, я попал в галерею





