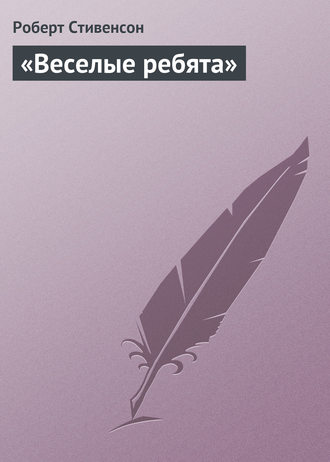
Роберт Льюис Стивенсон
«Веселые ребята»
В этот момент матросы, находившиеся в лодке, стали кричать что-то, указывая на запад, на ту огромную сплоченную группу облаков, быстро разраставшуюся и застилавшую черной пеленой целую половину неба.
Те, что были на берегу, стали, по-видимому, совещаться; однако опасность была слишком очевидна, чтобы мешкать долее, – все трое поспешили сесть в лодку, забрав с собой мои реликвии, после чего лодка под дружным усилием привычных гребцов быстро пошла к выходу из бухты.
Я не стал более раздумывать над тем, что видел, а повернулся и со всех ног бросился бежать по направлению к дому. Кто бы ни были эти люди, во всяком случае, дяде необходимо было тотчас же дать знать об этом. Возможно было, что это был десант якобитов, и быть может, один из трех пассажиров был тот самый принц Чарли, которого, как мне хорошо было известно, так ненавидел мой дядя, – тот, который прогуливался там на выступе скалы. Однако в то время, как я бежал, перепрыгивая с камня на камень, с бугра на бугор, и все время обсуждая в уме все случившееся, а все больше и больше убеждался в неправдоподобности и неудовлетворительности этого моего первого предположения. Компас, карта или план, интерес, вызванный в них моими находками, и вообще все поведение этих незнакомцев, особенно того из них, который только раз с напряженным вниманием смотрел с выступа скалы в воду, – все это наводило меня на мысль об иных причинах их присутствия в этой бухте, на этом затерянном среди моря безвестном острове.
Историк из Мадрида, расследования доктора Робертсона, бородатый незнакомец, уже побывавший здесь, человек с множеством золотых перстней, наконец, мои личные бесплодные поиски сегодня утром в этой самой Сэндэгской бухте, все это одно за другим приходило мне на память и рождало во мне уверенность в том, что эти незнакомцы, должно быть, испанцы, явившиеся сюда для розысков затонувшего здесь судна Великой Непобедимой Армады и находившихся на нем сокровищ. Но люди, живущие на таких отдаленных островах, предоставлены самим себе в отношении своей безопасности; им негде искать себе не только защиты, но даже и помощи, а потому присутствие в таком месте, как Арос, экипажа, состоящего из чужеземцев-авантюристов, вероятно, алчных, безденежных и не признающих никаких прав и законов, невольно вызвало во мне опасение за достояние моего дяди и даже за безопасность его дочери.
Продолжая обдумывать, как бы нам избавиться от этих людей, я, едва переводя дух, добежал до вершины Ароса. Теперь уже все кругом заволокли тучи, и только на самом краю горизонта, в восточной его части, на одном из холмов на материке держался еще последний луч солнца, светившийся в окружающем полумраке, как драгоценный яхонт; дождь начал накрапывать, не частый, но большими тяжелыми каплями; на море волны ходили высокие; с каждой минутой они вздымались все выше и выше, и белая пена сплошной каймой опоясывала уже Арос и ближайший к ней берег Гризаполя. Лодка с незнакомцами все еще продолжала уходить в открытое море, и теперь я увидел то, что раньше было скрыто от моих глаз, – большую, тяжело оснащенную шхуну, лежащую в дрейфе у южной оконечности Ароса. Так как я не видел ее сегодня поутру, когда я так внимательно исследовал горизонт, наблюдая погоду, а в этих водах, где так редко появляется парус, я не заметить его не мог, – то было ясно, что шхуна пришла сюда еще с ночи и всю ночь простояла за необитаемым маленьким островком Эйлиан-Гоур. Уже это одно доказывало, что экипаж этого судна был чужеземный, совершенно незнакомый с этими берегами, потому что эта стоянка, хотя на вид и довольно благоприятная и удобная, на самом деле являлась настоящей западней для судов. С таким несведующим экипажем, у этих опасных и коварных берегов, приближавшаяся буря грозила принести на крылах своих гибель и смерть.
Глава IV
Буря
Я застал дядю на верхушке крыши дома, где он с подзорной трубой в руках наблюдал погоду.
– Дядя, – сказал я, – там, в Сэндэгской бухте, были люди на берегу, я…
Но я не мог продолжать дальше, все разом выскочило у меня из головы, до того поразило меня впечатление, произведенное на дядю моими словами. Он выронил из рук свою трубу и отшатнулся назад с отвисшей челюстью, вытаращенными глазами и побледневшим как полотно лицом. С минуту мы молча глядели друг на друга, наконец он вместо ответа спросил:
– На нем была мохнатая шапка?
Теперь я знаю так же хорошо, как если бы я его видел своими глазами, что человек, который лежал там, в могиле у Сэндэгской бухты, имел на голове мохнатую шапку и добрался до берега живым. И в первый и единственный раз в моей жизни я почувствовал себя беспощадным к этому человеку, обласкавшему и приютившему меня у своего очага, к отцу девушки, которую я надеялся назвать своей женой.
– То были живые люди, – сказал я, – быть может, якобиты, быть может, французы, а может, и пираты или авантюристы, явившиеся сюда искать сокровищ испанского судна. Но кто бы они ни были, они могут быть опасными для вашей дочери и моей кузины. Что же касается ваших преступных деяний и страхов, то знайте, что мертвец спит спокойно в своей могиле, в которую вы зарыли его, и не встанет, пока не прозвучит труба Страшного Суда. Я сегодня был там и стоял над его могилой.
Пока я говорил, старик смотрел на меня, моргая глазами; затем он опустил их и стал ломать пальцы. Ясно было, что говорить он не был в состоянии.
– Пойдемте, – сказал я, – вы должны теперь подумать и о других, вы должны пойти за мной туда, на гору, и взглянуть на судно.
Он молча повиновался, не протестуя ни единым жестом. Он медленно плелся за мной, с трудом поспевая за моими торопливыми шагами; очевидно, он совершенно утратил способность легко и быстро двигаться; он тяжело и с трудом взбирался и спускался с каждого пригорка или валуна вместо того, чтобы перепрыгивать с одного камня или валуна на другой, как он имел привычку это делать. Все мои понукания и окрики оставались бессильными против его апатии и не могли заставить его поторапливаться. Только раз он жалобно отозвался, как человек, страдающий физически: «Ну, ну, человече, иду!..» Еще задолго до того, как мы добрались до вершины, я уже не испытывал ничего, кроме беспредельной жалости, к этому человеку. Если преступление его было чудовищно, то и наказание его было не менее ужасно.
Наконец мы достигли вершины горы и могли окинуть взглядом громадное пространство; все кругом потемнело: черное грозовое небо нависло над землей и над морем, последний луч солнца угас. Поднялся ветер, не особенно сильный пока, но коварный, порывистый и изменчивый; дождь между тем перестал. Несмотря на то, что прошло так немного времени с тех пор, как я в последний раз стоял здесь, море сильно расходилось за это время, громадные косматые волны и валы разбивались уже с шумом о подводные рифы, лежащие вне бухты, и море стонало и громко рокотало в подводных пещерах Ароса. В первый момент я тщетно искал глазами шхуну.
– А, вот она! – сказал я, указывая дяде на шхуну.
Меня поразило, что я увидел судно на этом месте, и еще больше поразил меня тот курс, который оно держало. – Не может быть, чтобы они думали выйти в открытое море, – невольно воскликнул я.
– Именно это они рассчитывают сделать, – сказал дядя, и в голосе его слышалось что-то похожее на скрытую радость.
В этот самый момент шхуна повернула на другой галс, после чего их намерение стало настолько ясно, что не подлежало ни малейшему сомнению. Эти чужеземцы, видя приближение бури, прежде всего решили уйти в открытое море, на широкий морской простор, но при угрожавшем им ветре, в этих усеянных подводными рифами водах и при страшной силе течения и прибоя, их курс вел прямо к смерти и гибели.
– Ах, Боже мой! Ведь они погибнут! – воскликнул я.
– Да, да… Все, все погибнут, – подтвердил дядя. – У них только одно спасение: идти к Кайль Дона, а через эти проклятые ворота им не пройти. Сам черт не проведет их здесь, будь он у них за лоцмана! Да, человече, – добавил он, дотрагиваясь до моего рукава, – славная эта ночь для кораблекрушения!.. Целых два крушения за один год!.. Да, весело попляшут сегодня наши «Веселые Ребята!»
– Если бы не поздно, – воскликнул я возмущенный, – я бы сел в лодку и поехал их предостеречь!
– Нет, нет, человече, – запротестовал дядя, – ты не должен вступаться, не должен вмешиваться в такие дела, нет, нет… На то Его Святая воля!.. – И он набожно снял шапку. – А ночь-то какая чудесная для такого случая!..
Нечто похожее на страх стало закрадываться мне в душу; я напомнил дяде, что я еще не обедал, и предложил ему вернуться домой. Но нет, ничто не могло заставить его оторваться от этого зрелища, которым он положительно упивался.
– Я должен видеть все, все до конца, понимаешь ты, Чарли? – старался он мне втолковать. – А, смотри, ведь они славно там управляются! – вдруг воскликнул он, видя, что шхуна снова повернула на другой галс. – «Christ-Anna» и сравниться с ними не могла…
Вероятно, люди на судне начали понимать грозившую им опасность, не в полном ее объеме, конечно, но все же достаточно для того, чтобы всячески стараться спасти свое обреченное на гибель судно. При каждом новом порыве капризного ветра люди на судне убеждались, с какой невероятной силой их снова относило назад течением. Они спешили убирать паруса, видя, что они мало им помогают, а громадные валы вздымались все выше и выше и пенились над подводными рифами справа и слева. Все снова и снова громадный бурун рассыпался под самым носом шхуны, обнажая на мгновение темный риф и мокрые водоросли, повисшие на нем. Люди работали, не покладая рук; всем было вдоволь работы на судне, видит Бог! И этим-то зрелищем отчаянной борьбы людей за жизнь, зрелищем, леденившим душу каждому одаренному человеческим сердцем существу, – дядя мой наслаждался и смаковал все эти страшные перипетии человеческой драмы с видом знатока. Когда я обернулся, спускаясь с горы, я увидел его лежащим на животе, с вытянутыми вперед руками, с жадно устремленным вперед взором; он казался ожившим и помолодевшим и телом, и духом.
Вернувшись домой в тяжелом угнетенном состоянии, я почувствовал себя еще более опечаленным при виде Мэри. Засучив рукава, она спокойно месила своими сильными руками тесто для хлебов. Взяв с буфета большую овсяную лепешку, я сел и стал молча есть ее.
– Ты, видно, утомился, парень? – спросила Мэри немного погодя.
– Я не столько утомился, Мэри, – ответил я, вставая, – сколько меня томит проволочка, а быть может, и само пребывание на Аросе. Ты знаешь меня достаточно хорошо, чтобы безошибочно судить обо мне: ты знаешь, чего я хочу. Но во всяком случае знай, что тебе лучше быть где угодно, только не здесь.
– Я знаю только одно, – возразила она, – что буду там, где мне повелевает быть мой долг.
– Ты забываешь, что у тебя есть долг и к самой себе, – заметил я.
– Ах, Чарли, уж не в Библии ли ты это вычитал? – спросила она, продолжая месить руками тесто.
– Послушай, Мэри, ты не должна теперь шутить со мной, – сказал я почти торжественно. – Видит Бог, я сейчас не в настроении смеяться. Слушай, что я тебе скажу. Если нам удастся уговорить твоего отца, это было бы, конечно, всего лучше, но с ним ли, или без него, я хочу видеть тебя далеко отсюда, дитя мое; пойми, что и ради тебя самой, и ради меня, а также ради твоего отца, хочу, чтобы ты была далеко-далеко отсюда. Я приехал сюда с совершенно другими намерениями; я приехал сюда, как человек едет домой к себе, в свой родной дом. Но теперь все изменилось, теперь у меня только одно желание, одна мечта, одна надежда, это бежать отсюда! Именно бежать, бежать с этого проклятого острова.
Мэри прервала свою работу и смотрела на меня.
– Что же ты думаешь, – сказала она, когда я закончил, – что у меня нет глаз, нет ушей? Неужели ты думаешь, что сердце мое не разрывается от присутствия в доме всей этой «бронзы», – как он ее называет, прости его Господи! – которую я хотела бы выбросить в море? Или ты думаешь, что я жила здесь все время день за днем с ним и не видела того, что ты увидел в несколько часов? Нет, Чарли, – продолжала она – я знаю, что у нас что-то неладно, что есть тут какой-то грех. Какой именно и в чем он, я не знаю; я не знаю, да и не хочу знать. Не хочу, потому что никогда еще дурное дело не было исправлено тем, что другие люди вмешивались в него; по крайней мере, я никогда не слыхала об этом; но вот, что я скажу тебе, друг, – не требуй от меня никогда, чтобы я оставила отца! Пока он жив, пока он дышит, я останусь подле него. Он не жилец на этом свете, – недолго он протянет, это я тебе говорю. Помни мое слово, Чарли, недолго он будет с нами; я вижу печать смерти на его челе, – и быть может, это и к лучшему.
Я некоторое время молчал, не зная что сказать, а когда я поднял голову, чтобы ответить ей, она встала и с некоторой торжественностью произнесла:
– Чарли, то, что повелевает мне мой долг, не может быть обязательным для тебя; то, с чем должна мириться я, с тем ты не должен мириться. Над этим домом тяготеет грех, и несчастье носится над ним, но ты посторонний человек; забирай свое добро и уходи отсюда, уходи в иные, лучшие места, к другим, лучшим людям; но если бы тебе когда-нибудь вздумалось вернуться сюда, хотя бы через двадцать лет, ты все равно найдешь меня той же; я всегда буду ждать тебя.
– Мэри Эллен! – воскликнул я. – Я просил тебя быть моей женой, и ты почти сказала мне да, так оно и будет! И где ты будешь, там буду и я; а за все остальное я отвечу Богу.
Когда я это сказал, сильный шквал с бешенством пронесся в воздухе и как будто замер и, притаившись, дрожал вокруг дома у Ароса. Это был первый шквал, предвестник надвигавшегося шторма. Мы вскочили и осмотрелись; кругом все потемнело, точно на землю спустились сумерки ночи.
– Сжалься, Господи, над всеми несчастными, кто теперь в море! – сказала Мэри. – Мы теперь не увидим отца до завтрашнего утра, – добавила она со вздохом, и затем рассказала мне о том, как произошла с дядей эта перемена.
Всю прошлую зиму он был мрачен, раздражителен и всякий раз, когда Руст бушевал, или, как выражалась Мзри, «Веселые Ребята» принимались плясать свою адскую пляску, он целыми часами лежал на мысе или на вышке дома, если это было ночью, или же на вершине Ароса, если дело было днем, и следил за прибоем, пожирая глазами горизонт, высматривая, не покажется ли где-нибудь парус. После десятого февраля, когда судно, обогатившее их всяким добром, было выброшено на берег в Сэндэгской бухте, он был первое время необычайно весел и возбужден; и возбуждение его с тех пор отнюдь не падало, а только видоизменялось, становясь все более и более мрачным. Он сам ничего не делал и постоянно отрывал Мэри от работы. Они вместе с Рори забирались на крышу дома, где вышка, и там беседовали целыми часами, вполголоса, почти шепотом, и так таинственно, что их можно было бы заподозрить даже в чем-нибудь преступном. И когда она спрашивала того или другого, что она вначале иногда делала, то оба они как-то конфузились и старались отделаться от ее расспросов с видимым замешательством. С того времени, как Рори впервые заметил рыбу, следовавшую неизменно за лодкой, хозяин его, то есть дядя, только один-единственный раз был на мысе Росс, и это было в разгар весны; он перешел пролив вброд во время отлива, но замешкавшись дольше, чем он рассчитывал, на той стороне, он оказался отрезанным от Ароса, так как с приливом вода в проливе поднялась. С диким криком ужаса перескочил он через пролив и добежал до дома, трясясь от страха как в лихорадке. С того времени какой-то непреодолимый ужас перед морем неотступно преследует его, неотвязчивая мысль о море, об ужасах моря не покидает его ни на минуту, и даже когда он молчит, этот страх читается у него в глазах.
К ужину пришел только один Рори, но немного позднее явился и дядя. Он взял под мышку бутылку коньяка и краюшку хлеба в карман, и снова побежал на свой обсервационный пункт, на этот раз в сопровождении Рори. Из их разговора я узнал, что шхуна постепенно подается вперед, – но что экипаж все еще продолжает бороться против беспощадной стихии, оспаривая у нее каждый дюйм с безнадежным упорством и геройским мужеством. И это привело меня в еще большее уныние. Самые черные мысли преследовали меня.
Вскоре после заката буря разразилась во всей своей бешеной силе; такой страшной бури я еще не видывал летом, а судя по тому, с какой быстротой она надвигалась, даже и зимой я ничего подобного не видал. Мэри и я, мы сидели молча, прислушиваясь, как скрипел и трещал над нами дом, как кругом завывала буря, а капли дождя, попадая через трубу камина на огонь в очаге, зловеще шипели на горячих углях. Мысли наши были далеко, с теми несчастными, там, на море, или с моим не менее несчастным дядей, мокнувшим и дрогнувшим на узком выступе скалы. Но каждый новый порыв бури, каждый новый налетевший шквал пробуждал нас к действительности, заставлял вздрагивать и прислушиваться, как стонали, словно живой человек, стропила дома, как ветер с воем врывался в трубу камина, высоко вздувал в нем пламя и вдруг разом замирал. И сердца наши бились шибче и тревожней. А вновь налетевший шквал то подхватывал со всех четырех углов крышу и, казалось, был готов сорвать ее, и ревел, как разъяренный Левиафан, то внезапно стихал, и, жалобно завывая, как будто баюкая кого-то, врывался в комнату и наполнял ее своим холодным, влажным дыханием, вызывая в нас дрожь и заставляя волосы наши дыбом подыматься на голове в тот момент, когда проносился между мной и Мэри, сидевшими друг подле друга у очага.
И опять ветер принимался жалобно и уныло завывать в трубе, под окном и вокруг дома и протяжно выл и рыдал тихими жалобными звуками флейты, похожими на вопли и стоны людей.
Было, вероятно, около восьми часов вечера, когда Рори вошел в кухню и с порога таинственно поманил меня к двери. Видно, дядя на этот раз напугал даже и своего неизменного товарища, и Рори, встревоженный его странным поведением, позвал меня и просил, чтобы я пошел вместе с ним сторожить дядю. Я поспешил исполнить его желание с тем большей готовностью и охотой, что и сам я, под давлением безотчетного страха и чувства леденящего ужаса, в этой наэлектризованной грозовой атмосфере испытывал непреодолимую потребность действовать и двигаться. Мое беспокойное, душевное состояние побуждало меня идти и предпринять что бы то ни было, лишь бы только не сидеть здесь в томительном бездействии, прислушиваясь к вою бури. Сказав Мэри, чтобы она ни о чем не тревожилась, так как я обещаю ей оберегать ее отца, я укутался потеплее пледом и последовал за Рори.
Несмотря на то, что стояла середина лета, ночь была темная, как в январе. Моменты густых сумерек чередовались с минутами полнейшего мрака, и не было никакой возможности проследить причину этих быстрых перемен по несущимся по небу облакам. От сильного ветра захватывало дух; в глазах рябило; все небо и вся атмосфера кругом содрогались от страшных ударов грома; казалось, будто гигантский черный парус развернулся и бился у вас над головой, а когда ветер над Аросом на мгновение стихал, было слышно, как он жалобно и зловеще завывал в отдалении. И над всеми долинами и равнинами Росса ветер гулял так же свободно, как и в открытом море. Одному только Богу известно, что за ужасы творились там, вокруг вершины мрачного великана Бэн-Кьоу. Клочья морской пены и брызги дождя били нам в лицо. Вокруг всего Ароса прибой с непрерывным ревом и стоном неистово бился о прибрежные скалы, опережая свирепые буруны, стремительно налетавшие на подводные рифы и с громом рассыпавшиеся вокруг них, или перекатывавшиеся и перескакивавшие через них. И шум волн слышался то громче в одном месте, то тише в другом, точно то был оркестр, играющий в унисон, а над всем этим морем звуков, то грозных, то жалобных, покрывая их все своим могучим хором, слышались изменчивые голоса Руста и перемежающийся шум и рев «Веселых Ребят». В этот момент мне вдруг стало понятно, почему эти буруны получили странное название «Веселых Ребят». Их шум казался почти радостным, когда он покрывал и рев бури, и стоны прибоя, и вой и гудение волн, и завывание ветра в эту страшную ночь. Да, только они одни, можно сказать, весело шумели, шумели громче всего, и как бы ни на что не взирая, забавлялись своей неистовой пляской; в их голосах слышалось даже что-то человеческое. Как опившиеся до потери рассудка дикари неистовствуют и орут, утратив способность издавать членораздельные звуки, горланят все вместе, в безумном опьянении, так именно звучал в эту ночь в моих ушах своеобразный, грозный и вместе с тем разгульный и веселый рев «Веселых Ребят» – этих страшных бурунов, бушующих у Ароса, словно потешаясь своим диким неистовством.
Взявшись под руки и спотыкаясь на каждом шагу, под напором валившего нас с ног ветра, Рори и я с невероятным трудом, шаг за шагом, подвигались вперед. Мы спотыкались в мокрой траве, падали на облитых дождем и брызгами скалах и камнях, на которых скользили и разъезжались ноги; разбитые, измученные, промокшие и задыхающиеся, мы добрались не раньше чем через добрых полчаса от дома, лежащего внизу, до оконечности мыса, возвышающейся над Рустом. Это был излюбленный обсервационный пункт дяди. Как раз в том месте, где утесы всего выше и где они почти отвесно спускаются в море, большая земляная глыба на самом краю утеса образовала род парапета, могущего служить защитой от ветра. Здесь можно было спокойно сидеть и наблюдать прилив и борющиеся с ним зеленые валы прибоя; как из окна комнаты в доме можно смотреть на уличную драку, так точно можно было смотреть отсюда на бушующих внизу «Веселых Ребят». В такую ночь, конечно, приходилось смотреть в черный мрак, среди которого бурлили, кипели и кружились, как на мельничном колесе, косматые волны, где они сшибались с силой взрыва, а пена и брызги взлетали на невероятную высоту и затем в мгновение ока разлетались мелкой водяной пылью. Никогда еще я не видел «Веселых Ребят» такими неистово бурными и бешено свирепыми; эту дикую разнузданность, эту необычайную вышину всплесков и эту силу и быстроту их налета надо было видеть, потому что они не поддавались никакому описанию. Высоко-высоко у нас над головами, когда мы стояли на вершине утеса, вздымались и вырастали во тьме белые столбы пены, и в тот же момент исчезали как призраки. Иногда два-три таких столба вырастали и пропадали в одно мгновение, а иногда их подхватывал порыв ветра, и тогда нас обдавало брызгами и пеной, словно на нас налетела волна. И все же зрелище это не столько подавляло своей силой и величием, сколько ошеломляло своим шумом и движением, – мысль цепенела от этого одуряющего страшного шума, непрерывно возрастающего и падающего; какая-то почти веселящая пустота воцарялась в мозгу; наступало состояние, близкое к острому умопомешательству. Минутами я ловил себа на том, что, следя за бешеной пляской «Веселых Ребят», я подпевал им, вторя их голосам.
Мы еще были в нескольких саженях от дяди, когда я впервые увидел его в один из мимолетных проблесков полусвета среди окружающей тьмы этой черной ночи. Он стоял за парапетом с откинутой назад головой и тянул из бутылки, которую он держал обеими руками. Когда он отнял бутылку от рта, он увидел и узнал нас, в знак чего махнул нам рукой.
– Разве он пьет? – крикнул я Рори.
– О, он всегда напивается, когда ветер ревет, – отвечал Рори на таких же высоких нотах, потому что иначе ничего нельзя было бы здесь расслышать.
– Стало быть… и в феврале… он тоже был пьян? – допрашивал я.
Рорино «да» несказанно обрадовало меня. Значит, и убийство он совершил не хладнокровно, не с заранее обдуманным расчетом; это, вероятно, было сделано под воздействием пьяного безумия, которое могло служить оправданием даже на суде. Значит, дядя мой был просто опасный помешанный, если хотите, а не жестокий и низкий преступник, как я того опасался. Но что за странное место для попойки! Какой ужасный порок развился у дяди, да еще при какой невероятной обстановке предавался он ему, бедняга! Я всегда считал пьянство диким и почти страшным наслаждением, опасной и безобразной страстью, скорее демонической, чем человеческой; но пьянство здесь, в такую страшную минуту! Среди всего этого невероятного хаоса разбушевавшихся и обезумевших стихий и волн стоять с затуманенной головой, в которой все стучит и клокочет, как там, на Русте, со спотыкающимися ногами на краю бездны, на волосок от смерти, и ловить жадным ухом звуки, возвещающие гибель человеческих жизней, – это казалось мне совершенно невероятным, положительно невозможным для такого человека как дядя, суеверного, верящего в проклятия и возмездие и постоянно преследуемого мрачными опасениями и беспочвенными страхами. А между тем это было так. И когда мы добрались наконец до вершины и очутились под защитой парапета и могли отдохнуть и перевести дух, я увидел, что глаза его светились недобрым блеском и как-то зловеще сверкали в темноте.







