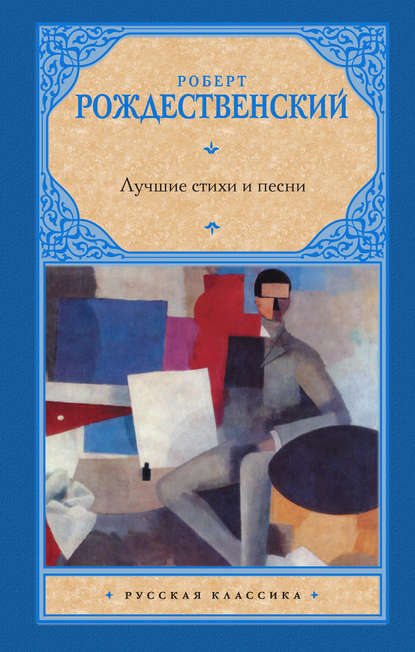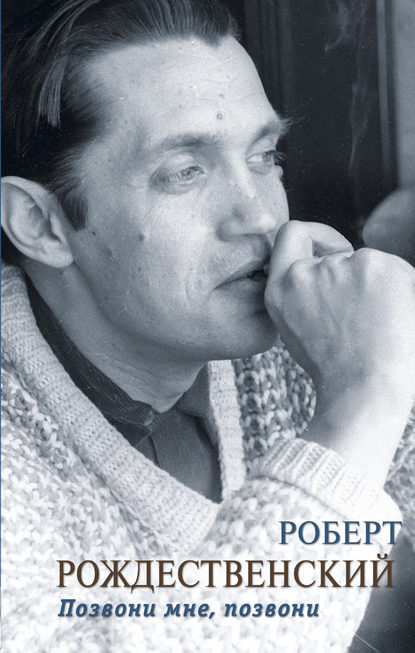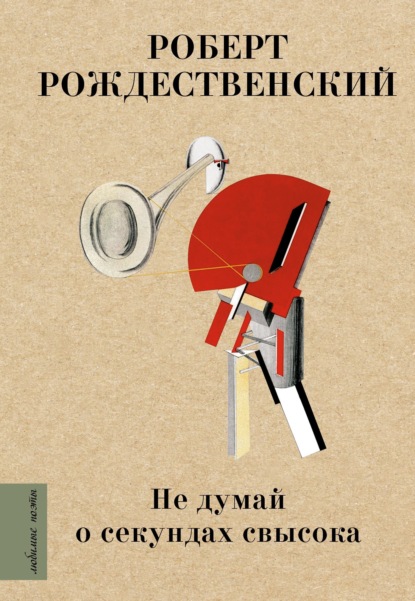Роберт Иванович Рождественский За тобой через года (сборник)
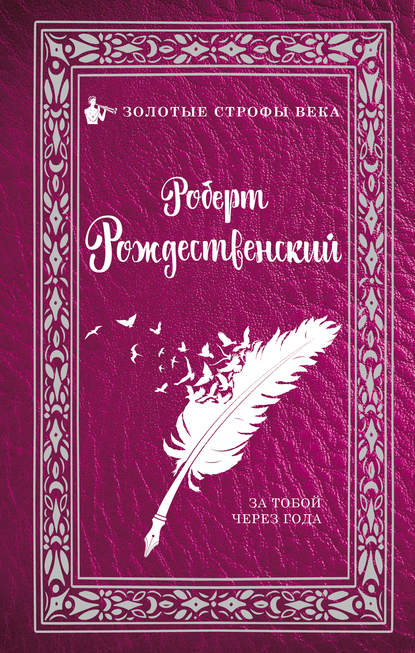
- Рейтинг Литрес:3.8
Полная версия:
Роберт Иванович Рождественский За тобой через года (сборник)
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Роберт Рождественский
За тобой через года
Сборник
Всё хочу я увидеть…
«Все хочу я увидеть…»
Все хочу я увидеть.Хочу испытать,Все, кроме смерти,И услышать все шепоты мираи все его грохоты.Но даже и то, что небесный Госпланотпустил мне по смете,я честно приму.И вместе с друзьямипотрачу до крохотки…Все желания могут исполниться,кроме самого яркого —колеса машины времениржавеют – несмазаны…А мне боткуситьот того матросского яблочка!А мне быпочуятьрукопожатье товарища маузера!..Это вовсе не кровь,это время в жилах играет.Пусть потом разберутся,кто гений,кто трус,кто воин.Ведь не тогда человек умирает,когда умирает,А тогда, когда говорит:«Я собой доволен…»Я собой доволен…И можно готовить деньги,заказывать место на кладбищеи траурный выезд…А в соседнем скверекудахчут хорошо одетые дети.И не знают еще,что им досталась эпоха —на вырост!Мы об этом тоже не знали.Мы не верили, что состаримся.И что однаждына сердце у каждогоистина выжжется:никогда не бывает Счастьеконечной станцией!..…Потому-то и кружится этот мир.Потому они движется.Начало
Я родился —нескладным и длинным —в одну из влажных ночей.Грибные июньские ливнизвенели,как связки ключей.Приоткрыли огромный мир они,зайчиками прошлись по стене.«Ребенокудивительно смирный…» —врач сказал обо мне.…А соседка достала карты,и они сообщили,чтобуду я не слишком богатым,но очень спокойным зато.Не пойду ни в какие бури,неудачисмогу обойтии что дальних дорогне будетна моем пути.Что судьбою,мне богом данной(на ладони вся жизнь моя!),познакомлюсьс бубновой дамой,такой же смирной,как я…Было дождливо и рано.Жить сто леткукушка звала.Но глупые картыврали!А за ними соседкаврала!Наврала она про дорогу.Наврала она про покой…Карты врали!..И слава богу,слава людям,что я не такой!Что по жилам бунтует сила,недовольство собой храня.Слава жизни!Большое спасибоейза то, что мяла меня!Наделила мечтой богатой,опалила ветром сквозным,не поверилабабьим картам,а поверилаливням грибным.Утро
Владимиру Соколову
Есть граница между ночью и утром,между тьмоюи зыбким рассветом,между призрачной тишьюи мудрымветром…Вот осиновый лист трясется,до прожилок за ночь промокнув.Ждет,когда появится солнце…В доме стали заметней окна.Спит,раскинув улицы,город,все в нем —от проводов антенныхдо замков,до афиш на стенах, —все полно ожиданием:скоро,скоро!скоро!! —вы слышите? —скороптицы грянут звонким обвалом,растворятся,сгинут туманы…Темнота заползаетв подвалы,в подворотни,в пустые карманы,наклоняется над часами,смотрит выцветшими глазами(ей уже не поможет это), —и она говорит голосамитех,кто не переноситсвета.Говорит спокойно вначале,а потом клокоча от гнева:– Люди!Что ж этоВедь при мне вытоже кое-чторазличали.Шли,с моею правдой не ссорясь,хоть и медленно,да осторожно…Я темней становилась нарочно,чтобы вас не мучила совесть,чтобы вы не видели грязи,чтобы вы себяне корили…Разве было плохо вам?Развевы об этом тогдаговорили?Разве вы тогда понималив беспокойных красках рассвета?Вы за солнцелуну принимали.Разве явиновата в этом?Ночь, молчи!Все равно не перекричатьразрастающейся в полнеба зари.Замолчи!Будет утро тебе отвечать.Будет утро с тобой говорить.Ты себя оставьдля своих льстецов,а с такими советами к намне лезь —человек погибает в конце концов,если он скрываетсвою болезнь.…Мы хотим оглядетьсяи вспомнить теперьтех,кто песен своих не допел до утра…Говоришь,что грязь не видна при тебе?Мы хотим ее видеть!Ты слышишь?Поразнать,в каких притаилась она углах,в искаженные лица врагов взглянуть,чтобы руки скрутить им!Чтоб шеи свернуть!…Зазвенели будильники на столах.А за ниминехотя, как всегда,коридор наполняется скрипом дверей,в трубахс клекотом гулким проснулась вода.С добрым утром!Ты спишь еще?Встань скорей!Ты сегодня веселое платье надень.Встань!Я птицам петь для тебя велю,Начинается день.Начинаетсядень!Я люблю это время.Яжизнь люблю!«Вернуться б к той черте…»
Вернуться б к той черте,где я был мной.Где прилипает к пальцамхлеб ржаной.И снег идет.И улица темна.И слово «мама» —реже, чем «война»Желания мои скупы.Строги.Вся биография —на две строки.И в каждой строчкехолод ледяной…Вернуться б к той черте,где я был мной.Вернуться бы,вернуться б к той черте,где плачу я в полночной духоте,где очень близкогубы и глаза,где обмануть нельзя,смолчать нельзя.Измены —даже мысленно —страшны.А звездам в небетесно от луны.Все небо переполнено луной…Вернуться б к той черте,где я был мной.Не возвращаться бк той черте,когдастановится всесильной немота.Ты бьешься об нее.Кричишь,хрипя.Но остается крик внутри тебя.А ты в поту.Ты памятьворошишь.Как безъязыкий колокол, дрожишь.Никто не слышит крика твоего…Я знаю страх.Не будемпро него.Вернуться б к той черте,где я был мной.Где все впервые:светлый дождь грибной,который по кустарнику бежит.И жить легко.И очень надожить!Сын Веры
Я —сын Веры…Я давно не писал тебе писем,Вера Павловна.Унесли меня ветры,напевали мне ветрыто нахально,то грозно,то жалобно.Я – сын Веры.О, как помогла ты мне, мама!Мама Вера…Ты меня на вокзалах пустых обнимала,мама Вера.Я —сын Веры.Непутевого сынаждала обратномама Вера…И просила в письмахписать только правдумама Вера…Я —сын Веры!Веры не в бога,не в ангелов, не в загробные штуки!Я —сын веры в солнце,которое хлещетсквозь рваные тучи!Я —сын веры в труд человека.В цветы на земле обгорелой.Я —сын веры!Веры в молчаньепод пыткой!И в песню перед расстрелом!Я —сын веры в земную любовь,ослепительную, как чудо.Я —сын веры в Завтра —такое, какое хочу я!И в людей,как дорога, широких!Откровенных.Стоящих…Я —сын Веры,презираю хлюпиков!Ненавижу плаксивых и стонущих!..Я пишу тебе правду,мама Вера.Пишу только правду…Дел – по горло!Прости,я не скоровернусь обратно.Да, мальчики!
Мы – виноваты.Виноваты очень:Не мыс десантомпадали во мглу.И в ту —войной затоптанную —осеньмы были не на фронте,а в тылу.На стук ночнойне вздрагивали боязно.Не виделини плена,ни тюрьмы!Мы виноваты,что родились поздно.Прощенья просим:виноваты мы.Но вот ужеи наши судьбыначаты.Шаг первый сделан —сказаны слова.Мы начаты —то накрепко,то начерно.Как песни,как апрельская трава…Мы входим в жизнь.Мы презираем блеянье.И вдруг я слышу разговор о том,что вот, мол, подрастает поколение.Некстати… непонятное…Не то…И некто —суетливо и запальчиво, —непостижимо злобойувлечен,уже кричит,в лицо намтыча пальцем:«Нет, мальчики!»Позвольте,он – о чем?О чем?Нам снисхождения не надо!О чем?И я оглядываю их:строителей,поэтов,космонавтов —великолепных мальчиков моих.Не нам брюзжать,Не нам копить обиды:И все ж такиво имявсей земли:«Да, мальчики!»Которые с орбитыкосмическойв героиснизошли!Да, мальчики,веселые искатели,отбившиесяот холодных рук:Я говорю об этомне напраснои повторять готовна все лады:Да, мальчики в сухих морозах Братска!Да, мальчики, в совхозах Кулунды!Да,дерзновенноумныеочкарики —грядущеенеслыханных наук!Да, мальчики,в учениях тяжелых,окованныестрогостьюброни.Пижоны?Ладно.Делоне в пижонах.И наше поколенье —не они.Пусть голосято непослушных детяхв клубящемсяискусственном дымулихие спекулянтына идеях,не научившиесяничему.А нам смешныпророкинеуклюжие.Ведь им ответить сможем мы сполна.В любом из нас клокочет революцияЕдинственная.Верная.Одна.Да, мальчики!Со мною рядом встаньтенад немощьюпридуманнойвозни.Да, мальчики!Работайте, мечтайте.И ошибайтесь, —Дьявол вас возьми!Да, мальчики,выходим в путь негладкий!Боритесьс ложью!Стойте на своем!Ведь вы не ошибетесьв самом главном.В том флаге, под которым мы живем!1963
Юноша на площади
Он стоит перед Кремлем.А потом,вздохнув глубоко,шепчет он Отцу и Богу:«Прикажи…И мы умрем!..»Бдительный,полуголодный,молодой,знакомый мне, —он живет в стране свободной,самой радостной стране!Любит детство вспоминать.Каждый день ему —награда.Знает то, что надо знать.Ровно столько,сколько надо.С ходу он вступает в спор.как-то сразу сатанея.Дажесобственным сомненьямон готов давать отпор.Жить он хочет не напрасно,он поклялсяжить в борьбе.Все ему предельно ясно.в этом миреи в себе.Проклял онврагов народа.Верит, что вокруг друзья.Счастлив!..…А ведь это я —пятьдесят второго года.Шла война
«Та зима была, будто война…»
Та зима была, будто война, —лютой.Пробуравлена,прокалена ветром.Снег лежал,навалясь на январь грудой.И кряхтели дома под его весом.По щербатому полу мороз крался.Кашлял новый учитель Сергей Саныч.Застывали чернилау нас в классе.И контрольный диктантотменял завуч…Я считал,что не зря голосит ветер,не случайно болит по утрам горло,потому что остались на всем светелишь зима и война —из времен года!И хлестала пурга по земле крупно,и дрожала река в ледяном гуле.И продышины в окнахцвели кругло,будто в каждую кто-то всадилпулю!..И надела соседкаплаток вдовий.И стонала она допоздна-поздно…Та зима была, будто война, —долгой.Вспоминаюи даже сейчас мерзну.Баллада о молчании
Был ноябрьпо-январски угрюм и зловещ.Над горами метель завывала.Егерейиз дивизии «Эдельвейс»нашисдвинули с перевала…Командирпоредевшую роту собрали сказал тяжело и спокойно:«Час назадменя вызвал к себе генерал.Вот, товарищи,дело какое:Там – фашисты.Позиция немцев ясна.Укрепились надежно и мощно.С трех сторон – пулеметы,с четвертой – стена.Влезть на стенупочти невозможно…Остается надеждана это „почти“.Мы должны —понимаете, братцы? —нынче ночьюна чертову горувползти.На зубах —но до верха добраться!..»А солдаты глядели на дальний карниз,и один —словно так, между прочим, —вдруг спросил:– Командир,может, вы – альпинист?.. —Тот плечами пожал:– Да не очень…Я родился и вырос в Рязани,а тамгоры встанут,наверно, не скоро…В детствелазал я лишь по соседским садам.Вот и вся «альпинистская школа»…А еще(он сказал, как поставил печать!)там у них —патрули!Это значит:если кто-то сорвется,он должен молчать.До конца.И никак не иначе……Как восходящие капли дождя,как молчаливый вызов,лезли,наитием находятрещинку,выемку,выступ.Лезли,почти сроднясь со стеной, —каменьсветлел под пальцами.Парподнимался над каждой спинойи становилсяпанцирем.Молчатянули наверх своикаски,гранаты,судьбы.Только дыхание слышалосьистонсквозь сжатые зубы…Дышат друзья.Терпят друзья.В горуползет молчание.Охнуть – нельзя.Крикнуть – нельзя.Даже —слова прощания.Даже —когда в озноб темноты,в черную прорвуночи,все понимая,рушишься ты,напрочьсрываяногти!Душу твою ослепит на мигжалость,что прожил мало…Крик твой истошный,неслышный крикмама услышит.Мама……Лезлите,кому повезло.Мышцы в комок сводило, —лезли!(Такогобыть не могло!!Быть не могло.Но – было…)Лезли,забыв навсегда слова,глаза напрягаядо рези…Сколько прошло?Час или два?Жизнь или две?Лезли!!Будто на самуюкрышу войны…И вот,почти как виденье,из пропастина краю стенымолчавырослитени.И так же молча —сквозь круговертьи колыханье мрака —шагнули!Былабезмолвной, как смерть,страшная их атака!..Через минутурастаял чади грохоткороткого боя…Давайте и мыиногдамолчать,об их молчаниипомня.Баллада о спасенном знамени
Утромярким, как лубок.Страшным.Долгим.Ратным.Был разбитстрелковый полк.Наш.В боюнеравном.Сколько полегло парнейв том бою —не знаю.Засыхало —без корней —полковое знамя.Облакапечально шлинад затихшей битвой.И тогдас родной земливсталсолдатубитый.Помолчал.Погоревал.И —назло ожогам —грудь своюзабинтовалонбагровым шелком.И подался на восток,отчим домомбредя.По землебольшой, как вздох.Медленной,как время.Ползпустым березняком.Шеллесным овражком.Он себясчиталполкомв окруженьевражьем!Из него онвыходилгрозно и устало.Сам себеи командир,и начальник штаба.Ждал ончаса своего,мстилврагукроваво.Спал он в поле,и егознамясогревало…Шли дожди.Кружилась мгла.Задыхаласьбуря.Парняпуляне брала —сплющиваласьпуля!Ну, а ежелибралав бешенстве напрасном —незаметнойкровь была,краснаяна красном…Шел он долго,нелегко.Шелпо пояс в росах,опираясь на древко,как на вещийпосох.Баллада о зенитчицах
Как разглядеть за днями след нечеткий?Хочу приблизить к сердцу этот след…На батареебыли сплошь девчонки.А старшей быловосемнадцать лет.Лихая челка над прищуром хитрым,бравурное презрение к войне…В то утро танки вышли прямо к Химкам.Те самые.С крестами на броне…И старшая,действительно старея,как от кошмара заслонясь рукой,скомандовала тонко:– Батарея-а-а!(Ой, мамочка!..Ой, рóдная!..)Огонь! —И —залп!..И тут они заголосили,девчоночки,запричитали всласть.Как будто бы вся бабья боль Россиив девчонках этих вдруг отозвалась!Кружилось небо —снежное, рябое.Был ветер обжигающе горяч.Былинный плачКонец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.