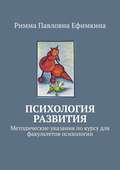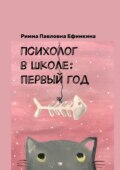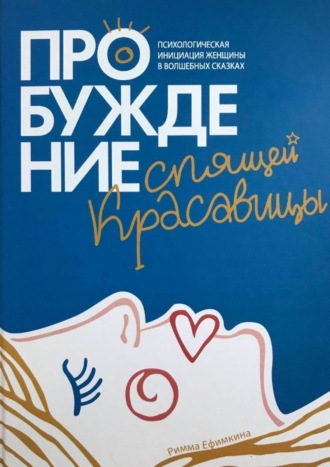
Римма Павловна Ефимкина
Пробуждение спящей красавицы. Психологическая инициация женщины в волшебных сказках
© Римма Павловна Ефимкина, 2018
ISBN 978-5-4496-0623-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Моей дочери, Анне Ефимкиной, посвящается
В этой книге я объединила все свои мысли по поводу работы с инициациями, которые я проводила в женских терапевтических группах за последние десять лет. Инициатический подход представляет собой дальнейшее развитие юнгианских, гештальтистских и процессуально-ориентированных методов работы, используемых мной в психотерапевтической практике или разработанных самостоятельно. Основная идея книги состоит в том, что психотерапевтическая сессия представляет собой инициацию, подобно тем, что проводились с людьми в племенных обществах в доиндустриальный период. Этот социальный институт в настоящее время утрачен, однако структура и символика инициатических практик нашла отражение в структуре и символике текстов волшебных сказок, которые по-прежнему актуальны для современного человека.
Новый метод, описанный в этой книге, основывается на моем исследовании взаимосвязи между психологией женщины и текстами волшебных сказок. Чтобы ответить на вопрос, как возникла эта взаимосвязь, нужно рассказать предысторию.
Как психолог я провожу образовательные программы по психологическому консультированию и психотерапевтические группы. Подавляющее большинство участников этих программ – женщины. Работая с ними, я обнаружила, что причиной психологических проблем является то, что они в чем-то «не выросли», в каких-то аспектах своей личности оставшись маленькими девочками. Речь здесь ни в коем случае не идет о биологической составляющей взросления. Если традиционно признаком взрослой жизни является начало сексуальной жизни, замужество, рождение детей, то почти все мои клиентки в этом отношении состоялись и являются взрослыми. Однако в психоконсультационной практике я обнаружила, что, обладая вышеперечисленными признаками, реально женщины не чувствуют себя таковыми.
Для того, чтобы взросление состоялось, необходимо осуществить ряд переходов из одних состояний в другие: от девочки к девушке, от девушки – к женщине, от женщины – к старухе. Эти переходы происходят на нескольких уровнях. Приобретение социально-психологической зрелости является процессом сложным, оно сопровождается дисбалансом в жизни и деятельности человека, неадекватностью в социальных проявлениях и срывами нервно-психического и соматического состояния. Причина кроется в том, что человек – существо многоуровневое: не только естественное, природное, но и искусственное, культурное, «сделанное» обществом. Если биологическая зрелость в большинстве случаев наступает благодаря участию природы, то социально-психологическая зрелость не наступает сама, для этого общество заготавливает для человека определенные схемы. В традиционных обществах это были обряды инициаций. Наши современники остаются один на один с грандиозными разрушительными и созидательными процессами, которые неминуемо переживаются во время переходов. В психологии эти переходы получили название нормативных кризисов развития. Пройдет или не пройдет человек кризисный период – обществу неважно, оно все равно предъявит к нему требования как к человеку зрелому. Отсюда противоречие: внешне человек выглядит как взрослый, стараясь соответствовать социальным ожиданиям, а внутренне от испытывает неуверенность, зависимость от авторитетов, тревожность, страх, отсутствие поддержки и собственную ненужность – то есть подобен маленькому ребенку, зависимому от взрослого.
Мой подход в психотерапии заключается в выявлении личностных аспектов женщины, которые остались не выросшими, и осуществлении их перехода в следующую стадию развития. Я называю такой переход инициацией, а терапевтические сессии такого рода – инициатическими. На мой взгляд, актуальность такого подхода очевидна в любое время, но сегодня в особенности.
Причина особой актуальности этого подхода заключается в следующем. Говоря о современном состоянии российского общества, нельзя не отметить его проблем, ведущих к проблемам отдельных его членов. Смена социалистического уклада на новый, которому пока еще даже нет окончательного названия, привела к тому, что сложившиеся за годы советской власти социальные ритуалы разрушены безвозвратно, а новые еще не сформированы. Возникновение в России в массовом порядке психологических служб и увеличение в геометрической прогрессии количества российских психологов свидетельствует об огромном спросе на них населения, пусть даже не осознанном. По сути, психотерапевты сейчас взяли на себя по отношению к некоторым слоям общества такие социальные функции, которые традиционно осуществлялись в различные социально-исторические периоды представителями религиозных культов (шаманами, магами, колдунами, знахарями, священниками и т. п.), а также работниками идеологической сферы. При этом не факт, что все психотерапевты справляются с возложенными на них ожиданиями, потому что не все осознают социальный контекст проблем современных клиентов.
В связи с вышесказанным можно рассматривать современную психотерапию как набор социотехнических практик, которые позволяют организовать инициацию: обнаружение «не выросшего» аспекта личности клиента, создание условий для завершения его «роста» и переход на следующую стадию развития, соответствующую биологическому возрасту клиента.
Книга написана в соответствии с той последовательностью, в которой я шла сама в своем поиске ответа на вопрос, как и почему «работает» психотерапевтическая сессия.
Вот этот путь. Несколько лет назад я заметила, что, рассказывая о своем опыте или разыгрывая сцены своей жизни в психодраматическом подходе, женщины бессознательно, сами того не подозревая, проигрывают мифологические сюжеты. Например: «Когда моя мать была мною беременна, старая цыганка предсказала ей, что рожать она будет в муках…» – чем не сказочный зачин? Было очевидно, что опыт людей, будучи воплощен в слова, как-то связан со сказками. Я обратилась к книгам филолога В. Я. Проппа, который, исследуя морфологию сказки, обнаружил структурное единообразие всех волшебных сказок мира. Это единообразие отразило феномен, исторически уходящий корнями в родовой строй, – обряд инициации. Перечтя В. Я. Проппа «психологическими» глазами, я поняла, что в волшебной сказке отражена не только структура обряда инициации, но и развернута схема инициации, которую можно применять в современном психотерапевтическом контексте. С того, как «устроена» волшебная сказка, начинается книга.
Сказка потянула за собой целый культурный пласт – существовавшие в племенных обществах обряды инициации, которые являются историческими корнями волшебной сказки и лежат в основе сказочных сюжетов. Я окунулась в этнографическую литературу и все, что нашла по этой теме, изложила во второй главе.
Потом я поняла, что обнаружение исторических корней сказки хотя и проливает свет на значение ее символов, но не отменяет первоначального вопроса – почему психотерапевтические сессии похожи на сказки своими сюжетами, тем более что обрядов давно уж нет, а сказки есть. Я стала искать помимо исторических корней психологические корни сказок. Оказалось, что за инициациями скрыты нормативные психологические кризисы. Я углубилась в изучение кризисов взрослых людей. Однако если кризисы детей изучены в психологической литературе более или менее хорошо, то кризисы взрослых практически не изучены. Кризисам взрослости посвящена третья глава.
«Вооружившись» всеми этими знаниями, я снова возвратилась к сказке, чтобы теперь уже постичь ее тайны. Я обнаружила в ней не одну, как было принято, а три инициации, и перевела сказку с языка метафор на психологический язык, чтобы получить доступ к сокровищнице народной мудрости и применить эти сокровища в психотерапевтической практике в работе с женщинами. Четвертая и пятая главы посвящены расшифровке сказочных кодов.
И, наконец, шестая глава – это описание терапевтических сессий моих клиенток на тему инициаций с комментариями – то есть то, ради чего я и предприняла это путешествие «за тридевять земель в тридевятое царство тридесятое государство».
Хотя основное содержание книги (за исключением последней главы) вошло в мою кандидатскую диссертацию по социальной психологии «Социально-психологические особенности возрастных кризисов женщины в инициатических сюжетах волшебных сказок», предлагаемый читателю материал не предназначен для представителей какой-либо определенной науки. Он изложен языком, одинаково доступным как ученым, так и неспециалистам.
Глава 1. Исторические корни волшебной сказки
Прикосновение к чуду
Впервые отнестись к сказке «научно» мне пришлось, когда я была студенткой филфака, на лекциях по устному народному творчеству (в обиходе – УНТ) профессора Михаила Никифоровича Мельникова. Тогда он еще не был профессором, а был потрясающим рассказчиком, чрезвычайно темпераментным, фанатично влюбленным в свой предмет, а потому особенно убедительным. Его лекции были похожи, скорее, на страстные драматические монологи: «Почему баба яга – „костяная нога“?! Почему ее нос „в потолок врос“?! Почему избушка „без окон и дверей“ стоит „на курьих ножках“?! Да потому, что баба яга – не человек, а мертвец!! Она лежит в гробу, вот почему у нее нос в потолок врос! И эта избушка – без окон и дверей, как и гроб. А на курьих ножках она стоит потому, что гробы не закапывали, а ставили на сваи, чтобы звери не достали…»
Аудитория не дышала, потрясенная и самим рассказом, и открытием. Мы-то думали, что баба яга – страшноватый, но все-таки смешной персонаж детских сказок, и выдумана она в педагогических целях хитроумными взрослыми наряду с милиционером, бабаем и дядькой с мешком, которые забирают непослушных детей. А еще точнее – мы вообще не думали про сказки как про что-то серьезное, – так, детские россказни для развлечения, чем бы дитя ни тешилось… Однако выяснилось, что в основе волшебных сказок лежат реальные исторические события и что на эту тему даже есть научное исследование, осуществленное отечественным фольклористом В. Я. Проппом.
Книги В. Я. Проппа по морфологии сказки в те времена и достать-то было невозможно, то, что в сказке может быть что-то «спрятано» – казалось фокусом. Однако с изумлением мы открывали, что сюжет сказки всегда «прячет» в себе не что иное, как околосмертный опыт героя, или его инициацию. То есть сюжет любой волшебной сказки сконцентрирован вокруг главного события: герой, допустив оплошность, должен исправить ее, а для этого пройти смертельные испытания, победить и в результате преобразиться.
Почему этот опыт так важен, что его зафиксировали тысячи сказочных сюжетов? Тогда, в пору студенчества, я не очень задавалась подобными экзистенциальными вопросами, жизнь сама по себе держала в тонусе, хватало того, что есть. Однако соприкосновение с этим околосмертным сказочным опытом было и в ту пору ошеломляющим. Когда мы слушали рассказы о путешествии героя, о бабе яге, то мурашки пробегали по коже и охватывал трепет сладкого ужаса. Так бывает, когда встречаешься с тайной, мистикой, чудом, которым в обыденной жизни нет места, но без которых жизнь пресна и пуста.
Другая профессия
Потом несколько лет мне, как и всей стране, было не до сказок и не до чуда. Началась перестройка, в целях социального выживания я получила другую профессию, выучившись сначала на психолога, затем – на психотерапевта, не подозревая тогда, что найду таким образом не только свое призвание, но и основную линию жизни. Я сертифицировалась в арт- и гештальт-подходах, а также в психодраме, стала вести женские психотерапевтические группы, и рассказы женщин об их жизни во время групповых тренингов все время казались мне чем-то уже знакомы. Затаив дыхание и понизив голос, они готовы были поведать нечто такое, что не вписывается в рамки обыденной жизни: «Когда мне было лет семь, ко мне ночью приходили чудовища и пугали меня…» Или: «Недавно мне явилась моя покойная бабушка в виде привидения…» Слыша подобные «зачины» психотерапевтических сессий женщин-клиенток, я узнавала в них мифологические сюжеты и догадывалась, что это неспроста. Я предполагала, что опыт людей, рассказанный словами, как-то связан со сказками. Но как? И тут мне пригодилось первое образование. Я снова открыла книги В. Я. Проппа о волшебных сказках, изданные теперь большими тиражами, и прочла их заново уже другими, «психологическими» глазами.
«Тайный» язык сказки
Владимир Яковлевич Пропп (1895—1970) – русский ученый, фольклорист, профессор Ленинградского государственного университета, вошедший в историю мировой филологической науки благодаря тому, что разработал основы структурного анализа сказки. Две его знаменитые книги по сказкам, которые часто публикуют как две части одной книги, на самом деле вышли с разницей почти в тридцать лет.
Первая книга «Морфология сказки» появилась в 1928 году. Напомню, что морфология (морфе – форма, логос – наука) – учение о формах, о составных частях, о строении. Я не знаю, что сподвигло В. Я. Проппа сравнить между собою сюжеты волшебных сказок (лично у меня пусковым механизмом было желание понять структуру и механизм воздействия терапевтических сессий клиенток), но он взял из сборника А. Н. Афанасьева наугад подряд сто сказок (всего их было четыреста) и изучил их строение. В результате его ждало сенсационное открытие: сказки, совершенно разные по содержанию, оказались одинаковыми по структуре.
Чтобы было понятнее, о чем идет речь, приведу пример. Когда я пыталась как-то объяснить себе невероятное сходство психотерапевтических сессий и сюжетов волшебных сказок, я вспомнила несколько самых популярных женских сказок и сравнила их между собой. «Женскими» принято называть те сказки, в которых главный действующий персонаж – девушка или женщина, то есть героиня, а не герой. Например, это «Морозко», «Крошечка-Хаврошечка», «Снегурочка» из сборника А. Н. Афанасьева, «Госпожа Метелица» братьев Гримм, «Золушка» и «Спящая красавица» Ш. Перро, «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина, «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова, а также сказка об Амуре о Психее, вставленная Апулеем в его «Метаморфозы». Сходство сюжетов буквально бросается в глаза.
Сюжет кратко можно изложить так: мачеха (антагонист), обнаружив, что падчерица (героиня) подросла и хороша собой, старается сжить ее со свету. Отец почему-то не заступается за дочь перед обидчицей. Наконец, мачеха дает задание, с которым девушка не справляется и этим нарушает приказ. За это мачеха выгоняет ее из дому, а родной отец (отправитель) увозит ее в лес. Там она встречает волшебное существо (дарителя: фею, Морозко, госпожу Метелицу, медведя, бабу ягу и т. п.), которое устраивает девушке смертельное испытание. С помощью волшебных помощников девушка справляется с непосильным заданием. За это она получает от дарителя вознаграждение и возвращается домой. Появляется молодой человек (царевич), который влюбляется в нее и сватается. В эпилоге – счастливое замужество героини, зависть сестер (ложных героинь), посрамление мачехи или даже гибель ее.
В скобках я указала названия персонажей, действующих в сказке. Эти названия дал В. Я. Пропп, когда обнаружил, что в сказках, несмотря на богатое разнообразие персонажей, выделяется всего семь типов этих самых персонажей. В. Я. Пропп назвал их семиперсонажной схемой. Перечислю их еще раз: антагонист, герой (героиня), ложный герой, отправитель, даритель, помощник, царевна (царевич). Они названы так в соответствии со своими функциями. При отсутствии в сказке одного или нескольких из них их функции передаются другому персонажу. Здесь важно не авторство того или иного персонажа, а само значение его поступка.
За единицу сказки ученый принял ход персонажа, который был назван функцией. Это поступок действующего лица, определяемый с точки зрения его значимости для хода действия. Всего В. Я. Пропп обнаружил в сказке тридцать одну функцию. Пронумеровав и обозначив каждый ход буквой алфавита, он записал их один за другим в последовательности, которая составила как бы формулу сказки. Эта последовательность оказалась такова (для простоты я использую только порядковые номера функций, а буквы опускаю):
Структура волшебной сказки по В. Я. Проппу
Подготовительная часть
– Отлучка
– Запрет (или приказ)
– Нарушение
– Выведывание
– Выдача
– Подвох
– Пособничество
Завязка
– Вредительство (или 8а: недостача)
– Посредничество
– Начинающееся противодействие
– Отправка
Основная часть
– Первая функция дарителя
– Реакция героя
– Снабжение, или получение волшебного средства
– Пространственное перемещение между двумя царствами
– Борьба
– Клеймение
– Победа
– Ликвидация беды или недостачи
– Возвращение
– Преследование, погоня
– Спасение
Дополнительный сюжет, в котором действует лжегерой.
Первая его часть (новое вредительство) аналогична функциям 8—15.
8 bis. Братья похищают добычу.
10—11 bis. Герой снова отправляется на поиски.
12 bis. Герой вновь подвергается испытаниям
13 bis. Герой снова реагирует на действия дарителя
14 bis. Герой снова. получает волшебное средство
15 bis. Возвращение с новым средством домой.
С этого момента развитие повествования уже иное, сказка дает новые функции.
– Неузнанное прибытие героя
– Необоснованные притязания лжегероя
– Трудная задача
– Решение
– Узнавание героя
– Обличение лжегероя
– Трансфигурация героя
– Наказание лжегероя
– Свадьба, воцарение героя.
Выделив и описав персонажей и функции, В. Я. Пропп пришел к тому выводу, что действие решительно всех сказок отобранного им материала, а также очень многих других волшебных сказок самых различных народов развивается в пределах этих функций. При этом структура сказки подчиняется следующим закономерностям:
– Функции действующих лиц, независимо от того, кем и как они выполняются, служат постоянными, устойчивыми элементами сказок. Они образуют основные составные части сказок.
– Максимальное число функций, известных волшебной сказке, – 31.
– Последовательность функций всегда одинакова.
– Все волшебные сказки однотипны по своему строению.
В каждой отдельной сказке присутствуют не все функции, но взаимоотношение между функциями всегда то же самое, то есть всегда присутствует базовая структура. Она обеспечивает единство повествования, целостность и предсказуемость.
А вот теперь самое важное. Если принять все сказанное выше – что все волшебные сказки, не только русские народные, но и многих народов мира, имеют одинаковую последовательность ходов, – то тогда неизбежно возникает вопрос: какая закономерность кроется за этими функциями и их последовательностью? Зачем народу понадобилось на сто рядов повторять практически один и тот же сюжет в сотнях и тысячах вариантов волшебных сказок? Что он этим хотел сказать? Этот вопрос, если мы на него ответим, возможно, прольет свет на первоначальный наш вопрос: почему терапевтические сессии так часто напоминают сказочные сюжеты.
Сам В. Я. Пропп обнародовал свою версию единообразия сказок спустя почти тридцать лет после выхода в свет «Морфологии сказки». В 1946 году Владимир Яковлевич публикует продолжение книги и называет его «Исторические корни волшебной сказки». Для В. Я. Проппа морфология сказки не была самоцелью, он стремился к выявлению жанровой специфики волшебной сказки для того, чтобы впоследствии найти единообразию волшебных сказок историческое объяснение. Во второй книге он делает попытку ответить на тот же вопрос, который интересует и нас: какое общее явление кроется за одинаковой последовательностью функций в сказке.
В связи с этим ученый обратил внимание на следующий феномен. Главное в структуре сказки то, что герой отправляется из дому в лес, подземелье или «иной мир», умерщвляется и воскресает, приобретя таким образом магическую силу, затем он возвращается к людям в ином уже статусе, более высоком, чем был до ухода. В. Я. Пропп настаивает: «Обратим особое внимание на то, что посвящаемый якобы шел на смерть и был вполне убежден, что он умер и воскрес… Почему герой попадает к вратам смерти?.. Почему сказка отражает в основном представления о смерти, а не какие-нибудь другие? Почему именно эти представления оказались такими живучими и способными к художественной обработке?»1
Ответ на этот вопрос В. Я. Пропп получает из рассмотрения обрядов инициации – посвящения юношества при наступлении половой зрелости – явления уже не только в области мировоззрения, но и в области конкретной социальной жизни. С целью поиска общей основы сказки В. Я. Пропп обращается к этнографическому материалу, собирая все возможные и доступные для него на тот момент данные относительно обрядов инициации (мы тоже чуть позже это сделаем) и приходит к выводу, что композиционное единство сказки кроется «не в каких-нибудь особенностях человеческой психики» (курсив наш, заметьте, что В. Я. Пропп не исключал психологических причин единства корней сказки), не в особенности художественного творчества, оно кроется в исторической реальности прошлого. То, что сейчас рассказывают, некогда делали, изображали, а то, чего не делали, представляли себе. Из этих двух циклов первый (обряд) отмирает раньше, чем второй. Обряд уже не производится, представления о смерти живут дольше, развиваются, видоизменяются уже без всякой связи с данным обрядом. Исчезновение обряда связано с исчезновением охоты как единственного и основного источника существования»2.
Согласимся пока с такой трактовкой. Чтобы не сбиться, напомню первоначальный ход мысли: (1) терапевтическая сессия по сюжету напоминает волшебную сказку; (2) каждая сказка содержит рассказ об околосмертном опыте, который есть не что иное, как символическое описание инициации, то есть описание перехода человека из одного статуса в другой. Чтобы мы могли продвинуться дальше в поисках истины, давайте остановимся на инициатических обрядах и узнаем о них побольше.