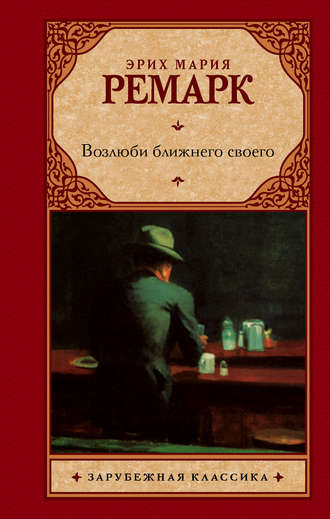
Эрих Мария Ремарк
Возлюби ближнего своего
II
Через пять дней шулера выпустили. Подкопаться под него так и не удалось. Он постарался помочь Штайнеру еще лучше овладеть своим методом игры в карты, и они расстались друзьями. На прощание шулер подарил Штайнеру колоду карт, и тот приступил к обучению Керна. Он научил его играть в скат, в ясс[5], в тарок[6] и в покер. Скат был нужен для игры с эмигрантами, ясс – для Швейцарии, тарок – для Австрии и покер – для всех остальных случаев.
Через четырнадцать дней Керна вызвали наверх. Инспектор ввел его в комнату, где сидел пожилой мужчина. Здесь было просторно и очень светло. Привыкнув к постоянному полумраку камеры, Керн невольно зажмурился.
– Вы – Людвиг Керн, без подданства, студент, родились тридцатого ноября тысяча девятьсот четырнадцатого года в Дрездене, не так ли? – равнодушно спросил чиновник и заглянул в бумаги.
Керн кивнул. Он не мог говорить – вдруг пересохло в горле. Чиновник вопросительно посмотрел на него.
– Да, – хрипло ответил Керн.
– Вы проживали в Австрии без документов и без прописки…
Чиновник быстро читал протокол.
– Суд приговорил вас к двухнедельному заключению. Это наказание вы уже отбыли. Теперь мы высылаем вас из Австрии. Любая попытка вернуться наказуема. Вот судебное решение о высылке. Распишитесь в том, что ознакомились с этим решением, и знайте, что любая попытка вернуться влечет за собой уголовную ответственность. Вот тут, справа.
Чиновник закурил сигарету. Керн не мог оторвать взгляда от жилистой рыхлой руки, державшей спичку. Через два часа этот человек, вероятно, запрет на замок свой письменный стол и отправится куда-нибудь поужинать; потом, возможно, сыграет в тарок и выпьет пару стаканчиков молодого вина. Около одиннадцати он зевнет, расплатится по счету и скажет: «Я устал. Пойду-ка домой спать». Домой… Спать… В этот же час леса и поля у границы будут окутаны густым мраком… Мрак, чужбина, страх. И, затерянный среди всего этого, одинокий, спотыкающийся, усталый, томящийся по людям и боящийся их, будет брести он, Людвиг Керн, крохотная мерцающая искорка жизни. И все только потому, что его и этого скучающего чиновника за письменным столом разделяет кусок бумаги, именуемый паспортом. Их кровь одинаковой температуры, их глаза устроены одинаково, их нервы реагируют на одни и те же раздражения, их мысли развиваются в одинаковых направлениях – и все же между ними пропасть, ничто у них не одинаково, уютное спокойствие одного – пытка для другого, один – власть имущий, другой – отверженный; и пропасть, разделяющая их, – всего лишь клочок бумаги, на котором не написано ничего, кроме имени и нескольких незначительных сведений.
– Вот здесь, справа, – сказал чиновник. – Имя и фамилия.
Керн встряхнулся и поставил свою подпись.
– К какой границе отвезти вас? – спросил чиновник.
– К чешской.
– Хорошо. Через час в путь. Вам дадут провожатого.
– В доме, где я жил, у меня остались кое-какие вещи. Могу ли я взять их перед отправкой?
– Что еще за вещи?
– Чемодан с бельем и всякая мелочь.
– Хорошо. Скажете об этом чиновнику, который поедет с вами к границе. Зайдете с ним за вещами.
Инспектор отвел Керна обратно в камеру и ушел со Штайнером.
– Ну что? – с любопытством осведомилась «курица».
– Через час нас выпустят.
– Jezus Christos! – воскликнул поляк. – Опять начинается паршивая жизнь. Вот дерьмо-то!
– А ты что – хотел бы остаться здесь? – спросила «курица».
– Если бы кормили получше… и дали легкую работу… скажем, рассыльным по тюрьме… тогда с удовольствием.
Керн достал носовой платок и, насколько это было возможно, почистил свой костюм. За две недели его рубашка сильно загрязнилась. Он завернул манжеты. Поляк наблюдал за ним.
– Пройдет год-другой, и ты перестанешь обращать на это внимание, – пророчески изрек он.
– Куда направляешься? – спросила «курица».
– В Чехословакию. А ты? В Венгрию?
– В Швейцарию. Я все обдумал. Давай вместе. Оттуда нас перебросят во Францию.
Керн отрицательно покачал головой.
– Нет, я постараюсь попасть в Прагу.
Через несколько минут привели Штайнера.
– Ты знаешь, как зовут полицейского, который тогда ударил меня по лицу? – спросил он Керна. – Леопольд Шефер. Его адрес – Траутенаугассе, двадцать семь. Мне зачитали протокол, там это написано. О том, что он меня ударил, разумеется, ни слова. Сказано лишь, что я ему угрожал. – Он посмотрел на Керна. – Как ты думаешь, забуду я это имя и адрес?
– Нет, – сказал Керн. – Наверняка не забудешь.
Вскоре появился полицейский в штатском. Он приказал Штайнеру и Керну собраться и следовать за ним. Керн сильно волновался. Выходя из здания, он невольно остановился. Мягкий ветер пахнул ему в лицо. Небо было голубым, а вдали над домами сверкали крыши в последних красноватых отблесках солнца, мерцал Дунайский канал, а на мостовых сквозь поток спешащих домой или прогуливающихся людей с трудом протискивались большие красные автобусы, облитые закатным блеском. Совсем близко торопливо прошла стайка смешливых девушек в светлых платьях. Керну казалось, что он никогда еще не видел ничего столь прекрасного.
– Ну, что ж, пошли! – сказал полицейский.
Керн вздрогнул. Заметив, что какой-то прохожий бесцеремонно разглядывает его, он сконфуженно оглядел свою одежду.
Они шли по улице, полицейский держался посередине. На тротуарах перед кафе были расставлены столики и стулья, всюду сидели радостные, оживленно болтающие люди. Керн наклонил голову и убыстрил шаг. Штайнер смотрел на него с добродушной насмешливостью.
– Ну как, малыш? Не про нас такая жизнь, верно?
– Нет, не про нас, – ответил Керн и сжал губы.
Они дошли до пансиона. Хозяйка встретила их со смешанным чувством досады и сострадания. Она сразу же выдала им вещи. К счастью, ничего не украли. В тюремной камере Керн решил было, что, придя в пансион, сменит рубашку, но после хождения по улицам не стал этого делать. Подхватив свой потрепанный чемодан, он поблагодарил хозяйку.
– Мне жаль, что мы доставили вам столько неприятностей, – сказал он.
Хозяйка махнула рукой.
– Было бы вам хорошо. И вам, господин Штайнер. Куда вы направляетесь?
Штайнер сделал неопределенный жест.
– Поскачу, как все пограничные кузнечики: от куста к кусту.
С минуту хозяйка колебалась. Затем решительным шагом подошла к стенному шкафчику из орехового дерева. Шкафчик был сделан в виде средневековой крепости.
– Выпейте по рюмочке на дорогу…
Она взяла бутылку и наполнила три рюмки.
– Сливовица? – спросил Штайнер.
Она кивнула и предложила полицейскому также взять рюмку. Тот выпил и вытер усы.
– В конце концов, наш брат только лишь выполняет свой долг, – заявил он.
– Разумеется! – Хозяйка снова наполнила его рюмку. – А вы почему не пьете? – спросила она Керна.
– Натощах не могу…
– Ах вот что! – Хозяйка испытующе посмотрела на него. Ее рыхлое, холодное лицо неожиданно потеплело. – Бог ты мой, ведь парень еще растет, – пробормотала она. – Франци, – позвала она затем. – Принеси бутерброд!
– Благодарю вас, не нужно. – Керн покраснел. – Я не голоден.
Официантка принесла двойной бутерброд с ветчиной.
– Нечего жеманиться, – сказала хозяйка. – Ешьте!
– Хочешь половину? – обратился Керн к Штайнеру. – Мне это много.
– Не разговаривай! Навертывай! – ответил Штайнер.
Керн съел бутерброд и выпил рюмку сливовицы. Затем они простились с хозяйкой. Трамвай довез их до Восточного вокзала. В поезде Керн внезапно почувствовал сильную усталость. Стук колес убаюкивал.
Мимо, словно во сне, проплывали фабрики, дороги, трактиры среди высоких ореховых рощиц, луга, поля. Керн был сыт, и это действовало, как дурман. Мысли стали расплываться. Ему грезился белый дом среди цветущих каштанов, торжественная депутация мужчин и женщин, вручающих ему письмо о присвоении звания почетного гражданина города. Потом померещился какой-то диктатор в военной форме. Диктатор стоял перед ним на коленях и, плача, молил о прощении.
Было уже почти темно, когда они подошли к домику таможни. Полицейский передал их таможенной охране и побрел обратно сквозь сиреневые сумерки.
– Еще слишком рано, – сказал чиновник, оформлявший проезд автомобилей. – Дождемся половины десятого – тогда будет в самый раз.
Керн и Штайнер уселись на скамье перед дверью и стали разглядывать подъезжавшие машины.
Вскоре появился второй чиновник. Он повел их по тропинке, уходившей вправо от таможни. Они шли через поле, вдыхая острый запах земли и росы, миновали несколько домов с освещенными окнами и небольшой перелесок. Через некоторое время чиновник остановился.
– Так и идите дальше. Держитесь левее, за кустами вас не увидят! Дойдете до Моравы. Теперь она неглубокая, и вы без труда переправитесь вброд.
На берегу они разделись. Одежду и ручную кладь связали в узлы. Вода в Мораве застоялась и мерцала коричнево-серебристыми отсветами. Небо было в звездах и облаках, сквозь которые изредка проглядывала луна.
– Пойду вперед, – сказал Штайнер. – Я выше тебя.
Они пошли вброд через реку. Керн чувствовал, как вода холодно и таинственно поднимается вверх по телу, словно хочет удержать его навсегда. Перед ним медленно и осторожно двигался Штайнер, несший рюкзак и одежду над головой. В лунном свете его широкие плечи казались совсем белыми. Дойдя до середины реки, Штайнер остановился и обернулся. Керн следовал вплотную за ним. Улыбнувшись, он приветливо кивнул товарищу.
Выйдя на противоположный берег, они кое-как обтерлись носовыми платками. Затем оделись и пошли дальше. Вскоре Штайнер остановился.
– Вот мы и за границей, – сказал он.
Выглянула луна, и в прозрачном воздухе глаза Штайнера стали очень светлыми, почти стеклянными.
– Ну и что? Разве деревья растут здесь по-другому? Или у ветра другой запах? Разве здесь не те же звезды? Разве люди умирают здесь не так, как всюду?
– Все это так, – сказал Керн. – Но все-таки я чувствую себя по-иному.
Они примостились под старым буком, где их никто не мог увидеть. Перед ними расстилался луг. Вдали светились огоньки какой-то словацкой деревни. Штайнер развязал рюкзак и достал из него сигареты.
При этом он посмотрел на чемодан Керна.
– Я считаю, что рюкзак практичнее чемодана. Меньше бросается в глаза. Можно сойти за обычного туриста.
– Туристов тоже проверяют, – ответил Керн. – Проверяют всех, кто победнее на вид. Самое лучшее ездить в машине.
Они закурили.
– Через час я отправлюсь обратно, – сказал Штайнер. – А ты?
– Попытаюсь добраться до Праги. Там полиция ведет себя поделикатнее. Можно без труда получить разрешение пожить в городе несколько дней. Ну а дальше будет видно. Возможно, я разыщу своего отца и он мне поможет. Мне говорили, будто он там.
– Адрес его знаешь?
– Нет.
– Сколько у тебя денег?
– Двенадцать шиллингов.
Штайнер порылся в кармане пиджака.
– Вот тебе еще немного. До Праги дотянешь.
Керн растерянно посмотрел на него.
– Не беспокойся, – сказал Штайнер. – Я себе оставил достаточно.
Он показал несколько кредиток. В тени деревьев Керн не мог разглядеть их толком. Немного поколебавшись, он взял деньги.
– Спасибо, – сказал он.
Штайнер молчал и курил. При затяжках огонек сигареты освещал его лицо.
– Зачем, собственно, ты кочуешь по свету? – спросил Керн. – Ведь ты не еврей!
Штайнер ответил не сразу.
– Да, я не еврей, – нахонец сказал он.
Что-то зашуршало в кустах. Керн вскочил.
– Заяц или кролик, – сказал Штайнер. Затем обернулся к Керну. – Вот что я тебе скажу, малыш. Вспомни об этом, если начнешь отчаиваться. Ты, твой отец и твоя мать – все вы находитесь за границей. И я тоже. А моя жена в Германии. И я ничего о ней не знаю.
Сзади снова послышалось шуршание. Штайнер загасил сигарету и прислонился к стволу бука. Поднялся ветерок. Над горизонтом повисла луна, безжалостная и белая, как мел. В ту памятную ночь она была такой же…
После побега из концентрационного лагеря Штайнер в течение недели прятался у одного друга. Он сидел в запертой каморке на чердаке, готовый при малейшем подозрительном шуме бежать по крыше. В первую ночь друг принес ему хлеб, консервы и две бутылки воды. В следующую – несколько книг. Днем Штайнер читал их – это отвлекало. Зажигать свет или курить – опасно. Для естественных надобностей был горшок, спрятанный в картонную коробку. Ночью друг выносил его, а потом приносил обратно. Оба соблюдали предельную осторожность. Разговаривали немного и только шепотом – рядом спали служанки, которые могли их выдать.
– Мари знает? – спросил Штайнер в первую ночь.
– Нет. Ее дом под наблюдением.
– С ней что-нибудь случилось?
Друг отрицательно покачал головой и ушел.
Каждую ночь Штайнер задавал один и тот же вопрос. Наконец на четвертые сутки друг сообщил, что видел Мари и теперь она знает, где он. Завтра, вероятно, удастся увидеть ее снова. Среди толпы на рынке. Весь день Штайнер писал Мари письмо, которое друг должен был ей передать. Вечером он разорвал все листки. За Мари могла быть слежка. Поэтому Штайнер попросил друга не рисковать и не встречаться с ней больше. Еще три ночи он провел на чердаке. Наконец друг принес ему деньги, билет и костюм. Штайнер постригся, промыл волосы перекисью водорода и стал блондином. Затем сбрил усы. Утром, надев монтерскую куртку и взяв ящик с инструментом, ушел. Надо было сразу же выбраться из города, но сердце подсказывало другое. Целых два года он не видел жену. Он отправился на рынок. Через час она пришла. Штайнер почувствовал дрожь. Мари прошла мимо, не узнав его. Он последовал за ней и, оказавшись совсем близко, сказал: – Не оглядывайся! Это я! Иди, не останавливайся! Иди!
Ее плечи дернулись, голова откинулась назад. Потом она снова пошла, стараясь уловить каждое его слово.
– С тобой ничего не сделали? – спросил голос за ее спиной.
Она отрицательно покачала головой.
– За тобой следят?
Она кивнула.
– И сейчас тоже?
Она колебалась. Затем снова отрицательно покачала головой.
– Я немедленно ухожу. Попытаюсь пробиться через границу. Писать не смогу. Это слишком опасно для тебя.
Она кивнула.
– Ты должна развестись со мной.
На какое-то мгновение женщина замедлила шаг. Затем пошла дальше.
– Ты должна развестись со мной. Завтра же пойди в суд. Скажешь, что хочешь развестись из-за моих политических убеждений. Что раньше ты, мол, о них ничего не знала. Поняла?
На сей раз она не шевельнула головой. Вытянувшись в струнку, продолжала идти.
– Да пойми ты меня, – шептал Штайнер. – Это необходимо для твоей безопасности! Я сойду с ума, если тебя хоть пальцем тронут! Ты должна развестись – тогда они оставят тебя в покое!
Женщина не ответила ему.
– Я люблю тебя, Мари, – тихо процедил Штайнер сквозь зубы, и его веки затрепетали от волнения. – Я люблю тебя и не уйду, если ты мне не пообещаешь этого! Обещай, иначе я снова отправлюсь на чердак! Понимаешь?
Наконец она кивнула. И ему показалось, что этого кивка он ждал целую вечность.
– Так обещаешь?
Мари медленно опустила голову. Ее плечи поникли.
– Сейчас я сверну и поднимусь по правому проходу. А ты сверни налево и пойди мне навстречу. Ничего не говори, ничего не делай! Я только хочу увидеть тебя еще один раз. Потом уйду. Если ничего обо мне не услышишь, значит, я пробился.
Она кивнула и ускорила шаг.
Штайнер пошел вверх по узкому переулку, вдоль мясных лавчонок. Женщины с корзинами торговались у прилавков. В лучах солнца туши отливали кровавым блеском и сверкали белизной. Стоял невыносимый запах. Мясники надрывали глотки. И внезапно все это потонуло. Удары топоров по деревянным чурбанам превратились в тонкий посвист кос. Появился луг, пшеничное поле, свобода, березы, ветер и любимая походка, любимое лицо. Она чуть сощурила глаза и неотрывно смотрела на него, и в этих глазах было все: и боль, и счастье, и любовь, и разлука, а высоко над их головами плыла жизнь, такая переполненная, такая сладостная и дикая! И от такой жизни надо отказаться… С чудовищной быстротой мелькали тысячи поблескивающих ножей…
Они шли и в то же время стояли на месте; шли и не знали, что идут. Потом в глаза Штайнера ворвалась какая-то слепящая пустота, и лишь немного погодя он вновь стал различать краски и весь этот суетный калейдоскоп, бессмысленно вращающийся перед глазами, но не доходящий до сознания.
С минуту он брел, спотыкаясь. Потом ускорил шаг. Он шел насколько мог быстро, стараясь не привлекать к себе внимания. Проходя мимо стола, покрытого клеенкой, он задел локтем свиную тушу. Мясник разразился бранью, а Штайнеру слышалась барабанная дробь. Дойдя до угла мясного ряда, он свернул за угол и остановился.
Штайнер видел, как Мари медленно прошла через ворота рынка. На углу улицы она обернулась и простояла так довольно долго, слегка запрокинув голову и широко раскрыв глаза. Ветер теребил ее платье. Резко обрисовывалась фигура. Штайнер не знал, видит ли она его, но не решился подать ей знак. Боялся, что она чего доброго побежит к нему. Вдруг она подняла руки и прижала ладони к груди. И словно вся она потянулась к нему в болезненном и неосязаемом, слепом объятии, с открытым ртом и закрытыми глазами. Затем она медленно отвернулась, и темное ущелье улицы поглотило ее.
Через три дня Штайнер перешел границу. Ночь была светла и ветрена, а в небе висела луна, белая, как мел. Штайнер был сильным, волевым человеком, но теперь, перейдя границу, обливаясь холодным потом, он обернулся и, глядя туда, откуда пришел, точно лишившись рассудка, произнес имя своей жены.
Он снова достал сигарету. Керн дал ему огня.
– Сколько тебе лет? – спросил Штайнер.
– Двадцать один год. Скоро будет двадцать два.
– Вот как! Скоро двадцать два. Это уже не шутки, малыш. Как тебе кажется?
Керн кивнул в знак согласия.
Штайнер задумался. Потом сказал:
– В двадцать один год я был на фронте. Во Фландрии. Это тоже не было шуткой. Наше нынешнее положение во сто крат лучше. Понимаешь?
– Понимаю. – Керн повернулся. – Конечно, лучше так, чем быть мертвым. Все это я знаю.
– Тогда ты уже знаешь много. До войны мало кто понимал это.
– До войны… С тех пор прошло сто лет…
– Тысяча лет… В двадцать два года я лежал в лазарете. Там я кое-чему научился. Рассказать чему?
– Говори.
– Ладно, слушай. – Штайнер сделал глубокую затяжку. – Ничего особенного у меня не было. Сквозное ранение мышечных тканей. Боли почти не было. Но рядом лежал мой друг. Не какой-нибудь друг. Мой друг. Его ранило в живот осколком снаряда. Он лежал на койке и кричал. Ни грамма морфия, понимаешь? Морфия не хватало даже для офицеров. На второй день он так сильно охрип, что мог уже только стонать. Умолял меня прикончить его. Я бы это сделал, но не знал как. И вдруг на третий день на обед подали гороховый суп. Густой гороховый суп с салом, суп мирного времени. До того нас кормили какими-то ополосками. Ну, мы, конечно, давай жрать. Все страшно изголодались. Жрал и я. Жрал, как давно не кормленная скотина, с каким-то самозабвенным наслаждением. Уплетая суп и глядя поверх края миски, я видел лицо моего друга, его искусанные, разжатые губы, видел, как он умирает в муках. Через два часа его не стало…
А я жрал и жрал, и никогда в жизни ничто не казалось мне вкуснее.
Он сделал паузу.
– Ну и что ж, вы просто здорово изголодались, – сказал Керн.
– Не в этом суть. Тут другое. Кто-то подыхает рядом, а ты ничего не чувствуешь. Ну, допустим, тебе жалко человека. Но боли-то ты ведь все равно не чувствуешь! Твой живот цел – в этом все дело. Рядом, в двух шагах от тебя кто-то гибнет, и мир рушится для него среди крика и мук… А ты ничего не ощущаешь. Вот ведь в чем ужас жизни! Запомни это, малыш. Вот почему мир так медленно движется вперед. И так быстро назад. Тебе не кажется?
– Нет, не кажется, – сказал Керн.
Штайнер усмехнулся.
– Понимаю. И все-таки подумай об этом при случае. А вдруг поможет…
Он встал.
– Мне пора. Пойду обратно. Таможенник вряд ли думает, что сразу вернусь. Первые полчаса он был внимателен. С утра снова будет наблюдать. Но ему никак не догадаться, что я подамся к границе в промежутке, то есть ночью. Уж такова психология таможенников. К счастью, зверь постепенно становится умнее охотника. Почти всегда. И знаешь почему?
– Не знаю.
– А потому, что зверь рискует больше. – Он хлопнул Керна по плечу. – Поэтому-то евреи и стали самым хитрым народом на земле. Запомни первый закон жизни: опасность обостряет чувства.
Он протянул Керну руку, большую, сухую и теплую.
– Счастливо тебе! Может, когда и увидимся опять. По вечерам я часто буду в кафе «Шперлер». Спросишь там меня. – Керн кивнул.
– Ну, ни пуха ни пера! И не разучись играть в карты. Они отвлекают, избавляют от мыслей.
Для людей без пристанища это очень важно. Ты уже неплохо разбираешься в яссе и в тароке. А вот в покере рискуй побольше. Блефуй напропалую.
– Хорошо, – сказал Керн. – Буду блефовать. И спасибо тебе! Спасибо за все!
– От чувства благодарности тебе придется отвыкнуть. Или, впрочем, нет, не отвыкай от него. С ним легче прожить. И не в смысле отношений с людьми, это как раз не важно. Просто самому легче. Благодарность, если только ты способен почувствовать ее, согревает душу. И запомни: нет ничего хуже войны!
– И ничего нет хуже, чем быть мертвым.
– Насчет смерти не знаю. Во всяком случае, хуже умирать. Прощай, малыш!
– Прощай, Штайнер!
Керн посидел еще немного. Небо прояснилось. Вокруг простирался тихий, мирный пейзаж. Пейзаж без людей.
Керн сидел в тени бука и думал о своем. Просвечивающая зеленая листва вздулась, точно большой парус, и казалось – ветер медленно уносит землю в бесконечную синюю даль, и звезды – сигнальные огни, а луна – светящийся буй.
Керн решил попытаться еще этой ночью добраться до Братиславы, а оттуда направиться в Прагу. В большом городе всегда безопаснее. Он открыл чемодан, достал чистую рубашку и пару носков, чтобы переодеться. Он знал, что это важно. К тому же – мало ли кто увидит его. Кроме того, хотелось избавиться от всего, что напоминало тюрьму.
Странное чувство охватило его, когда, обнаженный, он стоял в лунном свете. Вдруг ему показалось, что он маленький заблудившийся ребенок. Он быстро поднял свежую рубашку, лежавшую перед ним на траве, и надел ее. Темно-голубая рубашка практична – не так скоро загрязнится. В свете луны рубашка выглядела серовато-сиреневой. Он твердо решил не падать духом.







